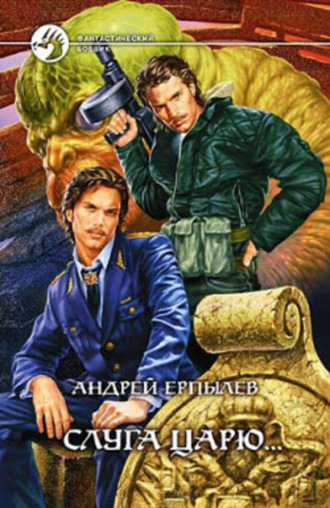
Андрей Ерпылев
Слуга царю…
Светило, катясь в своей извечной колеснице над поверхностью небольшой голубой планеты где-то на периферии Галактики (ее обитателям всегда казалось, что это именно так, а вовсе не наоборот, поэтому не будем отступать от избитого штампа), как раз пересекало самый крупный материк, занимающий большую часть ее северного полушария.
Отражаясь в морях, озерах и реках, освещая обширные равнины и густые леса, переваливая через горные хребты и заглядывая в долины, оно неутомимо продолжало свой бег, даря радость миллионам населявших эту землю людей, встающих вместе с ним и ложащихся спать после его захода…
Если бы границы между странами существовали не в виде условных линий, отмеченных кое-где полосатыми столбами и вспаханными с разной степенью тщательности контрольно-следовыми полосами, а были прочерчены разноцветными линиями, как на географических картах, мы бы поняли, что сейчас оно находится в зените над самым величайшим государством этого мира (и по размеру и по значимости) – Российской империей, вернее, прямо над серединой ее обширной азиатской части.
Да, к слову сказать, в этом мире солнце никогда над Империей и не заходило…
1
Вертолет качнуло, Александр очнулся от дремы (по неистребимой десантной привычке он умудрялся спать всегда, когда предоставлялся случай, даже несмотря на рев двигателя), поглядел на наручные часы, потянулся так, что хрустнули суставы, повертел шеей, морщась от боли в затекших мышцах, и прижался лбом к прохладному стеклу иллюминатора.
Картина за бортом, несмотря на пролетевшие два часа, почти не изменилась: все та же неопрятная рыжая щетинистая шкура, которую и здесь некоторые неисправимые романтики называют «зеленым морем». Как там в песенке? Забывшись, Бежецкий промурлыкал под нос:
– Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги…
– Что вы сказали? – стараясь пересилить шум двигателя, проорал ему на ухо профессор Кристенгартен, сидевший рядом.
– Ничего! – тоже наклонившись к нему, прокричал в ответ Александр. – Восторгаюсь красотами природы!
– О да, да! Таежная красота – это ошень, ошень прекрасно! Вундербар! – пробубнил землисто-бледный немец, всю дорогу тщетно боровшийся с морской, вернее воздушной, болезнью и регулярно, сверяясь с огромным карманным брегетом, явно антикварным, глотавший какие-то таблетки из пестрого аптечного пузырька, жадно запивая их патентованной минеральной водой без газа «Россо-Спа». – Я давно живу в России, но сюда, добирал… выбирал…
– Выбрался? – подсказал Александр профессору.
Несмотря на немецкую педантичность, профессор Кирстенгартен оказался довольно неплохим мужиком, хотя и мог, конечно, служить настоящей иллюстрацией классического жюльверновского ученого, какого-нибудь профессора Бербанка или нелепого Жака Паганеля.
– О да, да! Конешно выбрался! – обрадовался Леонард Фридрихович (бог знает, как его там звали в Германии: Леонард-Фридрих или как-то еще), постоянно и неустанно (не без успеха, нужно сказать) шлифовавший свое русское произношение. – Сюда я еще выбрался в первый раз…
Вертолет снова чувствительно качнуло, и профессор, окончательно позеленев и запнувшись на полуслове, принялся суетливо шарить по карманам, хотя спасительная склянка мирно стояла на откидном столике прямо под его носом, увенчанным монументальными очками в толстенной оправе. Александр перегнулся через острые колени Кирстенгартена, обтянутые клетчатым сукном брюк, модных лет эдак пятнадцать-двадцать назад, дотянулся до флакона, передал лекарство страждущему и снова отвернулся к иллюминатору.
Мало-помалу гипнотическое зрелище медленно проплывающего далеко внизу за толстым стеклом однообразного пейзажа снова навеяло с детства знакомые строчки:
– Летчик над тайгою верный путь найдет, прямо на поляну посадит самолет…
– Что вы сказали? – снова полюбопытствовал Леонард Фридрихович, уже слегка порозовевший после изрядной дозы своего снадобья.
– Да так, господин профессор, фольклор…
– О, русский фольклор – это ошень, ошень интересно!
Бежецкий вздохнул и довольно невежливо прикрыл глаза, чтобы не в меру общительный немец наконец отвязался. С закрытыми глазами, кстати, и думалось лучше…
* * *
Вот и минуло уже более полугода с того памятного дня, как они с близнецом, с Бежецким-вторым (или первым), стояли друг против друга на песчаном берегу близ Стрельни, захлестываемом волнами близкого шторма. Руки сжимали рукоятки пистолетов, и казалось, что вот-вот прозвучит роковой выстрел… Выстрел, а не выстрелы, потому что Александр твердо тогда решил, что сам стрелять не будет или, в крайнем случае, если подопрет «дуэльный кодекс», так и не удостоившийся пристального прочтения «от доски до доски», разрядит свой «токарев» в воздух. Не пришлось, слава Всевышнему…
Не пришлось, потому что их так и не состоявшуюся никогда дуэль прервали. А потом все (как в другой, правда, песне) закрутилось, понеслось… Очень скоро все эти бредни насчет дуэли, выяснения отношений стали казаться нелепым фарсом, буффонадой, баловством двух пресыщенных жизнью великовозрастных мальчишек…
Александра тогда просто-напросто призвали.
Призвали, конечно, не как сопливого пацана, которого приходится отрывать «с мясом» от юбки любящей мамочки, чтобы заставить послужить Родине. Ничего подобного. Призвали сурово и властно, как человека военного, как патриота России, как единственного на тот момент (прочно «съехавший с глузда» Илья Евдокимович – не в счет) прибывшего «оттуда». Призвали перед лицом неизвестной и нежданной опасности, неявной пока и до конца не понятой, возникшей ниоткуда, но угрожавшей самим устоям государства Российского, если не всей Европе, а возможно, и миру подлунному.
Неведомой ранее обоими Бежецкими службой, к Корпусу имевшей довольно поверхностное отношение, как, впрочем и к легендарной и полумифической Службе внешней разведки и к другим подобным организациям, широко известным среди праздной публики по бульварным романам и ханжонковским приключенческим сериалам. Создавался некий отдел, закамуфлированный под сугубо научное учреждение. Да, собственно говоря, научным на девяносто пять процентов он и был… Всего на девяносто пять процентов.
Отдел (неизвестно какого целого, кстати) был призван выявить и всесторонне изучить реальность проникновения в привычный мир извне, а также по возможности отыскать и блокировать все или подавляющее большинство из путей «инвазии»,[1] то есть, попросту говоря, «ворота». Не будет этой возможности – ликвидировать их всеми имеющимися средствами. Вот для этой цели, довольно далекой от науки как теоретической, так и прикладной, существовали лишние пять приземленных процентов.
Опять же неизвестно кем Александр был назначен сотрудником данного отдела с определенными, жестко и внятно прописанными обязанностями и окладом. Денежное содержание хотя и оказалось не вполне сопоставимым с жалованьем дворцового, тем более монарха европейской державы, охранника коим Бежецкому удалось побыть всего каких-то пару недель, но все же в несколько десятков раз естественно, в пересчете на подзабытую уже «деревянную» валюту – превышало скудное (если не выразиться крепче, что, согласитесь, непристойно для данного повествования) довольствие майора воздушно-десантных войск Советской, а потом и Российской армии. Сюда следует добавить служебный транспорт (тоже отнюдь не «жигули»), приличную даже по здешним меркам ведомственную жилплощадь с прислугой, выполнявшей, кажется, кроме своих прямых (и непрямых, хм…) обязанностей функцию негласного надзора за экс-майором, экс-ротмистром, экс-монархом… Да и экс-Бежецким, как оказалось.
Вид на жительство Александру был выписан на имя некого дворянина Нижегородской губернии Александра Павловича Воинова и гарантировал относительную свободу передвижения в пределах Империи. Понятное дело, абсолютной никто и не обещал, принимая во внимание веские причины и разного рода обстоятельства. Ладно хоть имя-отчество сохранили и при этом не каким-нибудь Выгузовым, Череззаборногузадерещенко или Шниппельсоном обозвали, а дали благозвучную фамилию, созвучную «старой профессии».
К минусам, кроме упомянутой выше прислуги, которая, если отбросить вполне презентабельный внешний вид и манеры, весьма напоминала конвоиров, относилось и то, что «новорожденному» дворянину Воинову пришлось некоторое время пожить в некоем Центре, до дна испив чашу страданий подопытного кролика. Чаша сия, дорогие мои господа, была горька-а-а… Но… Оставалось, стиснув зубы, уповать на то, что «кроличьи» страдания на глазах целой армии разного рода научных работников, включая и мучившегося сейчас в соседнем кресле милейшего Леонарда Фридриховича – между прочим, антрополога и настоящего светила в своей области, – не были напрасными, если не для России, то для науки, так сказать, вообще…
Впрочем, никаких кардинальных расхождений между двумя Бежецкими, со своей, антропологической колоколенки профессору Кирстенгартену выявить не удалось, и, устав разгадывать широко известную и здесь головоломку под названием «найди десять (двенадцать, пятнадцать и так до бесконечности) различий», дотошный немец к обоим Александрам охладел. Да-да, второй (или опять же первый?) Бежецкий, ротмистр, князь (вы не ошиблись, с некоторых пор – уже не граф, а князь) и местный уроженец, также был вынужден время от времени отрываться от исполнения своих прямых обязанностей, которых было немало. Командира доблестных лейб-гвардии улан, супруга великой княгини-матери Елены Саксен-Хильдбургхаузенской, а главное, отца и сорегента при благополучно появившемся на свет в декабре прошлого года великом князе Георге-Фридрихе-Эрнсте II, а попросту, по-русски, Гошке, мучили ничуть не меньше его аналога.
К слову сказать, Александру, представленному троюродным кузеном (спасибо гримерам Службы, истинным кудесникам своего дела), довелось четыре с небольшим месяца назад присутствовать при крещении маленького монарха, пока еще сучившего ножками и пускавшего пузыри (да и не только пузыри!) в батистовых пеленках с собственноручно вышитыми счастливой мамашей сдвоенными гербами Бежецких и Саксен-Хильдбургхаузенов. Замечу, что герб Ландсбергов фон Клейхгофов теперь занимал на гербовом щите великого княжества, и так сильно смахивающем на лоскутное одеяло, центральное почетное место, оттеснив предыдущего фаворита – вздыбленного червленого льва на серебряном поле – куда-то на периферию. Чего стоила эта церемония…
Хорошо хоть великая княгиня-мать удовлетворилась невнятным объяснением мужа и ничем не выделила лжекузена из десятков приглашенных на церемонию, милостиво и индифферентно улыбнувшись, протягивая руку для поцелуя. Безмерно довольный появлением долгожданного внука, пусть и не вполне русского, но, несомненного, продолжателя рода, граф Бежецкий-старший, сиявший парадным мундиром и регалиями, попросту не обратил внимания на странного «родственника», маячившего в почтительном отдалении, но матушка… Недаром говорят, что материнское сердце не обманешь. Как ни прятался Александр в дальнем от Марии Николаевны углу, она, временами отвлекаясь от радостных, новых для себя обязанностей бабушки, все равно бросала пытливые взгляды в его сторону. Чтобы не допустить позорного провала, новоявленному Джеймсу Бонду пришлось ретироваться под первым же благовидным предлогом…
Служба же, поначалу казавшаяся чистой синекурой и чуть ли не завуалированной пенсией, мало-помалу становилась все интереснее…
* * *
– Просыпайтесь, Александр Павлович, просыпайтесь! – деликатно теребил за плечо не на шутку разоспавшегося Бежецкого профессор Кирстенгартен. – Просыпайтесь, мы при… э-э… Приехали? Нет, мы прилетели!..
Александр протер глаза и снова поднес к лицу руку с часами. Да, придавил он неслабо! Три часа как с куста!
– Спасибо, Леонард Фридрихович, – учтиво поблагодарил он, в очередной раз едва не сломав при этом язык, и прильнул к иллюминатору.
Пейзаж за окном не особенно изменился, но само поведение вертолета, описывающего теперь над тайгой огромные круги, говорило о том, что пилот сейчас, как в песне, подыскивает удобное для посадки место.
В салоне же царило горячечное оживление. Уныло дремавшие дотоле ученые заметно воспрянули духом: обменивались пространными мнениями, спорили, пытались бегать по тесному салону, раскачивая и без того неустойчивое воздушное суденышко, что в зародыше пресекалось двумя подчиненными Александра, широкими в плечах и к науке имевшими отношение слабое. Двое «научников», расчехлив какой-то сложный агрегат (вся техническая сторона экспедиции лежала вне компетенции Бежецкого), теперь вовсю крутили верньерами настройки и щелкали кнопками напоминавшей компьютерную клавиатуры, уставившись в монитор, бросавший цветные отсветы на их очкастые физиономии. Конечно, вполне могло статься, что два великовозрастных дитяти увлечены какой-нибудь игрой типа пресловутого «Doom'a», но логичнее было бы все же заподозрить высоконаучную деятельность: оклады вышеназванные господа получали отнюдь не аховые, не шедшие даже ни в какое сравнение с уже упомянутым начальственным.
В своей прежней жизни Александр мало интересовался жизнью и бытом всякого рода яйцеголовых, слегка даже презирая всю ученую братию за ее абсолютную неприспособленность к настоящим, мужским, занятиям. Хватило с лихвой знакомства со всякими, неведомо как попадавшими в воздушно-десантные войска маменькиными сынками, носящими, по словам главного матюгальника училища полковника Довганя, очки «с вот такими, п…, стеклами», и с не менее отрешенными от всего сущего офицерами-«годичниками», закончившими какой-нибудь вуз без военной кафедры. Из первых за два года нужно было сделать крепких мужиков, по возможности не допустив при этом причинения вреда самому «воину» (чаще всего – им самим), не говоря уж об окружающих, а со вторыми – запасаться терпением, считая втихаря дни, оставшиеся до дембеля, этих чудес природы. Неизвестно, что думали другие, но Бежецкому всегда было безумно жаль таких жертв всеобщей призывной системы, вынужденных вместо того, чтобы развивать и совершенствовать свое главное достоинство – мозги, сушить их, надрываясь на непосильной и ненавистной для них службе… Все эти наблюдения положительных факторов к уже сложившемуся мнению, увы, не добавляли. К тому же постоянное нытье о недостатке финансирования, мизерных зарплатах, утечке умов…
И вот на тебе – совершенно иной тип жреца науки: без каких-либо комплексов, зачастую спортивный, а наукой своей увлеченный без остатка, без всяких там земных забот! Конечно, если бы всех этих живчиков посадить на грошовое жалованье, отобрать суперпуперские игрушки, погонять на картошку, субботники и военные сборы… Энтузиазма и лоска, наверное, поубавилось бы. Хотя… Не всегда же и здесь, наверное, существовали тепличные условия для ученых.
Закрепленная возле уха Бежецкого электронная цацка, наверняка созданнаятоже кем-то из высоколобых, пискнула и сообщила голосом пилота:
– Площадка для приземления выбрана. Снижаемся…
Вертолет наконец клюнул носом, должно быть решившись, и заскользил вниз к разом выросшим кронам деревьев, вернее к небольшой проплешине сероватого снега между ними, еще и не думавшего таять.
– Прямо на поляну посадит самолет… – допел привязавшийся куплет Бежецкий, когда полозья вертолета коснулись земли и зубы ощутимо клацнули, несмотря на все предосторожности…
* * *
Путь к намеченной цели оказался отнюдь не загородным променадом в выходной день, каким он казался поначалу участникам экспедиции.
Уже через несколько часов лыжной прогулки «научники» заметно выдохлись, что Бежецкий легко определил наметанным за годы службы взглядом. Шуточки и подколки, коими ученые мужи бодренько обменивались в начале маршрута, едва нацепив «снегоступы» под ненавязчивым контролем инструкторов-конвоиров, усиленно прикидывавшихся носильщиками и охранниками, постепенно сошли на нет. Теперь даже по спинам интеллектуалов, запакованным в патентованные куртки на гагачьем пуху, над которыми уже вился парок, легко читалось, что неплохо было бы гадам-вертолетчикам подбросить экспедицию поближе к красному кружочку на карте, являвшемуся конечным пунктом затянувшегося марш-броска. И не иначе злобные вояки теперь потешаются над бедными очкариками, отсиживаясь в тепле и уюте…
Вопреки всем ожиданиям солнце как-то не по-сибирски быстро упало за кроны столетних кедров, и внизу начал стремительно сгущаться полумрак, быстро перетекающий в мрак абсолютный. К тому же к вечеру заметно подморозило, и торить лыжню в рыхлых не по-весеннему сугробах стало трудновато. Четверо идущих впереди профессионалов (двое подручных Александра, конвойный казак и проводник) не могли утрамбовать в достаточной степени снег, стремительно превращавшийся на морозе в подобие речного песка, и то, что творилось за их спинами, не поддается описанию… Чтобы не мыкаться в поисках ночлега в полной темноте, Бежецкий наскоро выбрал более-менее удобную прогалину между стволами вековых кедров и, плюнув на график, составленный, видно, местными «паркетными стратегами», памятными майору ВДВ по прежней жизни, отличающимися всегда и всюду непробиваемым оптимизмом (за чужой счет), скомандовал привал.
– Десять минут перекура, и в темпе готовимся к ночлегу, господа ученые! – пришлось предупредить тех, кто, утомившись до полного истощения своих кабинетных сил, готов был заночевать прямо в снегу, даже не снимая лыж.
Так как явного понимания среди до смерти уставшего научного контингента встречено не было, Александр махнул рукой на этих, за малым исключением, бородатых детишек, жаловавшихся друг другу вполголоса на тяготы пути, злодея начальника – явного солдафона, хоть и без погон – непредсказуемую российскую природу (а чего они, интересно, ожидали от Сибири в марте месяце?) и вообще на мерзость окружающей действительности. Вместе с проводником-тунгусом, «секретарями» и всеми тремя казаками, «злодей начальник» занялся обустройством лагеря. Чуть позже к ним присоединился воспрянувший на свежем воздухе духом Леонард Фридрихович, правда, больше мешавший, чем помогавший, но, тем не менее, пышущий заразительным тевтонским энтузиазмом, а немного погодя и заросший бородой по самые очки приват-доцент Казанского университета Смоляченко.
Специалист по каким-то там малопонятным Бежецкому «квантовым флюктуациям в пи-мезонном поле» (так или очень похоже именовался его научный конек), Леонид Тарасович был истинным разночинцем, сыном многодетного дьячка с Полтавщины, интеллигентом в первом поколении, слава богу, не изнеженным и беспомощным в житейском плане, как почти все остальные. Одним словом, рабочих рук (даже если не принимать во внимание потуги неутомимого Кирстенгартена) хватило, чтобы за полчаса с небольшим, остававшиеся до наступления полной темноты, натаскать гору валежника, запалить поистине пионерский костер и разбить две внушительные армейские палатки, в которых без каких-либо проблем разместилась бы и более многочисленная команда. Положа руку на сердце, следует заметить, что для всей мощной умственным потенциалом, но невеликой числом экспедиции хватило бы и одной, даже с запасом, что, кстати, первоначально и планировалось, но… Еще обсуждая с руководством нюансы предстоящего похода, Бежецкий выразил сомнение в том, что ученые мужи будут довольны соседством с сиволапой охраной, не говоря уже об отродясь не мытом проводнике, и, воспользовавшись длительным раздумьем высоких чинов, проворно выцарапал вторую…
Нелишним сейчас был бы секрет из пары вооруженных автоматическими карабинами Мосина казаков, но по здравом рассуждении Александр отмел эту, очевидно излишнюю, предосторожность, проистекавшую из несколько шизофренической предусмотрительности досыта «нюхнувшего горячего» вояки, отправив несостоявшихся часовых за дополнительным топливом.
«Что за паранойя, майор! – не упустил случая подколоть себя Бежецкий. – Не Афган, не Чечня, в конце концов!..»
Вместе с Леонардом Фридриховичем, воспользовавшимся случаем объяснить симпатичному ему военному суть своей последней работы, краем имевшей к нему, грешному, касательство, но «еще» (о пресловутая ученая наивность!) неопубликованной, они подтаскивали к лагерю солидную корягу, едва-едва выколупанную из огромного сугроба (Бежецкий всерьез опасался, как бы сия штуковина не оказалась крышей берлоги местного лесного хозяина, но, что делать, настырный немец хотел доставить к костру именно ее), когда от освещенных костром палаток потянуло соблазнительным ароматом съестного. Поперхнувшись на полуслове, проголодавшийся антрополог удвоил усилия, и чертова коряга вроде бы сразу полегчала на несколько килограммов.
Глазам топливозаготовителей, едва ли не бегом преодолевших последние метры колючих еловых заграждений, предстала весьма занятная картина: только что умиравшие от усталости «научники» уже сгруппировались у весело постреливающего искрами огня и потирали руки в предвкушении трапезы, подтверждая делом известную всем пословицу о сошке и ложке…
Когда же первый голод был утолен, сам собой, как это бывает сплошь и рядом в сообществах, состоящих из людей увлеченных, завязался разговор, незаметно перетекший в настоящий научный диспут. Уже через пять минут профессор Николаев-Новоархангельский, физик какого-то совершенно специфического направления, громил антинаучную позицию, занятую неким профессором М.
Агафангел Феодосиевич, во всеуслышание заявлявший, что практическая сторона поиска проходов в сопредельные пространства (соблюсти хотя бы формально тайну экспедиции в столь малодисциплинированной компании было невозможно, поэтому на нее почти сразу махнули рукой его интересует мало, держал речь, выпрямившись во весь свой недюжинный поморский рост и размахивая походной алюминиевой ложкой, с которой во все стороны летели горячие брызги похлебки. По его словам, он всеми силами стремится проверить некие понятные ему одному соображения и только по этой прозаической причине принял приглашение присоединиться с данному научному коллективу. Виновник профессорского гнева академик Мендельсон по какому-то напрочь отметаемому докладчиком недоразумению присутствовал тут же и невозмутимо хлебал точно такой же ложкой аппетитное варево, помалкивая до времени. Остальные, заинтересованно поблескивая глазами и очками (в подавляющем, увы, большинстве), поминутно отрывались от процесса поглощения «Супа горохового с копченостями, консервированного», сдобренного консервированной же говядиной «Товарищества Мясниковы и K°» и парой-другой вполне натуральных рябчиков, чтобы вставить либо глубокомысленное замечание, либо высказать категори-ческое несогласие с оратором.
Надо сказать, что рябчики к столу как-то совершенно незаметно для всех остальных были добыты во время дневного марша проводником, упорно сохранявшим инкогнито и прозванным всеми просто Тунгусом. Не отставал в споре от других, преимущественно физиков и математиков, и Леонард Фридрихович. Как мы уже упоминали, сфера его научных интересов – антропология – лежала несколько в стороне от животрепещущей темы, но пересилить себя он просто не мог. Вторил ему вообще непонятно зачем здесь оказавшийся лингвист по фамилии Наливай, абсолютно, по данным его личного дела, придирчиво изученного Александром перед экспедицией, непьющий.
– Я хотел бы отметить очевидную беспомощность гипотезы господина М. относительно возможности разрыва пространственно-временного континуума, в просторечии именуемого многими присутствующими здесь – совершенно дилетантски, между прочим, – проходом, только в области локального пересечения…
– Не могу с вами согласиться, Агафангел Феодосиевич, – облизав ложку встрял Карл Готлибович Логерфельд, не только выдающийся ученый, как и большинство здесь присутствующих, но и член многих уважаемых академий, включая Российскую академию наук. – Гипотеза Михаила Абрамовича, которого вы, что замечу, совершенно недопустимо с точки зрения элементарной вежливости, упорно называете «господином М.», не только не является беспомощной, но, наоборот, весьма и весьма изящной, объясняющей многие нюансы теории сопряженных пространств Феоктистова-Левинзона, известной подавляющей части собравшихся здесь…
Последовал широкий жест почему-то в сторону завороженно слушавших докладчика казаков и проводника, даже забывавших время от времени прихлебывать остывающий в их ложках суп.
По-прежнему сохраняющий молчание академик Мендельсон привстал с места и, перегнувшись своим долговязым телом сразу через несколько голов, ответил на поддержку коллеги крепким рукопожатием.
– И тем не менее, – продолжал витийствовать физик-помор, намеренно не замечая явной иронии академика Мендельсона, выбранного им мишенью для своих эскапад. – Согласно расчетам присутствующего здесь восходящего светила квантовой физики господина Смоляченко, – кивок в сторону засмущавшегося бородатого «светила», как раз в этот момент пытавшегося в третий раз зачерпнуть из котелка «со дна пожиже», – равно как и данным, полученным экспериментальным путем, хм, вашим покорным слугой…
– Именно, – тихонечко подал голос Михаил Абрамович.
Замечание, казалось отпущенное без конкретного адреса, в пространство, вызвало бурный протест со стороны выступающего (другого определения Александр просто не подобрал).
– К чему этот сарказм, господин Мендельсон? – Возмущенный Агафангел Феодосиевич впервые обратился к академику не в третьем лице, а, так сказать, напрямую. – Всем известен ваш, с позволения сказать, метод построения научной гипотезы! Я…
Бежецкий, борясь с коварным Морфеем, отчаявшимся, похоже, вникнуть в суть беседы и начавшим властно склеивать его веки сразу после начала заседания «научного совета», честно пытался уловить нить диспута, все время ускользавшую от него, и с удивлением глядел на казаков, которые, казалось, с пониманием слушали «умные речи», не забывая, впрочем, наворачивать уже далеко не первую порцию (время от времени они отлучались куда-то на минутку, непременно парой, и возвращались, вытирая усы, причем понимания и сопереживания «коллегам» в их глазах добавлялось с каждой ходкой). Даже Тунгус, без сомнения принимающий перепалку «русских шаманов» за какую-то диковинную разновидность камлания,[2] старался не пропустить ни слова, что ясно читалось по его лицу, словно вырезанному из растрескавшегося древесного среза, прихотливой игрой света превращенному в затейливую первобытную маску. Замутненному дремотой мозгу Александра мерещилось, что вот-вот дитя таежной глуши встанет, одернет расшитую бисером малицу из оленьей шкуры, доставшуюся, судя по неистребимому «аромату», еще от деда, если не от прадеда, деликатно откашляется и провозгласит что-нибудь вроде: «Уважаемые господа, здесь собравшиеся…» А господа, здесь собравшиеся, внимательно выслушают нового оратора, ничем не выражая своего удивления тем, что он вовсе не в академической мантии, а… А почему не в мантии? Вот же она, черная и блестящая, наверное шелковая, а на голове вместо привычного невообразимой формы малахая – квадратная ермолка…
Клюнув носом и поймав себя на том, что незаметно отключился, Бежецкий вскинулся и, придав лицу, как он надеялся, нейтрально-вдумчивое выражение, снова попытался вслушаться в научную абракадабру. За столом… тьфу, за костром, за время его невольного отсутствия страсти заметно накалились.
Над костром возвышался уже не один Николаев-Архангельский, а по разные стороны пляшущих языков пламени целых четверо содокладчиков, обвиняюще тычущих друг в друга указующими перстами и сыплющих настолько специфическими терминами, что Александр и прочие неосведомленные слушатели, включая Тунгуса, только хлопали глазами, улавливая лишь отдельные смутно понятные слова: «пространство… разрыв… квант…», естественно, междометия и убийственно вежливые обращения, которыми спорщики гвоздили своих оппонентов. Отбросил свою первоначальную сдержанность и академик Мендельсон, пышущий праведным гневом и, если бы не мешающее этому пламя костра, давно вцепившийся бы в окладистую бороду поморского Эйнштейна. К моменту пробуждения Александра он, видимо, практически разгромил неопровержимыми аргументами своего противника и теперь, набрав воздуха в цыплячью грудь, прикрытую немудрящим свитерком домашней вязки под распахнутой «аляской» (непременно потребовать, чтобы застегнулся, младенец великовозрастный – градусов десять-двенадцать ниже нуля на дворе!), готовился добить его, несколько сникшего, окончательным, хорошо продуманным и выверенным ораторским периодом.
– И наконец, милостивый государь, хочу вам заметить, что…
Что хотел заметить «милостивому государю» оратор, так и осталось неизвестным, потому что где-то, совсем неподалеку, перекрывая и треск костра, многословную перепалку заведшихся не на шутку ученых, раздался низкий, не похожий ни на что протяжный рев, перешедший сначала в горловое сиплое рычание, а затем в визг и замерший на немыслимо высокой тоскливой ноте.
По вмиг побледневшим даже в золотистых отсветах костра физиономиям сразу осевших спорщиков и насторожившейся Тунгуса Александр понял, что голос неизвестного таежного обитателя ему отнюдь не почудился спросонья…
* * *
Невыспавшиеся и, как выразился один из казаков, «квелые» после кошмарного ночлега ученые немного оживились только с первыми лучами неяркого солнышка. Ни о каких диспутах или перепалках уже не могло быть и речи: сил у большинства измотанных бессонной ночью интеллектуалов хватало только на вялое переругивание между собой. Терпеливо понукаемые к выступлению в путь конвоирами в лице Александра и его подчиненных, выглядевших немногим лучше «научников», они бессмысленно бродили по лагерю, капризничали, пытаясь выбрать среди множества одинаковых именно свои лыжи (вчера, обрадованные привалом, все побросали их как попало), поминутно усаживались то покурить, то унять шалившее сердце и, морщась, слизнуть какую-нибудь пилюлю, то переобуть ботинки, непонятным образом перепутанные местами… Дело пошло на лад, когда, переборов в себе усталую апатию, к «административной группе» присоединились профессора Кирстенгартен и Николаев-Новоархангельский и, совершенно неожиданно для Бежецкого, академик Мендельсон.
Как выяснилось вскоре, Агафангел Феодосиевич и Михаил Абрамович в миру были закадычными приятелями, если не сказать друзьями, и конфронтация их имела сугубо научные корни, а вовсе не национальные, как, не разобравшись, можно было посчитать по горячности вчерашнего спора, которому только вмешательство таинственного «ревуна» помешало совершенно закономерно перетечь в не красящую никого потасовку.







