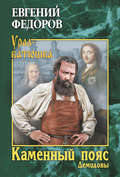Евгений Александрович Федоров
Ермак. Том I
– Смотри, смотри, как течет кровь из жил и как свернулись мускулы. Вот как надо писать на картине! Всегда показывай истину! – Хункер тянулся к голове, глаза которой уже начали меркнуть. Он жадно принюхивался к запаху крови. Литовцу показалось, что уши раба еще слышат, что глаза его видят, – так глубока и безмерна была печаль, которая еще светилась в них.
– Теперь видишь, чем грешит твое изображение! – сказал поучительно султан.
Посол тяжело дышал, его мутило, но он превозмог слабость и сказал хункеру:
– Ты – истинно мудрейший из царей и величайший знаток искусства! Теперь я вижу, сколь велики твои знания!
Селим скосил глаза на визиря.
– Уведи их! – кивнул он в сторону художника и палача.
В зале, где еще дымилась теплая кровь, сгустками застывшая на пестром бухарском ковре, не обращая внимания на все это, султан спокойным голосом предложил литовцу:
– А теперь поговорим о деле!
Посол низко склонился перед хункером и снова помахал шляпой перед собою:
– Мой король, а ваш брат повелел мне припасть к стопам вашего величия и пожелать вам здоровья.
Султан благосклонно спросил:
– Как чувствует себя наш брат и друг? Мы всегда думаем о нем и муллам наказали возносить молитвы за него.
Посол поклонился:
– Хвала премудрому, виват великому, благодарствую и счастлив поведать, что король радуется верной дружбе и печалится лишь тогда, когда московиты становятся дерзкими и неучтивыми!
– Я покончу с их дерзостью. Так велит мне аллах и пророк наш! – блеснув глазами, решительно сказал хункер. – Я повелел воинам нашим положить предел проискам московского царя!
Посол повеселел. Избегая ступить на пятно крови, он поближе придвинулся к султану и озабоченно воскликнул:
– Можно ли позволить так беспокоить себя из-за русских холопов? Король, брат твой, огорчен, что караванные дороги с Запада на Восток перехвачены московитами в Астрахани…
Селим величественно подбоченился и самоуверенно сказал:
– Астрахань будет наша. Это так же истинно, как солнце на небе!
– Хвала великому и мудрому! – льстиво выкрикнул посол.
Визирь утомился стоять: слишком долог и беспокоен день.
Солнце за стрельчатым окном склонилось низко, и от опахал нубийцев на полу лежали длинные тени. Он подобострастно смотрел на султана, готовый выполнить любую его волю, но в то же время думал о своем: «Литовец оказался скуп на подарки, и хункер слишком долго с ним разговаривает! И стоило ли вызывать ученых и просвещать неверного!»
Между тем посол сыпал самые напыщенные похвалы мудрости султана, уговаривая его ускорить поход на Астрахань. Визирь тяжко вздохнул и, воспользовавшись мгновением, когда посол замолчал, еле слышно шепнул:
– Великий аллах да ниспошлет отдых мудрому… Зюлейка…
Султан нахмурился, завертелся на подушках, вспомнил о быстроглазой юной наложнице из Таврии и стал рассеян. Посол догадался, что аудиенция закончена.
2
Тихий вечер спустился на долину, в которой расположился Бахчисарай – столица крымских ханов. Взойдя на высокие, стрельчатые минареты, жемчужно белевшие среди яркой зелени садов, муллы призывали правоверных мусульман к вечерней молитве, гортанными голосами провозглашая символ ислама: «Ля иляга илля ллагу!»
Все предвещало покой и сладостный сон. Девлет-Гирей совершил положенное омовение и забрался на крохотный балкончик, откуда, скрытый частой решеткой, с вожделением наблюдал за женами и наложницами, купавшимися в бассейне, расположенном среди сада. Зоркими глазами хан отыскивал среди них полонянку, привезенную татарскими наездниками с Дона.
Над круглой купальней колебались белые нежные облака, – пенились цветущие кусты черемухи. Под ними, в дожде лепестков, сидела сероглазая, круглолицая и тонкая, как тростинка, девушка в желтом шелковом халате. Сбросив расшитые серебром чувяки и наклонившись к воде, она, любуясь собою, заплетала пышные русые косы. Ах, какие косы! Пожилой хан залюбовался стройной красавицей, забыв обо всем на свете.
«Но зачем она так тоскливо запела? – огорченно подумал он. – Что только смотрит старая карга Фатьма? Для чего она приставлена к ней? Зачем дает она прекрасной гурии так тосковать?»
Голос полонянки звенел тихо, нежно, как звучит в жаркий полдень ручеек. Девлет-Гирей знал русскую речь и понимал толк в плясках и пении. О чем жалуется полонянка? Хан притаился и слышал учащенные удары своего сердца. Казачка пела-жаловалась:
Я вечор гуляла во зеленом саду
Со своею государыней-матушкой.
Как издалека, из чиста поля,
Как черны вороны, налетывали.
Набегали три татарина-наездника.
Полонили меня, красну девицу.
Повели меня во чисто поле…
Нет, это невозможно слушать! Хан встрепенулся, закашлялся, он был недоволен.
«Надо сказать этой старой дуре Фатьме, чтобы отучила полонянку петь такие песни! – раздраженно подумал хан. – И что за имя – Клава Кольцо? Странные у московитов прозвища: Заяц, Волк, Кольцо!..»
Расстроенный Девлет-Гирей выбрался из своего укрытия и прошел в опочивальню, у порога которой ожидал раб Абдулла – поверенный всех сердечных тайн хана. Повелитель хотел сказать ему о своем неудовольствии, но слуга опередил его. Одутловатое желтое лицо раба было встревожено, он беспокойно взглянул на хана и тихо сказал:
– На небе солнце, а на земле ты самый счастливый из смертных. Великий хункер сподобил тебя своим фирманом, чауш только что прибыл из Стамбула и ждет тебя, мудрый хан.
Девлет-Гирей вздрогнул:
– Гонец? Что же ты молчал?
Раб упал ниц и жалобно заголосил:
– Прости, благородный и великий хан, не смел нарушить твоих размышлений…
«Поход на Астрахань!» – сразу догадался Девлет-Гирей и, чтобы отдалить неприятную весть, сказал:
– Вели накормить гостя из моих блюд и напоить из моих сосудов!
Всю ночь не мог заснуть хан. Мысли о полонянке отлетели, их сменили другие, тревожные и опасные. Девлет-Гирей понял, что ему не избежать похода. Хункер Селим коварен, мстителен и жесток. Хан прошелся по опочивальне, добыл ларец, извлек из него бараньи кости. Раб Абдулла, лежавший у порога, подобно сторожевому псу, быстро вскочил: он догадался, – повелитель будет испытывать свою судьбу.
– Раздувай огонь на жаровне! – повелел хан рабу.
Среди обширного покоя стояла жаровня с холодными углями. Повелитель любил смотреть на раскаленные угли и нередко среди ночи заставлял раба раздувать мангал[13].
Раб быстро вздул огонь, и угли один за другим стали желтеть; прошло мало времени, а на жаровне уже лежала груда раскаленного золота, охваченного синеватыми струйками легкого пламени. По опочивальне от него шло тепло и легкий угар. Хан бросил на красные угли бараньи лопатки, а сам улегся на диван и вскоре задремал.
Когда он открыл глаза, в распахнутые окна глядело черное бархатное небо с крупными яркими звездами, слышался заглушенный лепет струйки, сбегавшей из родника в купальный бассейн. Девлет-Гирей потянулся и вспомнил:
– Кости!
Раб быстро разгреб потухшие угли, и на дне мангала, из золы, добыл бараньи лопатки, потемневшие, но крепкие и целые. Хан повеселел, гаданье успокоило его, – в поход можно было идти без опасения.
Однако утром Девлет-Гирей хоть и льстиво принял султанского чауша, но все же пожаловался на тяжести и опасности пути в безводной степи. Он сунул чаушу кожаный мешочек с дарами и снабдил его письмом к хункеру.
Жаловался и печалился хан, что туркам ни зимой, ни летом нельзя идти на Астрахань. Зимой в степях свирепствуют страшные вьюги и жестокие морозы, и турки все померзнут. Летом травы в степи сгорают от солнца, источники пересыхают, и войска погибнут от безводья. И еще устрашал Девлет-Гирей турского султана:
«У меня верная весть, что московский государь послал в Астрахань 60 000 войска, если Астрахани не возьмем, то бесчестье будет тебе, а не мне, а захочешь с московским царем воевать, то вели своим людям идти вместе со мною на Московские украины, если которых городов и не возьмем, то, по крайней мере, землю повоюем и досаду учиним».
Надеясь на щедрые поминки, но сильнее всего боясь турецкого соседства, Девлет-Гирей послал гонца и к царю Ивану Васильевичу оповестить его о том, что турецкие войска готовятся идти под Астрахань, и было бы, дескать, лучше, если бы царь отдал султану Астрахань добром.
Гонец быстро вернулся и поминок на этот раз с собой не привез.
Царь московский отвечал Девлет-Гирею решительно и сердито:
«Когда то ведется, чтобы, взявши города, опять отдавать их?»
Одна за другой последовали неудачи. Хункер Селим не внял предостережениям и отправил в Кафу[14] пятнадцать тысяч спагов и две тысячи янычар, вручив начальство над ними Касим-паше. Девлет-Гирею оставалось покориться воле султана. Выделив пятьдесят тысяч конников, он приготовился к походу.
3
31 мая 1569 года Касим-паша тронулся в донские степи. Огромная конная и пешая рать потянулась из разных направлений к Переволоке. Из Азова шли турки-янычары на своих лохматых выносливых конях. Татары пересекли Перекоп и держали путь на станицу Качалинскую. Туда же из Азова поплыли турецкие каторги[15], груженные пушками, зельем, снарядами и богатой казной. Гребцами на судах сидели две с половиной тысячи невольников, среди которых было много русских полонян. Их охраняли от побега всего полтысячи турок. Плыли против течения, добирались медленно. И полоняне все ждали, – вот-вот наскачут русские и отобьют их. Но пустынна была степь, безмолвными лежали на берегах казачьи городки, покинутые станичниками. Янычары и спаги двигались вдоль Дона по изумрудному ковру трав, который распахнулся перед ними от горизонта до горизонта. Конские копыта беспощадно попирали необычайной красоты узоры, расцвеченные белыми, красными, желтыми тюльпанами. Орда привыкла к пестроте степных просторов, к ясному бирюзовому небу, к ласковому солнышку, к аромату трав, к радостной песне жаворонка и, не замечая всего этого, лилась, как шумящий мутный поток, смывающий все на своем грозном пути. Там, где прошли всадники, оставалась пустыня. Позади орды сиротливо лежала оскверненная земля, вились тучи дыма, пустыми оставались колодцы, и убегало все живое – зверь и птица. Только вчера ковыль кишел разной дичью: дрофами, перепелами, журавлями, – сегодня позади ордынских коней над испепеленной землей простерлось безмолвие. Даже рощицы и береговые заросли исчезли. Недавно над Доном, раскачивая густыми кронами, шумели пахучая черемуха, ольха и вяз, а сейчас ветер разносил пепел потухших костров. Вот здесь, на перепутье караванных дорог, приветливо лепетала листвой густая рощица, и у прозрачной кринички в знойный полдень спасались караванщики и становились на отдых пастухи с овечьими отарами, теперь тут осталось обезображенное место и грязная лужа. И когда погасал закат, спускался вечер в пелене туманов и поднимался багровый месяц, а на землю ложилась обильная крупная роса, тогда казалось, что вся донская степь плачет горькими слезами в большом горе.
Впереди янычар, в окружении многочисленной охраны, в золоченом паланкине, водруженном между горбами высокого верблюда, восседал Касим-паша, безмолвно и равнодушно взиравший на степи. Мягко шлепая по пыли большими ступнями, подняв змеиную голову, верблюд с презрительным выражением важно нес своего господина. За верблюдом, раскачиваясь, шел второй, неся на спине голубой паланкин, а из-за шелковых складок его порой выглядывали жгучие глаза любимой наложницы Касим-паши.
Казалось, орды движутся среди безбрежной и безмолвной пустыни, но за ними зорко следили сотни настороженных глаз. Казачьи ватажки, скрываясь в балках, неустанно стерегли врага. Гортанный говор, ржанье коней, свист стрелы, пущенной из тугого лука, – все, все, что исходило от врага, было ненавистно и сжимало сердце. И каждое движение орды было слышно чуткому уху казака.
Ермак, крадучись, с полусотней шел следом за дикими всадниками, сметавшими все на пути. И горько-горько становилось на душе казака, когда впереди подымались густые клубы дыма, – ордынцы жгли встречную станицу. Завидев зловещее зарево, Ермак сумрачно сдвигал брови. Он недавно появился в Диком Поле, но сердцем, всем своим существом чувствовал, что это своя, русская, на веки веков русская земля! Заслышав плач, Ермак нещадно нахлестывал коня, и горе было ордынцу, если он отставал с захваченными полонянками, – казаки беспощадно рубили хищников. Лицо Ермака бледнело, глаза туманились, когда он видел за конем ордынца заарканенную казачку с распущенными по ветру волосами; он весь наливался кровью и, налетев на своем дончаке на врага, со страшной силой опускал тяжелую саблю на голову насильника.
Казачья полусотня уничтожала турок где только могла. Она подстерегала врага всюду – на перелазах, у водопоев, на пастбищах. Турецкие янычары жаловались Касим-паше:
– Шайтан казак: есть он тут и нет его! Откуда берется шайтан? Нельзя отойти в степь, нельзя напиться из колодца, совершить омовение, нельзя нарубить дров для костра! Велик аллах, мудр паша, помоги нам! Многомилостивый и храбрейший посланник хункера, разреши повернуть коней в степь и потоптать казаков!
Касим-паша, словно коршун на высоком кургане, держался неподвижно, замкнуто и молчал. Он понимал, нельзя уходить за казачьими сотнями. Разве поймаешь дым в голубом небе: он всклубится и растает; так и казачьи ватаги, – они есть сейчас, но они рассеются, чтобы заманить янычар в болота.
На привалах, у голубого Дона, ставили золотой шатер для Зулейки, и Касим-паша уходил в него. Он садился на пуховики, тянул из кальяна ароматный табачный дым, слушал песни и смотрел пляски наложницы.
На донских просторах буйствовала весна. Степь зеленела, гудела, пела многочисленными голосами налетевшей отовсюду птицы, травы наполняли воздух благоуханием, и полуобнаженная Зулейка ах как хорошо плясала! В сердце старого паши проснулась молодость, но лицо его продолжало сохранять высокомерие и самодовольство.
Сегодня янычары прошли небольшим полем и потоптали его. Касим-паша вспомнил об этом и похвастался:
– Русский народ над полем потел, а наш конь его пшеницу съел. Слава аллаху!
Плохо понимал Касим-паша военные дела, не знал, не ведал он Дона! Равнина, синяя река, курганы, ковыль и среди него черепа коней. Это на первый неопытный взгляд. Но Девлет-Гирей, крымский хан, знал, что в этом необъятном просторе раскинулись глубокие речные долины, бесконечные овраги, балки, сплошь покрытые непролазными кустарниками, местами – черными и красными лесами, а то и топкими болотами. Низины пропитаны водой, обильно заросли шумным камышом, над ручьями непроглядные талы, на поймах – высокие сочные травы.
Мстителен Дон, неуступчив Дон! Много заросших стариц, много проток, рукавов, огибающих бесчисленные острова. И везде, во всех этих тайниках, глушицах, – казачьи становища, юрты, скрытые городки.
И не видно глазу врага, что таятся в них и готовятся к схватке казаки.
На майданах деды-рылешники[16], седые, слепые, бородатые, пели о ратных подвигах казаков, о битвах с неверными среди ковыльного моря, о богатырях-станичниках, омывших своей кровью крутые берега Тихого Дона.
Тут, на майдане, и встретил Ермак молодого смуглого казака с большими грустными глазами.
– Ой, диду, спой мне про татарскую неволю! – попросил печальный казак сивобородого старика.
Дед-рылешник вслушался в голос и сказал ободряюще:
– Чую, со мной гуторит ладный казак. Крепок, а затосковал. Не впервое басурману приходить на Дон: ох, и сколько костей всегда оставлял тут враг!
– Не о том кручинюсь, дид, – покорно отозвался казак. – Сестру нехристи в полон за Перекоп увели. Кипит моя кровь…
Внезапно на плечо казака опустилась крепкая рука и раздался уверенный голос:
– А коли кипит, бить надо супостата, в землю вгонять нечисть! Как звать, молодец?
Станичник оглянулся. Перед ним стоял кряжистый чернобородый казак с веселыми смелыми глазами.
– Иваном зовут, по прозвищу Кольцо.
– Ну, Иванушка, садись на коня и едем в Поле. Едем, братик, одной веревочкой, видно, связала нас судьба, вместях и татар бить!
– Что правда, то правда! – сказал дед-рылешник, огладив длинную бороду, и предложил: – Я вам бывальщину спою…
Не послушали казаки бывальщину, поседлали коней и заторопились в степь. Ехали-скакали рядом. Ермак пристально поглядывал на товарища. Высок, глаза большие, карие, густые темные брови. Из-под шапки вьются кудри. На коне сидит лихо, поведет плечом, – чувствуется сила. Орел!
На западе догорала заря, обозначился тонкий серп месяца. Стало быстро темнеть, и в ковыле закричали перепела: «Кваква, пить-полоть, пить-полоть…»
Где-то в камышах, в глухом озерке им отозвался бучень: «Б-ууу, б-у-у-у…»
Затрещали кузнечики, в небе появилась первая звезда, за ней вспыхнуло и заиграло семизвездие. Ночь, благостная, теплая, опустилась на донскую степь. И как только стемнело, на перепутье выбежал огромный серый волк, понюхал порубленное тело ордынца и, сев на задние лапы, тоскливо и протяжно завыл, сзывая стаю на пир. И далеко по степи раздалась страшная песня зверя…
Казаки спугнули серого и понеслись по ковылю: скакали по просторам, продирались через заросли, оставляли позади курганы, держали путь на зарево костров.
В этот вечер, тихий и благоуханный, к Переволоке подошла орда и раскинулась станом в широкой балке, уходящей к Дону. Месяц заливал все серебристым светом. У излучины ржали кони, где-то неподалеку кто-то забивал прикол для иноходца, и сотнями золотых звезд горели огни во тьме. У костров возились люди…
– Турецкий стан, – шепнул другу Ермак. – Тут и высмотрим все!
Казаки спешились, укрыли скакунов в густом тальнике, а сами уползли в ковыль. Вот и край овражины, темные кустики. Затаив дыхание, донцы залегли. Ермак чутко прислушивался. По степи разносился еле слышный топот; но прислони ухо к родной земле, и она все расскажет казаку. Оберегая стан, кругом рыскают ордынские разъезды.
Прямо огромный костер, на нем черный закоптелый котел, – татары варят махан. Гортанный говор нарушает тишину. Ордынцы пьют кумыс[17], покрякивают, похваляются, полами пестрых халатов утирают потные лица.
Прямо за большим огнищем – золотой шатер, полы распахнуты. На пуховиках сидит Касим-паша. Золотится огонь, отблески его сверкают на парчовой одежде паши, а над логом раскинулся через небо жемчужный пояс Млечного Пути.
Ермак видит… На пестром ковре в шатре бесшумно движется в пестрых шальварах и зеленых сапожках смуглая наложница. Слышен повелительный голос Касим-паши, но слов не разобрать. Казак сплюнул и хмуро подумал: «Эко, воин, идет на Русь, а с бабой нежится! Ему бы, старому, дома сидеть!»
Иван Кольцо вынул стрелу, приложил к тетиве. Не миновать тебе беды, старый коршун! Ермак глухо ахнул: оперенная стрела с визгом пронеслась через костер и пронзила шатер. В эту минуту наложница заслонила Касим-пашу, и стрела угодила ей в сердце. Обливаясь кровью, Зулейка упала на ковер. Старый паша трусливо оглянулся и захлопал в ладоши. Набежали янычары, закричали, указывая в темноту. Ермак понял, что пора уносить ноги. Бесшумно уползли казаки; когда сели на коней и унеслись далеко за курганы, Ермак сказал:
– Люб ты мне, Иван, но горяч и хочешь взять врага срыва. Коли бить, так надо бить наверняка!
Кольцо не сразу отозвался, потом схватил Ермака за руку.
– Кровь взыграла, верь мне, другой раз не промахнусь!
Они выехали на возвышенность, и перед ними опять показались бесчисленные огоньки в степи.
4
15 августа турецкие суда подошли к Переволоке и стали сгружать арбы, заступы, пушки, ядра к ним, порох, свинец, мотыги, кирки и мешки. Над Доном носились потревоженные чайки. Ржанье коней и людской говор гулко разносились по воде. Касим-паша и Девлет-Гирей в сопровождении мурз выехали в степь. Указывая на восток, в ту сторону, где текла величавая Волга-река, паша сказал:
– Велик путь до Итиля, но сбудется воля мудрого из мудрейших, великого хункера Селима, – соединим две реки, как двух сестер. Ройте канал и по нему пойдут наши каторги и поплывут воины…
Девлет-Гирей ухмыльнулся в бороду, подумал: «Не исчерпать воду из Дона, не перетаскать землю на таком просторе, который под силу одолеть только доброму коню!» Однако он промолчал и победоносно поклонился Касим-паше.
Ранней зарей на необозримом пространстве степи вытянулись тысячи копачей с мотыгами, заступами и приступили к прокладке канала. Пронзительным скрипом оглашали степь большеколесные арбы, на которых отвозили землю. Орды татар относили землю в полах халатов, в походных сумках. К полудню солнце поднялось высоко над раскаленной равниной, оно палило, жгло, изнуряло зноем. Сбросив одежду, полуголые воины Селима с рвением били в землю кайлами, вгрызались в нее заступами; пыль клубилась над ратью, смешиваясь с дымом костров, на которых в больших котлах ордынцы варили конину. Воду для питья брали из Дона, но берега его подстерегали врагов. Стоило турку или татарину ступить в воду, как из камышей с визгом вырывалась стрела, и горе было ордынцу – он падал, сраженный насмерть!
Касим-паша вышел из золотого шатра и, указывая на сизое марево, уверял:
– Терпите! Туда польются воды древнего Танаиса![18] И там, где гуляли суховеи, воины Селима напоят коней! Так угодно аллаху, да будет благословенно имя его!
В клубах пыли и дыма солнце казалось багровым; истомленным землекопам было впору ложиться и умирать на этой жаркой, высохшей земле.
«Нет, не вырыть нам канала! Не видать больше берегов Понта!» – в отчаянии думали они.
Весна давно отошла. Под жарким солнцем поник и высох ковыль. Затихли на гнездовьях птицы, не пели больше в голубой выси жаворонки. Ближние родники пересохли, а на дальних подстерегали казаки. Не исчерпать море ложкой, – так не перетаскать и землю на Переволоке горстями. Не бывать тут голубым водам.
Касим-паша смутно догадывался теперь, что изнуренное войско его ляжет костьми, но повеление хункера останется неосуществленным.
Турки кричали своему военачальнику:
– Надо уходить, пока не поздно! Тут спалит нас солнце и погубит жажда. Пойдем к реке Итиль, на Астрахань, прямо через степи!
Бывалые воины и янычары жаловались Касим-паше на казаков, тревоживших орду со всех сторон, и просили воли разделаться с ними.
Летний день долог и бесконечен в тяжелом труде, трудно дышится на раскаленной земле, налетает тучами овод и жалит измученное тело; вода мутна и тепла – не утоляет жажды, ветры утихли, и нет прохлады. Повяли и засохли травы, воздух наполнился смрадом, так как стали падать кони, раздутые туши которых не убирались. Воды Дона застыли в неподвижности и не умеряли жар.
Русская земля встретила ордынцев негостеприимно. А в одну из ночей на темном горизонте змейками пробежали огоньки, вспыхнули жаркой полоской и стали шириться, расти, и вскоре коварные языки пламени заиграли на черном небе. Они становились то ярче, то бледнели и замирали, то вспыхивали и тянулись к звездам.
– Аллах всемилостивый, степи горят! – закричали в таборе турки. – Казаки жгут сухой ковыль! Смерть! Смерть!
Из шатра вышел толстый Касим-паша и заплывшими глазами уставился в синие огоньки. Турки закричали ему:
– Куда ты привел нас? Мы ищем воду, а нас самих скоро пожрет пламень!
Паша перетрусил, хмуро молчал. Следом за ним из шатра вышел Девлет-Гирей, и его звонкий голос разнесся вдоль Переволоки:
– Вы бабы, а не воины! – закричал он. – В степи каждый год огонь, джигиты всегда жгут посохшие травы, чтоб в рост пошли новые, молодые. Огонь дойдет до ручья, и конец ему!
Небо побагровело, языки пламени тянулись вверх, плясали и торопились. Видно было, как в их багровом отсвете летали потревоженные птицы. Было и красивое, и страшное в жарком степном пожаре.
Огненная лавина все ближе и ближе. Тревожно заржали кони в табунах и, перепуганные, развевая гривы, понеслись к табору, опрокидывая и ломая все на пути.
Огонь совсем рядом, рукой подать, но пламя вдруг стало ниже. На берег реки в синей дымке легко и грациозно выскочила косуля. Ее бока при дыхании бурно вздымались. Она подняла на длинной шее голову с небольшими рожками и на мгновение застыла. Чуть-чуть, еле заметно поводила высокими прямыми ушами.
Тут и Касим-паша встрепенулся, взмахнул рукой, – ему услужливо и быстро подали лук и стрелу с блестящим острием. Он проворно схватил их. Глаза паши по-юношески сверкнули, и он немедля нацелился в прекрасное животное.
Но что случилось? Или дрогнула рука старого воина, или глаза изменили ему – стрела просвистела мимо, испуганная косуля взметнулась и, как видение, исчезла. Касим-паша, бледный, расстроенный, вернулся в шатер и упал на пуховики.
Тщетно утешала его новая наложница, молодая с дикими глазами татарка, он стонал и горестно думал: «Позор, позор! Кто теперь из воинов поверит в мою силу?»
В стане всю ночь не могли успокоиться, гомонили, спорили и только легли, а на востоке уже забрезжил рассвет. Всем казалось – рано, очень рано пришло утро. Солнце из-за гребня увала только брызнуло лучами, а уже защелкали бичи – спаги поднимали людей на работу.
При ярком солнечном сиянии страшной выглядела степь. И откуда только снова появился резвый ветер? Он гнал на работающих тучи едкой золы; она проникала в легкие, скрипела на зубах и покрывала потные бронзовые тела. Еще жарче, невыносимее жгло и терзало солнце, еще изнурительнее стала работа!
В третьем часу пополудни от жгучей жары упал один из копачей канала. Он лежал почерневший, с открытыми глазами, уставленными в белесое небо. К вечеру легло костьми в пыль еще десять копачей.
Касим-паша велел перенести его шатер к Дону – тут легче дышалось и не так тревожили крики недовольных воинов. Но и здесь он не находил душевного покоя; рядом, на воде, уткнувшись носами в берег, неподвижно стояли ладьи, а в ладьях чего-то зловеще ждали невольники.
Они злобно смотрели на. золотой шатер, и Касим-паша сам слышал, как бородатый русский полоняник громко сказал;
– Не дойдут они до Астрахани, все передохнут тут! А коли и дойдут, то царь Иван Васильевич нашлет на орду свое войско, и тогда берегись, бритая башка!
Касим-паша от ярости сжал зубы. Он проучит этого раба за его дерзкие слова! По его приказу привели полоняника, скованного по рукам и ногам цепями. Он был невысок ростом, худ телом, бороденка всклокочена. Жалок человек, тщедушен, а глаза упрямые. Он не упал на колени перед пашой и не взмолился.
Турок засопел, уставился на него злыми глазами.
– Ты кто? – спросил он по-турецки.
– Я – Семен Мальцев, посол государев! Ехал из ногайских улусов, напали ордынцы, ограбили, изранили и в полон захватили. Повели освободить, иначе Русь за меня стребует с салтана!
Касим-паша презрительно улыбнулся в бороду, промолчал. Глаза его жгли русского, но тот спокойно продолжал, показывая на изувеченные руки:
– Гляди, что сталось! Гребцом на каторге был: и жаждал, и голодал, и страждал. Доколе так со мною будет?
Он говорил так смело и гордо, что казалось, будто сам паша у него в рабах. Руки полоняника перевязаны лохмотьями, и на них засохла, заскорузла кровь.
– Я прикажу срубить тебе голову! – сказал Касим-паша.
– Мою срубишь, твою в уплату Русь достанет! Салтан царю тебя выдаст! – громко ответил русский.
– Ух, шайтан! – сжал кулаки турок и закричал: – Много ли тебя есть – хил и слаб, раздавлю, как червя!
– Сколько есть, весь тут! Умучить думаешь – не боюсь. Русь сильна!
Он смотрел в глаза паши смело, и Касим чувствовал в его взгляде непокоримую и непреодолимую силу. «Таких не сломишь! – с досадой подумал он и рассудил про себя: – Кто знает, что будет впереди, может и пригодится в игре этот пленник?» И сказал паша:
– Я прикую тебя к пушке, и ты не сбежишь, пойдешь с нами раскаленными степями к Астрахани!
– Что ж, спасибо и на этом! – спокойно ответил русский. – Ведь и Астрахань – наша родная, русская землица!
Касим-паша захлопал в ладоши, мгновенно появились два рослых спага и схватили полоняника. Они увели Семена Мальцева и приковали его к пушке, а каторги с гребцами-невольниками увели книзу, поставили подальше от золотого шатра.
Работа по рытью канала невыносимо изнуряла войско. Только скрывалось солнце и гасла заря, люди, еле утолив голод, валились на землю и засыпали в тяжелом сне.
И тут пришла тревожная пора: от утомления засыпали не только землекопы, часто находили сонной и стражу.
Стояли безлунные ночи. В лагерь врывались конные казаки. Бесшумно, словно тени, проникали в стан и резали сонных ордынцев, янычар и спагов. Когда всходило солнце, Касим-паша падал на коврик и молился аллаху:
– Великий и всемогущий, побереги мою жизнь. Что творится на этой проклятой земле! Может, и в самом деле уйти степью?
Он советовался с ханом Девлет-Гиреем. Тот упорно молчал, а когда открывал уста, то Касим-паша слышал:
– Я советовал мудрейшему и великому хункеру Селиму не спешить с Астраханью. Русь хитра! И кормов в степи мало, а зимой тут гололедица и бескормица, будут гибнуть люди и кони…
Глаза хана, черные и лукавые, непроницаемы.
«О чем думает он? Может быть, играет двойную игру? – тревожился паша, но строгое и невозмутимое лицо Девлет-Гирея внушало доверие. – И не его ли крымчаки тут же с нами страдают?» – успокаивал себя Касим-паша.
А в эту самую пору Ермак с казаками напирал на Андрея Бзыгу:
– Турки пристали, изверились, они чуют, что канава станет их могилой. Степи пожжены, нет корму для коней. Всем скопом навалиться на них и посечь-порубить врага саблями!
Выставив дородный живот, атаман хмуро разглядывал станичников.
– Чи вы посдурели вси, чи хмельные! – сердитым басом гудел он. – Их хмара, а нас сотни. Рук не хватит порубать. Терпеть надо!
– Чего терпеть, ежели сердце огнем пылает! Земля поругана, казачество ждет! На реке Дону более двух тысяч полонян на каторгах гребцами, нас ждут не дождутся. Подай руку, вместе подымутся и будут орду бить!
– Нельзя! Слушать меня, атамана, казаки! – закричал Бзыга.
Ермак и Кольцо ушли с майдана мрачными.
«Не тот атаман! – думал Ермак. – Кому служит, не разберешься!» – И не утерпел, ударил себя в грудь:
– Мы же русские!
– Русские! – твердо ответил Кольцо. – Каждый своей кровиночкой!..