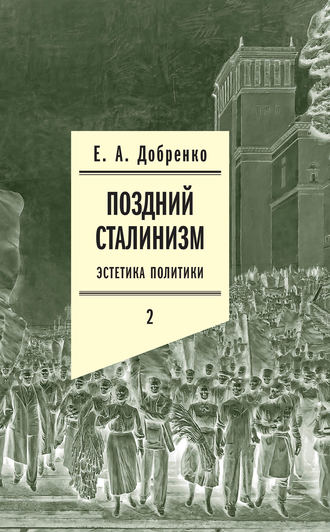
Евгений Добренко
Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2
Глава седьмая
Лингвистический реализм: Власть грамматики и грамматика власти
– Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?
– Какие вредители?
– Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить…
– Язык? – страшно удивился Аркадий Яковлев. – Это как язык?
– Да, да, – живо подтвердил Игнатий Баев, – я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»…
– Ну вот, – вздохнул старый караульщик, – заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году – академики… Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут…
Так в романе Федора Абрамова «Пути-перепутья», рассказывающем о жизни послевоенной северной деревни, разговаривают подвыпившие мужики с председателем колхоза, который учит их сознательности[1]. После разговора на повышенных тонах («Заткнись со своей сознательностью! Сознательность… Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?») и зашел разговор о… лингвистике. Председатель колхоза разговора не поддержал, поскольку труды товарища Сталина по языку появились как раз в сенокос и не был он готов к такому ответственному разговору. Однако райком за обсуждение взялся всерьез, созвав районное совещание по этому вопросу. Сорок семь верст без передышки проскакал верхом председатель, двух коней сменил, чтобы поспеть в районный клуб к началу, но и партийное начальство мало что могло сказать по существу дела:
Подрезов (секретарь райкома. – Е. Д.) словами не играл. И на вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем, им, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать». И добавил самокритично, нисколько не щадя себя: «Ну а насчет всех этих премудростей с языком я и сам не очень разбираюсь».
Единственным разобравшимся оказался инструктор райкома партпропагандист Ганичев. Он-то и разъяснил суть дела:
Да, задал задачку Иосиф Виссарионович. Я попервости, когда в «Правде» все эти академики в кавычках стали печататься, трухнул маленько. Думаю, все, капут мне – уходить надо. Ни черта не понимаю. А вот когда Иосиф Виссарионович выступил, все ясно стало! Нечего и понимать этих так называемых академиков. Оказывается, вся эта писанина ихняя – лженаука, сплошное затемнение мозгов… Сволочи у нас много развелось, везде палки в колеса суют… Даже в естествознании вылазку сделали, против самого Лысенко пошли…[2]
Эпоха «затемнения мозгов» (в буквальном смысле: «так называемые академики» были обвинены в отрыве языка от мышления) завершилась летом 1950 года, когда Сталин принял личное участие в им самим инспирированной дискуссии по вопросам языкознания в «Правде». Он разрушил «новое учение о языке» академика Марра, доминировавшее в советской лингвистике в 1930–1940‐е годы, возвестив о приходе «сталинского учения о языке».
Коллизии, связанные с лингвистической дискуссией, эпицентром которой были учение Марра и «труды товарища Сталина по вопросам языкознания», вызвали значительный исследовательский интерес. Прежде всего, сам Марр как радикальный мыслитель-парадоксалист, темпераментный полемист и личность ярко своеобразная сыграл столь решающую роль в развитии советской лингвистики, что без него ее история попросту невозможна, подобно тому как невозможна, к примеру, история советской литературы без Горького. Масштаб влияния подобной харизматической фигуры на развитие языкознания был огромным. Неудивительно поэтому, что Марр оказался в эпицентре интереса историков-лингвистов[3] и историков науки[4], но лишь изредка – историков культуры[5]. Однако даже и в этих редких случаях обращения к Марру и марризму вне сугубо историко-лингвистической проблематики в центре внимания исследователей оказывалось своеобразие самой теории и личности Марра в контексте ранней советской культурной мифологии, а не ее позднейшие широкие политико-идеологические импликации. Так, разгром марризма рассматривается вне контекста советской политической культуры, советской культурной истории и эволюции советского политико-идеологического проекта. Между тем культурно-идеологический аспект событий в советской лингвистике начала 1950‐х годов был не менее своеобразен и исторически важен, чем самое марровское учение. «Сталинское учение о языке», уступая марровскому в парадоксальности и радикализме, несомненно, превосходило его в своей политико-идеологической значимости: не появись сталинских «трудов по вопросам языкознания», концепция Марра продолжала бы оставаться вполне маргинальной (и к тому же интенсивно линяющей) доктриной вполне маргинальной научной дисциплины. Сталин придал ей политическую остроту, идеологический вес и социальную акустику.
Звуковой строй революции и алфавит сталинизма: От речи к письму
Когда-то Николай Яковлевич Марр сказал о науке: «„Разрушать труднее, чем создавать“ – это лишь частичное отражение правды. К непокрытой правде будем ближе, если скажем: „разрушать не только трудно, но нет никаких сил“»[6].
Это было сказано в минуту сомненья, в редкую минуту упадка сил, в минуту горького осознания пределов своих возможностей человеком, знавшим, о чем говорит. И все же Марр интересен не столько как разрушитель, сколько как трагическая личность трагической эпохи. От других авторов мегатеорий в постреволюционной России типа Трофима Лысенко или Ольги Лепешинской он отличался не только тем, что был человеком образованным и честным, но и тем, что выстроил лингвистическую теорию, ставшую отражением и терапией его очень личных травм. В революционной культуре идеи, которые отстаивал Марр, были социально созвучны многим, поскольку в 1920‐х – начале 1930‐х годов многие страдали теми же травмами. В 1950 году, когда Сталин обрушил на марризм свой гнев, это была уже другая страна. Травмы 1920‐х ее уже не занимали – она страдала от совсем других комплексов.
Сын восьмидесятилетнего шотландца и молодой грузинки, которые не имели общего языка, Николай Марр, появился на свет с врожденной травмой – перманентным кризисом идентичности. Заразившись еще в гимназии националистическими идеями (известно, что здесь он редактировал рукописную гимназическую газету, в которой печатал зажигательные стихи и призывал «взяться за оружие», чтобы освободить родную Грузию от русских захватчиков), он страдал от известной периферийности своей родины в большой империи, а переезд в столицу (куда он отправился учиться как кавказский стипендиат) и занятия кавказоведением в Санкт-Петербургском университете лишь способствовали развитию комплекса провинциала и усилению националистических настроений.
Пока это были лишь личные комплексы и детские травмы. Уход в археологию, занятия историей и материальной культурой Кавказа, в которых Марр достиг неоспоримых успехов, в подтексте имел все те же поиски «знатных родственников» для родного грузинского языка[7]. Так родилась вначале идея грузинско-армянского родства, а затем и яфетическая теория, сводившаяся к утверждению родства и первородности всей «кавказской культуры». Несомненно, подоплека «яфетодологических исследований» Марра была изначально идеологической, как и сама логика ее развития: если «создание Марром «яфетической теории» в лингвистике было продиктовано тем, что в силу ряда жизненных и политических обстоятельств он эволюционировал от грузинского национализма к идеологии «кавказского единства», то «могло ли мировоззрение Марра, всегда находившегося в гуще событий, чуткого ко всем тенденциям общественной и политической жизни, застыть на этом, остаться неизменным в бурные послереволюционные годы? Разумеется нет, и превращение «яфетической теории» в «новое учение о языке» свидетельствует о переходе Н. Я. Марра от «общекавказского» патриотизма к новой идеологии – «марксистскому интернационализму»[8].
Но дело, как представляется, не только в мировоззрении и социально-политической чуткости Марра. Скорее, с изменением идеологических вех, наступившим в советскую эпоху, ущемленное чувство национального достоинства выходца с окраин находит выход в «новом учении о языке» – глобальной концепции языкового развития – потребность в грузинском национализме и даже в общекавказском патриотизме отпала (другой его соотечественник, Сталин, минет и эту ступень, превратившись в русского националиста, и тем самым радикально разрешит проблему своей национальной маргинальности). В середине 1920‐х годов, единодушно утверждают его биографы, «идеологическая основа концепции Марра претерпела радикальные изменения ‹…› когда Марр, изжив националистические настроения, характерные для интеллигенции колониальных и полуколониальных стран Востока, пришел к созданию «нового учения о языке», основанного на «пролетарском интернационализме»[9].
Таким образом, в основе научной эволюции Марра изначально лежали сугубо идеологические факторы, подпиткой которых была личная травма: в конечном счете основой его лингвистических теорий были прежде всего кризис идентичности и жажда самоутверждения, питаемая «второразрядностью» происхождения (как личного, так и национального). Дополнительными факторами – опять-таки сугубо личными – были усилившиеся с возрастом мегаломания, буйная фантазия и безапелляционность суждений. O «грандиозном, бурном и беспредельном темпераменте» Марра говорили многие его современники. Его называли «вечным гейзером ‹…› вулканом, действовавшим в едином огне и сотрясавшим все вокруг»[10], писали о его экспансивности, о том, что синтез у него всегда преобладал над анализом, а обобщения – над фактами, и при активности творческого центра Марр не обладал центром торможения[11], говорили о его «необыкновенно развитой фантазии» и невероятном честолюбии[12].
O честолюбии и самомнении Марра ходили легенды. В докладе «Яфетидология в Ленинградском университете» в 1930 году он на двух смежных страницах трижды упоминает о своей общепризнанной гениальности:
По одной легенде, создатель яфетической теории гениален, во всяком случае он обладает исключительной способностью без труда овладевать любым языком, знает их неисчислимое количество, знает особенно хорошо все кавказские языки, лучше, чем кто-либо, как никто…
В Ленинграде и в Москве выступают с докладом о том, что утверждения гениального ученого очень интересны, но простым смертным недоступны…
В развитии яфетидологии моя личность, пусть действительно гениальная ‹…› абсолютно ни при чем[13].
Очевидно, однако, что речь в данном случае идет не столько о гениальности, сколько о психическом расстройстве, которое, в сочетании с неадекватным поведением, и стимулировало столь карикатурные формы честолюбия. И опять же, толчком к столь печальному повороту событий послужили прежде всего обстоятельства личной жизни Марра: в 1917–1918 годах гибнут в пути бесценные материалы его любимого Анийского музея (археологические находки и исследования по истории древней Армении лежали в основе его высокой научной репутации), во время Гражданской войны гибнет его младший сын – красный курсант.
Чем дальше, тем больше о безумии Марра начинают говорить его современники. Вначале говорили о «безумии» применительно к его завиральным мегаидеям (широко известно высказывание Трубецкого в письме Якобсону), затем многие из близких к Марру людей признали, что в начале 1930‐х годов Марр действительно заболел. Биографы единодушны: «Бессомненно, что с годами его научная деятельность приобретала все более очевидный патологический характер, чего, следуя установившейся инерции, старались не замечать или как-то обходить»[14], «многие фразы из сочинений Марра, особенно последних лет жизни, похожи на бред сумасшедшего»[15]. К началу 1930‐х годов можно говорить об «определенно проявившихся признаках умственного расстройства»[16]. Я. Васильков основывает этот вывод на свидетельствах 1932–1933 годов. Вот что вспоминает И. М. Дьяконов, слушавший Марра в 1933 году:
Марр, черноглазый, седой, но не до белизны, со всклокоченными волосами и маленькой седоватой, клином, бородкой, бегал по эстраде актового зала, возбужденно и даже ожесточенно говоря что-то мало связное, причем пенсне, зацепленное за ухо, падало на длинном шнурке и раскачивалось у его колен. Он яростно клеймил и почти проклинал буржуазную лингвистическую науку, а заодно и своих учеников – за то, что они не могли угнаться за его развитием и повторяли зады, оставленные им уже более двух недель тому назад. Фразы его были запутаны, к подлежащему не всегда относилось соответствующее сказуемое. Понять было ничего невозможно. Мне было странно, что кому-нибудь могло быть не ясно, что он – сумасшедший.
Еще будучи на «ямфаке», мой брат Миша как-то подошел к Марру и спросил его, почему первичных языковых элементов именно четыре.
– Па-та-му-что не пять! – резко ответил Марр. И это действительно был главный резон[17].
Французский синолог Поль Пеллио на докладе Марра в 1932 году сказал лаконично: Mais c’est fou! («Но это – безумие!»). И в этом, замечает Я. Васильков, не было уже никакой метафоры[18]. Подводя итог рассмотрению многочисленных свидетельств такого рода, В. Алпатов констатирует: «Ненормальность Марра в последнее десятилетие его жизни не вызывает сомнений»[19].
Все это лишь обостряло характерный для Марра научный авантюризм, безапелляционность и бездоказательность суждений, что при отсутствии серьезной лингвистической подготовки делало его лингвистические построения все более радикальными и все менее связанными с фактами развития языка. Гордыня самоучки смешивалась здесь с мегаломанией, безумие – с гениальными проблесками лингвистической интуиции, а властолюбие – с безоглядной готовностью помогать людям. Этот симбиоз был в одинаковой мере продуктом личных качеств Марра и эпохи, в которой он жил и работал.
Марр был фигурой во многих смыслах неординарной. Один из ведущих филологов и археологов, кавказоведов и востоковедов, он стал единственным членом Российской Императорской академии, кто вступил в большевистскую партию. Это было тем более неожиданно, что Марр не только не участвовал в революционном движении, но занимался до революции цензурой армянских книг, был связан с церковными кругами (был даже старостой грузинской церкви), а в 1905 году блокировался с правыми профессорами и считался всецело благонадежным.
Между тем Марр принял революцию и активно включился в «научно-организационную работу». Революционная стихия оказалась близка его энергичной натуре. Так что неудивительно, что вскоре он оказался членом всевозможных культурных и научных комиссий и коллегий. Лингвистом Марр не был, хотя именно лингвистика стала сферой приложения его парадоксальных идей. Его «новое учение о языке» воспринималось многими коллегами как нечто радикально новое, но малопонятное. Окрыленный первыми успехами, Марр едет «покорять Европу», мечтает о мировой науке о языке, основанной на его «новом учении», о создании международного института. Однако его яфетическая теория принята западными коллегами не была. Обозленный на западную лингвистику, он порывает с ней, обвиняя ее в «буржуазности» и «империализме». Именно личная травма непризнания – ущемленное самолюбие становится причиной углубления кризиса. В 1923–1924 годах происходит особенно резкий перелом – настолько сильный, что сменился не только стиль письма (именно с этого времени Марр начинает писать невнятно и интеллектуально неопрятно, а позже – и вовсе развязно), но даже почерк.
Теперь весь его интерес и вся энергия сконцентрированы на Советской России. Начинается интенсивная марксизация его мегаидей. Кризисный период 1923–1924 годов ознаменовался работами, в которых Марр декларирует, что индоевропейская языковая семья – это миф, что никакого праязыка не существовало, но изначально было множество языков, которые связаны не с нациями, а с классовой борьбой, «орудием» которой они являются, а после мировой революции сольются в мировой язык. Он заявляет, что все языки произошли из «диффузных выкриков» первобытных людей и в их основе было четыре тотемических первоэлемента: сал, бер, йон, рош, которые Марр находил в любом слове любого языка. Все это уже не подлежало доказательству: «Некоторые вещи доказывать нет надобности, их можно показывать. Так, видишь, например, что элементы существуют. Вопрос не в том, как они возникли. Наблюдение показало, что есть всего 4 элемента. Почему, не знаю»[20].
С другой стороны, будучи одним из немногих крупных ученых, сотрудничавших с новой властью (член Петросовета и Председатель Центрального совета научных работников), Марр пользовался поддержкой многих видных большевистских идеологов, партийных деятелей, связанных с наукой и культурой. Так, ведущий марксистский историк и функционер Михаил Покровский утверждал, что «если бы Энгельс еще жил между нами, теорией Марра занимался бы теперь каждый комвузовец, потому что она вошла бы в железный инвентарь марксистского понимания истории человеческой культуры»[21], один из руководителей Комакадемии Владимир Фриче писал, что на «диалектических построениях Марра лежит явный отблеск коммунистического идеала», а нарком просвещения Анатолий Луначарский называл его «величайшим филологом нашего Союза» и «самым великим из ныне живущих в мире филологов»[22], ему благоволили Николай Бухарин и Евгений Преображенский. Благодаря поддержке Покровского, Марр вошел в Общество историков-марксистов. В том же году он возглавил подсекцию материалистической лингвистики в Комакадемии, ранее не занимавшейся языкознанием. Все это подталкивало Марра к еще большему сближению с марксизмом.
В 1930 году Марр произносит приветственное слово XVI съезду ВКП(б) от имени Всесоюзной ассоциации работников науки и техники. Его слушает Сталин. Сразу же после съезда Марр получает партбилет и орден Ленина. В 1931 году избирается членом ВЦИК. Статус Марра на глазах меняется. Критиковать его становится опасно, и все, кто отстаивал иные направления в науке, объявляются теперь идеалистами, враждебными контрабандистами, вредителями в науке, социал-фашистами и троцкистами. Музыка революции на глазах застывает, фонетика революции затвердевает в алфавите сталинизма. Эпоха живой речи сменяется эпохой мертвого письма. И хотя Марр интересовался «живыми» бесписьменными языками, его речь сама превращается застывшую догму.
Превращение Марра в вождя агрессивной секты (а подобные секты формировались в это время и в других сферах – от литературоведения до философии, истории и биологии) могло, конечно, состояться лишь в специфических условиях рубежа 1930‐х годов, когда происходило формирование идеологического каркаса сталинизма: нужна была политическая востребованность построений Марра, переводившего лингвистику на марксистский сленг и дававшего идеологическое обоснование новому и активному «языковому строительству»; институциональная незавершенность нового научного и культурного поля, которая позволяла Марру, окунувшемуся в «дело научной организации» и «культурного строительства», институционально обустраивать создаваемое «учение»; ситуация смены состава научной среды, которая производила в огромном количестве новые «научные кадры» особого рода идеологических опричников, которые роились вокруг фигур, подобных Марру (такие, как Сергей Быковский, Валериан Аптекарь, Иосиф Кусикьян, Георгий Сердюченко, Федот Филин и мн. др.). И вновь немалую роль сыграл здесь личный фактор – Марр был одним из очень немногих членов Российской Императорской академии незнатного происхождения, фактически – интеллигентом в первом поколении, что не могло не ущемлять его обостренного самолюбия и не отражаться на его социальном поведении (прежде всего, речь идет о неразборчивости в средствах для достижения целей).
Марр, конечно, не был «пролеткультовцем», как назовет его позже Сталин. Классово-идеологические обоснования своим лингвистическим новациям он начал подыскивать вначале в качестве защиты, а затем попросту эксплуатировал, покрывая былым авторитетом свой «марксизм в языкознании» и борясь за продвижение собственных идей. Его окружение было скорее рапповским – это были не столько пролеткультовцы, сколько «оппортунисты в науке»[23] и циничные политиканы. Эпоха первой пятилетки, в отличие от эпохи нэпа, времени сосуществования различных направлений как в искусстве, так и в науке, была эпохой консолидации: везде утверждается власть одного направления – остальные объявляются немарксистскими, идеалистическими, буржуазными, вредными и т. д. Обычно в центре оказывался крупный ученый, вокруг которого – молодые, рвущиеся к признанию и власти выходцы из социальных низов, авантюристы и невежды.
Однако вокруг Марра группируются и искренне преданные ему очень талантливые люди, которым он импонировал своей революционностью и неортодоксальностью мышления. Причем не только в Петербурге, но и на окраинах. На периферии и в национальных республиках в эпоху активного национально-культурного строительства популярность Марра во многом определялась интернационализмом его концепций. Но было здесь и другое. Сама ситуация, когда столь заслуженный и известный ученый проявляет живой интерес к провинции и «местным кадрам» из национальных республик и «вытягивает» в столицы представителей коренных национальностей, не могла не привлекать к Марру все новых и новых адептов – в том числе персонажей типа Аптекаря или Быковского, Филина или Сердюченко, о которых точно писала позже оставшаяся верной Марру Ольга Фрейденберг: «такие вот парни, как Аптекарь, неучи, приходили из деревень или местечек, нахватывались партийных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Они со спокойной совестью поучали ученых и были искренне убеждены, что для правильной систематизации знаний („методологии“) не нужны самые знания»[24] (эта характеристика вполне относима не только к Аптекарю, но и к Сталину, который начал свой «великий языковедческий труд» со слов: «Я не языковед…»).
На протяжении последнего десятилетия своей жизни Марр оказался внутри трагического круга: чем глубже травма, требующая самореализации, чем сильнее очевидная с годами мегаломания, чем больше энергии к экспансии в науке, тем активнее Марр на социальном поприще, заседая в самых немыслимых комитетах (вплоть до Комиссии по борьбе с хулиганством), тем сильнее жажда расширения своей научной империи за счет создания все новых институций, привлечения все новых адептов, все большая радикализация лингвистических идей, что, в свою очередь, еще ближе связывает Марра с новым режимом, к которому он охотно пошел на службу, видя в нем гаранта для реализации своих непомерных амбиций в науке.
После смерти Марра сравнивали с Коперником и Дарвином. Между тем даже беглый взгляд на эволюцию и характер его идей убеждает в том, что Марр был прежде всего страстным и нетерпимым идеологом, принесшим свой огромный талант и действительные достижения в археологии и истории на алтарь политической идеологии. Чтение Марра убеждает еще и в том, что успешным идеологом он стал не только благодаря харизме, но и благодаря тому, что он был не столько филологом, сколько писателем.




