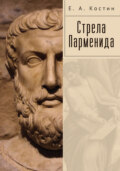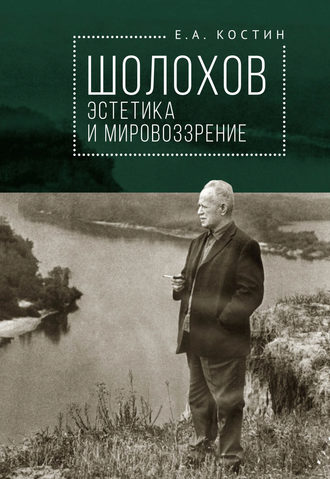
Евгений Костин
Шолохов: эстетика и мировоззрение
Светлой памяти моих родителей – КОСТИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, героя Великой Отечественной войны и КОСТИНОЙ МАРИИ ГЕОРГИЕВНЫ, русского учителя
От автора
Данное издание является дальнейшим развитием идей, изложенных в книгах «Философия и эстетика русской литературы» (Вильнюс, 2010) и «Шолохов forever» (Москва–Вильнюс, 2013), во многом посвященных творчеству одного из пяти русских лауреатов Нобелевской премии по литературе Михаилу Шолохову.
На протяжении почти десяти лет после выхода книг автор продолжал, наряду со своими другими изысканиями в области русской литературы, исследовать новые аспекты художественного мира писателя, в том числе и те, какие ранее оставались за скобками традиционного литературоведения (параллели между Шолоховым и Достоевским, к примеру). И каждый раз приходилось убеждаться в уникальности художественного дара донского писателя, его проницательности в области народознания, в непреходящих эстетических ценностях его произведений.
Несмотря ни на какие перипетии общественной реакции по поводу поиска мнимых авторов «Тихого Дона», он по-прежнему удерживает твердую пальму первенства среди читателей самых разных слоев населения России. И это не может не радовать, так как глубина раскрытия и понимания жизни народа в самые сложные периоды его истории такова, что сравнение с шолоховским творчеством по этому разряду мало кто из писателей русской литературы ХХ века может выдержать. И совершенно нетленным является эстетическое богатство и совершенство его произведений, которое позволяет читателям наслаждаться шолоховским творчеством вот уже без малого целый век (совсем скоро наступит столетний юбилей выхода в свет первых произведений Шолохова).
Содержание этой книги шире, чем ее название, она не только об «эстетике и мировоззрении» писателя. Она о духе русской литературы и культуры, об их принципиальных основаниях, о феноменальности открытий, ими сделанными. Шолохов разглядел в метелях русской истории то, что не может быть заметено никакими историософскими «сугробами». Прежде всего, витальную силу своего народа, проходившего и проходящего через испытания «невиданной силы», но не теряющего ни оптимизма, ни воли к жизни, ни страсти к художественному творчеству.
Вторым планом этой книги является тема «литература и история». Пересечение этих сущностей в русской культуре имеет принципиальное значение. Понять одно без другого невозможно. Взаимоотражение и взаимовлияние дошло в этой дихотомии до метафизических высот истинной философии бытия. Кто может поспорить с тем, что русская литература классического периода легла в основание многих освободительных движений самого разного толка, включая радикальнейшие? «Учебник жизни», книги, «которые перепахивали», постижение собственной истории именно через художественное слово, – жить и умирать в России учились во многом по книгам. Невозможно назвать какую-либо другую национальную литературу, которая так сильно влияла на умонастроения, поведение, ход мысли людей, как русская.
От этого, к слову сказать, возникает особая ответственность исследователя, призванного эту литературу понять. Здесь недостаточно знания лишь историко-литературных обстоятельств, биографических особенностей пути писателя. Понимание «русского слова» требует духовного усилия, требует веры в сущности, куда более значительные, чем собственно литературное творчество. Один из величайших русских мыслителей ХХ века С. Аверинцев замечал, что современная цивилизация устремлена к точке, где возникает «видение распада значащего слова». Это точка невозврата христианской культуры, «шедевр Ада», говорил С. Аверинцев. Русская же литература, в своих классических проявлениях, создавала и берегла «семантику бытийственного основания, истока бытия» [1, 816, 828].
Если вынуть эту онтологическую ориентацию из русской литературы, она рассыплется на невнятные периоды литературного ремесленничества с большими или меньшими стилистическими достижениями. Эту литературу скрепляют поиски откровения, философская глубина религиозных прозрений, вера в слово как инструмент Божественного промысла, поиски добра и красоты, предпочтение всеобщих человеческих ценностей всем соблазнам утонченной индивидуальности.
Русская литература является духовной матрицей русской истории, во многом именно в ней прячется код социального развития России, в ней же находятся и ответы, данные как поиск идеала совершенного человека и совершенного общества. По своим основаниям эта литература является почти религиозной деятельностью. Обращенная более всего к совести, эмоциям, нравственности человека, она, ничуть не сомневаясь, напрочь игнорирует эстетические прелести и совершенства, если это мешает ей выговорить именно то, ради чего она и существует.
* * *
Для читателя, не очень осведомленного в содержании слова «эстетика» и большей частью воспринимающего его как синоним «красивости», можно сообщить, что под эстетикой будет пониматься «философия художественного мира писателя», то есть самые главные, принципиальные скрепы его произведений.
Изучение этих «генерализационных» принципов организации мира писателя необходимо также и для того, чтобы лучше понимать смысл и содержание деталей этого мира. Общее, в какой-то мере главное знание о художественном мире дает объяснение конкретике, самой плоти художественных текстов.
К сожалению, сам Шолохов не очень может нам в этом процессе помочь. Он отнюдь не принадлежал к роду писателей с развернутой самоаналитикой. Он был достаточно далек от рефлексий по поводу стилистических особенностей своих текстов, практически ничего из этого не обнаруживается в какой-то завершенной форме в интервью и диалогах с его собеседниками. Он был художником другого типа. Стихийность, торжество материала, невнимание к деталям художественного письма в эстетском, если можно так сказать, смысле – это все он. Можно метафорически воскликнуть, что благодаря этому он и стал Гомером русской словесности, когда перед нею встала задача художественного упорядочивания разворошенной, перелопаченной мировой войной, революциями и гражданской войной действительности.
Нет сомнения, что для изображения подобных событий прежняя эстетика, то есть старая, привычная философия художественного пересоздания жизни не работала. То, что для этого нового подхода потребовался адекватный эстетический ответ, очевидно для каждого исследователя литературы. Шолохов дал его и, прежде всего, в «Тихом Доне».
Конечно же, решая вопрос об эстетике и философии художественного мира одного писателя, автор не мог не решать вопросы о том, как это коррелируется с общим направлением русской литературы ХХ века. Но и не только. По сути дела этот подход требовал обращения к общим закономерностям развития русской литературы и русской культуры в целом. Тем более, что современное состояние культуры и всей сферы гуманитарной деятельности человека самым очевидным образом пребывает в определенной кризисности. Мы нуждаемся в соединении всего того богатства, которое громадными усилиями было создано в России за последние два века с сегодняшним состоянием человеческой души, с новыми формами культуры. Эрозия смыслов, о которой мы не раз будем говорить в этой книге, в том числе ссылаясь на лучшие умы нашего времени, должна быть остановлена. Не может человек остаться один на один с цифрой и искусственным интеллектом, забыв обо всех смыслосодержащих конструкциях эстетической и философской мысли, которые в течение многих тысячелетий выстраивало человечество. Все это, созданное человеком, не может оказаться лишним, случайно возникшим в тех или иных отдельных цивилизациях (русской в том числе) глобального человечества, тем паче, что это потребовало значительных усилий гениев прошлых и нынешних эпох.
Что ситуация в современной культуре сложнее, чем это кажется на первый взгляд, очевидно. И дело не в том, что новые формы так называемой культурной деятельности человека находятся за пределами «добра и зла», не попадают ни в какие прежние оценочные рамки. А в дело в том, что незаметно совершилась эрозия самого смыслополагания, открываемого через слово мира. Подобное могло совершиться потому, что оказался размытым сам фундамент онтологического отношения к действительности, исчезли мировоззренческие опоры сознания современного человека. Конечно, в таком универсальном охвате кроются многие неточности и спрятаны в нем истинные праведники и философы, т.е. немногие, прямо скажем, люди, продолжающие мыслить и чувствовать действительность, исходя из некоторых принципиальных оснований.
С. Аверинцев точно описал эту ситуацию (может быть, и трагикомическую во всемирно-историческом смысле): «На проповедь веры всегда можно было возразить «критическим» вопросом: «а что такое «веровать»?» В прежние, невинные времена этот вопрос предполагал ответ, позитивный или негативный ответ, но ответ. Тот, кто выбирал негативный ответ, скажем: «веровать – значит быть обманутым» – был всего-навсего атеистом, т.е. человеком, который не верил в Бога, но верил в ответы. Он твердо верил, что его негация действительно отвечает на вопрос, т.е. преодолевает и снимает его… Только одна греческая буква – альфа – создает различие между «атеизмом» и «теизмом». Предложения: «Бог существует» и «Бог не существует» имеют в основе ту же грамматику» [1, 828].
Размытость постмодернистского сознания не предполагает и ответа на этот вопрос о вере и субъекте этой веры. Сама постановка вопроса носит в рамках этой системы сознания мнимый, смехотворный характер, поскольку она налагает на т а к мыслящего субъекта обязательства сразу мыслить о сущностях изначально находящихся вне этого сознания – о ценностях и об определенном (твердом) к ним отношении. Отрицается возможность самого акта неверия, так как он «методологически» носит догматически-условный и тем самым ограничивающий для постмодернистской онтологической релятивности характер. Что же тогда говорить об «акте веры»? В самом деле, если перед нами произошла аннигиляция «значащего», то есть обращенного к духовным ориентирам человека, слова, то сам вопрос о Вере носит мнимый характер, так как невозможна истинная словесная структура, его описывающая. Все это, заметим, по мнению торжествующей сегодня постмодернистской теории. Она занимается тем, что изучает «копии без оригинала» (Ж. Бодрийяр).
Перспективы такой культуры, основанной на подобном отношении к Слову (а под словом можно разуметь любой значимый и содержательный фрагмент смыслового отношения к действительности, независимо от собственно словесной формы выражения – это может быть и живописный образ, музыкальный такт и т.п.), конечно же, печальны, и здесь нельзя не согласиться с С. С. Аверинцевым. Выход, по его мнению, один – обретение словом той же силы (по сути – сакральной), которая формировала структуры прежних культур, создала возможность в их рамках мыслить далеко за пределы словесной прагматики и утилитарности. Возвращение слову его божественного смысла – вот, что может быть целью и задачей культуры будущей. Осуществим ли это процесс – вопрос не праздный.
Русский мыслитель формулирует это бескомпромиссно: «Еще никогда правомочность человеческого слова не была так очевидно, так явно, так фундаментально зависима от веры в Слово, бывшее в начале у Бога, в победу инициативы Божьего «да будет!» над неконтактностью небытия. Гуманизм больше не берется обосновать ее своими силами» [1, 830].
Поразительное признание философа и теолога, гуманиста и литератора, который, пройдя через плотное и глубокое исследование мировой и русской культуры, формулирует чуть ли не с окончательной силой это признание, что на путях «гуманизма», то есть отдельным, самодостаточным, по сути безмерно эгоистическим сознанием человека тупик нынешнего духовного предстояния человечества не преодолеть.
«Творец приводил творение в бытие тем, что окликал вещи, обращался к ним, дерзнем сказать – разговаривал, заговаривал с ними; и они начинали быть, потому что бытие – это пребывание внутри разговора, внутри общения. А добровольный и окончательный, на всю вечность, выход сотворенного ума из общения с Богом, разрыв общения, отказ слушать и быть услышанным, – не это ли обозначается в Апокалипсисе как «смерть вторая»? Вместо диалога, который начался «в начале», чтобы длиться вечно, – пребывание вне диалога, тоже вечное…» [1, 816], – писал С. Аверинцев. Это глубокое понимание состояния не только современной культуры, но состояния умов, сознательно и намеренно отказавшихся от онтологии бытия только потому, что этот необходимый диалог требует поступиться своим бесконечно самостоятельным «эго». Право, «гуманизм» такого рода обрекает его носителя на исключение из «диалога», то есть из понимания, из смысла.
Историческая ситуация, в которой находится русская культура и, соответственно, весь русский дискурс по отношению к торжествующему на сегодняшний день «западному постмодернистскому» слову, – это положение маргинала, двоечника, запоздавшего путника, неудачника.
Запад, по сути, исходит из данного расхожего представления (своей «продвинутости» и вечного русского «отставания») как из некой константы, не особенно задумываясь и не подвергая анализу, отчего данное неравноправное положение вещей приводит к практическим результатам обратного толка и свойства. «Неправильная» русская культура отчего-то постоянно генерирует из себя гениев мирового уровня – от Достоевского, Толстого, Чехова, Чайковского до Пастернака, Платонова, Шолохова, Шостаковича и многих других.
Россия всегда выступала для Запада как некий безусловный и необходимый оппонент, без которого его собственная духовная деятельность в разнообразных видах и свойствах – от политической, исторической до культурной и ментальной, становится какой-то неполноценной, нуждающейся в постоянном оправдании и подпитке неким отрицательным примером и опытом.
Россия тут как раз кстати. Всем своим существованием, географическими размерами, многочисленностью и разнообразием населяемых этносов, неожиданным (с западной точки зрения) всплеском культуры мирового уровня, фантастическими победами на бранном поле, чудом прорыва в космос и создания незаметным образом (в историческом смысле за минимально короткий срок) мировой сверхдержавы – все это не может не выступать сильнейшим раздражителем для классического взгляда человека западного мира и западной культуры.
Основа такого противостояния, которое подчас выглядит подлинной загадкой в современном глобальном мире, связана по большей части с ментальными глубинными различиями в восприятии жизни представителями этих двух крыльев одной иудео-христианской культуры.
Как в природе, человек может догадываться об истинном движении громадных плит в глубине земле по внешним, подчас грозным проявлениям в виде землетрясений, извержений вулканов, цунами и пр., так и в нашем случае искать ответы, объясняющие данные различия, приходится, опираясь на анализ «внешних» проявлений этих ментальных различий, как они обнаруживаются в культуре и подчас более откровенно – в литературе.
Как говорил М. Хайдеггер, язык является «домом Бытия», и именно в языке приходится искать разгадку истинного отношения целых народов к действительности, понимать через нее возможности и способности того или иного языка выстраивать через свое «тело» ту картину действительности, которая была бы аутентичной, или, по крайней мере, не искажающей этот до конца неведомый нам мир.
Русский язык является особым домом особого бытия. Деперсонифицированность, своеобразная мера красоты, невероятная повернутость на идеальное в личной и социальной жизни, углубленные формы православного сознания, ставящего во главу угла нечто общее, сверхличностное, стремление к идеалу как одна из целей развития всего народа, эмоциональность, замещающая собой логику и рациональность, страстность и бескомпромиссность в решении исторических конфликтов, жертвенность, понимание себя через судьбу отечества и всего народа, родовая, по сути, трагичность восприятия мира, замешанная на тяжелом историческом опыте и вместе с тем ясность приятия бытия, примирение с ним, то, что можно именовать катарсическим свойством русского сознания. А еще невероятный русский хронотоп, в котором время почти всегда из конкретно-исторического становится мифологическим и метафизическим, а пространство расширяется до горизонтов мирового события. Многое уже из состоявшейся русской культуры обещает дальнейшее развитие в духовности, смыслополагании, в ограничении бесконечного индивидуального «хотения» в коллективном «этизме» и для нее самой, проходящей испытания через прививку иными ценностями и идеалами, и – хочется верить – для других культур и народов.
Обо всем этом и написана книга. Примером взят Шолохов.
И еще одно. Автор специально сохранил целый ряд отсылок к работам прежним лет, которые принадлежат замечательным ученым позднего, завершающего этапа советской гуманитарной науки – Л. Ершову, А. Хватову, Н. Грозновой, П. Выходцеву и ряду других. Мало того, что их суждения и до сих пор сохранили свою правоту по отношению к тем или иным аспектам художественного мира Шолохова, но это и долг памяти их замечательного, самоотверженного служения родной литературе, их глубокого нравственного чутья и понимания правды в русской культуре, без которых нам не обойтись и сегодня.
Литература и примечания
1. С. С. Аверинцев. Слово Божие и слово человеческое // Собр. соч. Том «София-Логос». Словарь. Киев, 2006.
Введение
Вопросы исследования эстетики художественного творчества какого-либо писателя носят непростой, в первую очередь с теоретико-методологической точки зрения, характер. Часто эти понятия не разделяются в принципе. Творческий, художественный мир писателя приравниваются к его эстетике, что, на наш взгляд, совершенно беспочвенно. И здесь нет нужды специально это доказывать, ссылаясь на безусловные авторитеты. Понятно, что и графоман в определенном смысле создает нечто вроде самостоятельного художественного мира, как бы творит его. Но очевидно, что с точки зрения как раз эстетической ценность этого мира близка к нулю.
Есть также соблазн совсем не рефлектировать над вопросами теоретического и тем более методологического подхода к исследованию художественных феноменов, эстетических образований. Но как только исследователь задается вопросом о системе принципов подхода к изучению данного в своей непосредственной наличности текста, то становится понятным, что сам подход предопределяет и угол зрения, и глубину проникновения, и вообще возможность что-либо понять в произведении.
Достаточно сопоставить, к примеру, интертекстуальный подход и психоаналитическую методику анализа явлений искусства. К сожалению, вопрос методологии, то есть отрефлектированной системы философских и общетеоретических принципов изучения художественного предмета был тотально скомпроментирован в советское время худшими образцами так называемой марксистко-ленинской методологии. Хотя – и это определенным образом доказывается в данной работе – ранний, не догматический марксизм дает интересные возможности для анализа человеческих характеров в литературе. Это тот период, когда ранний Маркс успешно развивал идеи Гегеля и того направления, которое можно обозначить как «новую диалектику».
Немаловажно заметить также, что природа художественного таланта является в меру спонтанной и не требует какой-то специальной рефлексии, которая может быть поименована в первом приближении философией, то есть определенным обобщением принципов, задач и способов реализации, художественного творчества. Такой, можно сказать, органический талант продуцирует принципы внутрь самого процесса творения. Есть же писатели, в целом творцы, которые нуждаются в теоретическом осмыслении практически всех аспектов своего творчества. Они оставляют после себя (если говорить о художниках прошлых эпох) целые трактаты детально разработанных теоретических положений о сути творчества, его предназначении, устанавливают филогенетическую связь с предшествующими авторами, характеризуют и пытаются структурировать технические особенности своей художественной деятельности.
Подчас такого рода художественная рефлексия составляет значительную часть наследия писателя (или же деятеля культуры) и становится безусловным фактом развития собственно эстетической мысли. Вспомним переписку Гете и Шиллера, творческие манифесты немецких романтиков, «Дневник писателя» Достоевского, Дневники Льва Толстого и т.д. Объем такой литературы весьма значителен.
Понятно также, что избыточная как бы рефлективность авторов связана с переходными периодами развития искусства, когда происходит слом прежнего способа отображения действительности и формируется новый взгляд на содержание и формы художественной деятельности.
Такого рода рефлексия составляет существенный и подчас более серьезный по результатам теоретический багаж в движении эстетической мысли, чем собственно, умствования «чистых» как бы теоретиков. На настоящий момент в науке отчетливо определилось понимание эстетики как особой дисциплины «об исторически обусловленной сущности общечеловеческих ценностей, их созидании, восприятии, оценке и освоении» [1, 5]. С другой стороны, существующие, так сказать, «частные эстетики» отдельных писателей (Пушкина, Толстого, Достоевского, Блока, Гете, Шекспира, Томаса Манна и др.), как правило, выводят читателя к конкретным вопросам художественного мира этого, а не другого творца. Не случайно, поэтому, ученые задаются следующим вопросом: «Философско-теоретическая эстетика стоит сегодня перед дилеммой: как сохранять и многообразить свои связи с художественной практикой, оставаясь при этом в сфере, свойственных ей абстрактно-теоретических способов познания?» [2, 7]
Подобная проблематика выносилась в центр эстетического сознания с самого начала развития эстетики как науки. Античность, Ренессанс, немецкая классическая эстетика, русская критика прошлого столетия, современная эстетика в ее разнообразных направлениях – все это попытки определить формулу перехода определенной системы философско-эстетических принципов (лежащей в глубине каждого творческого акта) в непосредственно осуществленный художественный мир.
Центральное место данным вопросам уделено в фундаментальном труде Д. Лукача «Своеобразие эстетического» [3]; в работах Э. Ауэрбаха, Р. Веймана, Г. делла Вольпе, М. Вартофского, Р. Унгера, Н. Фрая, М. Хайдеггер, К. Гилберта и Г. Куна, Х.-Г. Гадамера и других исследователей освещены существенные стороны интересующей нас проблемы [4].
В русском литературоведении ценными источниками идей (в рамках нашего подхода) являются исследования А. Веселовского, Ф. Буслаева, А. Лосева, М. Бахтина. Нельзя также не указать на важное значение общеэстетических штудий Д. Лихачева, С. Аверинцева, С. Бочарова, А. В. Михайлова, В. Асмуса, Ю. Лотмана, других исследователей.
Задача эстетического исследования художественного мира писателя предстает тем более сложной, чем проще, при первом рассмотрении, непосредственный предмет логико-философского анализа. Таков, к примеру, мир фольклора, мир народных утопий, таков, на наш взгляд, и художественный мир Михаила Шолохова.
Сегодня уже очевидно, что в русской, да и мировой литературе, он выступает как уникальная философско-эстетическая целостность. Основные ее истоки – народно-философские и народно-художественные ценности и традиции. Определяя философско-мировоззренческие опоры творчества писателя, важно понять закон, который увязывает воедино эту принципиальную основу и непосредственную художественную плоть его произведений: закон взаимосоотнесения философски-общего и художественно-конкретного.
* * *
Очень сложная тема Шолохов и Солженицын, какую нельзя не затронуть сразу, во введении.
Всем хорошо известна версия Солженицына применительно к «Тихому Дону», изложенная им в книге «Бодался теленок с дубом». Известно, что он поддержал издание книги Ирины Медведевой-Томашевской об авторстве «Тихого Дона», неоднократно в пределах своей жизни в СССР до знаменитой высылки на Запад, подвергал сомнению авторство Шолохова главным образом по «Тихому Дону». Впоследствии, после возвращения в Россию, он предпочитал не высказываться на эту тему.
Два великих русских писателя, которые, каждый по своему, страдали за судьбу России и стремились максимально объективно воссоздать трагические страницы ее истории – так это выглядит сейчас. Чем дальше, тем очевиднее их коренное внутреннее родство, замешанное на этнокультурном генетическом единстве.
Да и в целом прежде скептически настроенная критика меняет свой либеральный взгляд на Шолохова и видит в нем не только угодного властям (мы-то знаем сейчас, что во многом неугодного) государственного писателя. Достаточно посмотреть лишь на его переписку со Сталиным в период коллективизации, чтобы понять, что примера такой силы реального сопротивления режиму и реального спасения тысяч и тысяч людей людей в годы «великой» коллективизации и террора 30-х годов, попросту не было. Характерна в этом отношении работа М.Чудаковой [5].
Рассматривая ситуацию подлинной, а не мнимой противоречивости в творческой жизни Шолохова, Чудакова справедливо указывает на объективные исторические обстоятельства и факты, которые не могут быть проигнорированы неангажированным исследователем. «Зрелость и смелость» романа «Тихий Дон» были настолько необычны для литературы того периода, когда шло формирование типа «советского» писателя, что это, собственно, и стало основной причиной возникновения слухов о «плагиате».
Но обращает на себя обстоятельство, о котором пишет Чудакова: «Проследив перипетии борьбы Шолохова с цензурой, мы пришли к выводу, что в контексте конца 1920–1930-х годов она была беспримерной» [5, 217].
И вот что еще сближает Шолохова и Солженицына и что убедительно излагает М.Чудакова, обращаясь к переписке Шолохова и Сталина, которая не имеет прецедента в советской истории (аналогией могут служить письма академика Петра Капицы вождю, но она имела совсем другой контекст): «Он пишет в 1931–1940 годах свой «Архипелаг Гулаг», с яркими образами садистов-следователей, с жуткими судьбами арестованных (и мучимых безо всякого ареста во время хлебозаготовок) – на материале одной Ростовской области и адресуя текст одному читателю: до начала 1990-х годов никто – ни в отечестве, ни на Западе – не узнал о его содержании» [5, 222].
Замечательно это запоздалое (всего либерального советского литературоведения) признание, и дорогого оно стоит.
Дискурс официального говорения Шолохова на писательских съездах и партийных конференциях был невысокого уровня, но это не имеет никакого отношения к аутентичности текста его основного произведения «Тихого Дона», а также других его творений, которые своими мощными протуберанцами говорили о подлинной гениальности их автора. В свое время нами обращалось внимание на проблему «плагиата» Шолохова в ее схожести с подобными проблемами Гомера, Шекспира. Справедливо Чудакова пишет в этом же ключе о типологической близости данной проблематики к вопросу об авторстве «Слова о полку Игореве»: «…Доверять же скептикам тоже не приходится. У наиболее профессиональных, как И. Н. Медведева (автор инициальной для дискуссий 70-х годов книги «Стремя «Тихого Дона»: Загадки романа»), – гипотеза о двух «соавторах», художнике и подправляющем его советском политикане идет мимо того важнейшего обстоятельства, что раздвоение и растроение могло постигнуть – и постигало – советского писателя в силу самого устройства советской литературной жизни. В этой и другой работах из множества более или менее точных наблюдений насчет несообразностей в тексте романа никак не вытекает гипотеза о плагиате или другом (в буквальном смысле – подлинном) авторе» [5, 548].
Есть еще одно соображение, которое является существенным при рассмотрении вопроса о плагиате Шолохова. Это собственно отрицание единственно данной писателем в адекватном виде картины исторического разлома России. Считая текст «Тихого Дона» мелкотравчатой подделкой и компиляцией, как уверяют некоторые исследователи, в разряд гениальных добродетелей попадает умение слепить не текст, но дать описание и объяснение событий всемирной истории. Что, конечно же, выглядит невозможным нонсенсом. Концепция и философия истории и исторической судьбы России не могут быть сложены как игра лего и представать как механическая перетасовка героев, обстоятельств, глубинных исторических процессов.
Живая идея тем-то и жива, что она органична по своей природе и неразложима на элементы, которые могут быть привязаны друг к другу тем или иным образом без всякой связи – а это самое главное – с реальной жизнью народа. Наличие разных текстов Евангелий, канонических и неканонических, не могут отменить или подвергнуть сомнению единую и неделимую суть божественного откровения, легшего в том числе в основание христианской культуры. Откровение, которое случилось в тексте «Тихого Дона», говорит только об одном – не потерян для истории и дальнейшей духовной жизни этнос, какой создал т а к о е, придал смысл и содержание всем кровавым и тяжким испытаниям, выпавшим на долю всех и каждого в России той трагической эпохи.
Именно об этом размышлял один из самых русских философов Николай Бердяев в своей книге «Смысл истории»: «…Истинная философия истории есть философия победы истинной жизни над смертью, есть приобщение человека к другой, бесконечно более широкой и богатой действительности, чем та, в которую он ввергнут непосредственной эмпирией. Если бы для индивидуального человека не существовало путей приобщения к опыту истории, то, как жалок, пуст и смертен по всему своему содержанию был бы человек! Но человек в своей настоящей жизни не только тогда, когда он строит философию истории – он редко этим занимается, – но и во многих духовных актах своей жизни находит истинную реальность великого исторического мира через историческую память, через внутреннее предание, через внутреннее приобщение судеб своего индивидуального духа к судьбам истории. Он приобщается к бесконечно более богатой действительности, он побеждает этим тленность и малость свою, преодолевает свой бедный и суженный кругозор» [6, 17].
Помещение художественного мира писателя в более широкий процесс развития не просто исторической и социальной действительности в ее конкретном временном преломлении, но в более широкий контекст смысла и сути совершающейся истории твоего народа, всего человечества – это неотъемлемая часть русской онтологии и никуда от нее деться русской культуре при самых лучших и благожелательных западных учителях.