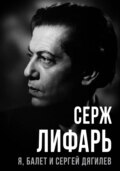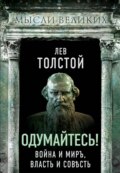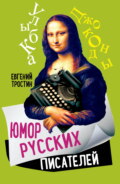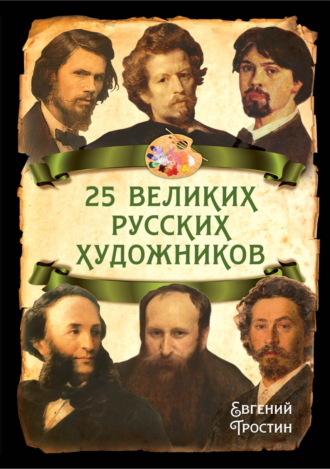
Евгений Тростин
25 великих русских художников
Римский детектив
В 1816 году, получив поддержку императрицы Елизаветы Алексеевны, художник отправился в Европу. Больше всего Кипренского, конечно, притягивала Италия с её галереями, старинными храмами и развалинами. И он покорил эту страну. Уффици – знаменитая флорентийская галерея – заказала Кипренскому, первому из наших живописцев, автопортрет, который выставляли в одном ряду с изображениями выдающихся художников того времени. До знакомства с полотнами Кипренского итальянские знатоки живописи относились к русскому искусству даже не скептически, а просто безо всякого интереса.
В Италии он тогда прожил семь лет – в расцвете известности и таланта. Стал востребованным художником в Риме – в мировой столице искусства. Это соответствовало его амбициям. Почти каждый день к нему приходили заказчики, от неинтересных предложений Кипренский гордо отказывался. В России его чаще сравнивали с Антонисом Ван Дейком, а в стране Рафаэля – с другим великим голландцем, Харменсом Рембрандтом, открывшим в искусстве портрета трагические глубины. Временами Кипренский тосковал по России, но в южной стране его задержали странные обстоятельства.
В современной Третьяковской галерее выставлен портрет «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке», для которого Кипренскому позировала маленькая Анна-Мария Фалькуччи, которую все звали Мариуччей. Ее мать была женщиной легкомысленной – и Кипренский решил принять участие в судьбе девочки, выплачивая ей ежемесячный пансион. Он даже нанял для нее учителей, чтобы Мариучча не повторила судьбу матери. Такое внимание Кипренского к юной натурщице вызывало двусмысленные слухи. Не все верили в чистоту его чувств и намерений. Молва вынесла немилосердный вердикт: эксцентричный художник «купил» малышку у беспутной матери и, возможно, превратил ребенка в свою служанку, а то и наложницу.
А потом дом Кипренского приобрел еще более скандальную и темную славу. Трагедия случилась с одной из натурщиц: кто-то завернул ее в холст, облил скипидаром и сжег. А, может, она таким образом покончила с собой? Об этом чудовищном событии несколько недель толковал весь Рим.
Через несколько дней от неизвестной болезни умер слуга Кипренского – молодой итальянец. Позже художник доказал, что натурщица наградила слугу сифилисом – и он, в порыве мести, убил ее, а потом покончил с собой. Римский суд – славившийся дотошностью и не жаловавший иностранцев – установил невиновность Кипренского. Но слухи… Заказчики отвернулись от него, а уличные мальчишки забрасывали камнями и самого художника, и его слуг. Русский стал для суеверных итальянцев почти инфернальной фигурой, слугой дьявола. Поговаривали, что и талантом живописца Кипренского наградил «враг рода человеческого», взамен получив его душу. Журналисты сочинили историю, что убитая была матерью Мариуччи – и художник расправился с нею, чтобы избавиться от шантажа, прикрывая какую-то темную историю, связанную с несчастной девочкой. Это неправда. Известно, что и после скандала с погибшей натурщицей художник переписывался с матерью своей юной воспитанницы, передавал ей деньги и подарки. В конце концов, он определил Мариуччу в монастырский пансион, снова снабдив ее деньгами – и, ненадолго заехав в Париж, вернулся в Россию.
Триумфального возвращения в Петербург не получилось. При дворе его не приняли, в Академии встретили холодно. Даже великие князья – прежние ценители его таланта – отвернулись от Кипренского. Римские пересуды опередили приезд Кипренского – и на нем поставили клеймо «убийцы», демонического романтика – подобного некоторым героям Байрона. О том, что итальянский суд его оправдал, никто и не задумывался. Перед ним закрывались двери. На всякий случай: «А вдруг этот художник действительно – совратитель и душегуб?» Из множества влиятельных поклонников верность Кипренскому сохранил только граф Дмитрий Шереметев. Художник устроил себе мастерскую в просторном петербургском шереметевском дворце на Фонтанке. Летом 1827 года Антон Дельвиг заказал Кипренскому портрет Пушкина – и в светлом зале графских чертогов поэт и художник провели наедине немало часов. Пушкин, никогда не бывавший в Европе, с интересом слушал рассказы Кипренского об Италии. А, получив портрет, ответил Кипренскому стихотворным посланием:
Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, —
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит…
Никому из художников, создававших его портреты, Пушкин не посвящал стихов. А ремарка «не британец, не француз» приоткрывает нам возможную тему их разговоров: Кипренский жаловался, что, как известно, «нет пророка в своем Отечестве», и русская аристократия нередко предпочитает иностранных живописцев не по таланту, а по моде. …С портрета Пушкин как будто вглядывается в будущее – и поэту эта композиция пришлась по душе. После смерти Дельвига он за немалые деньги выкупил портрет у наследников друга.
Возвращение к Мариучче
Кипренский гордился дружбой с Пушкиным, но душевного спокойствия в России не нашел. Его преследовали старые «криминальные» слухи. К тому же, он не забывал о свой воспитаннице. Больше 10 лет Анна Мария провела в монастырском приюте, шила белье для солдат. А потом в Италию вернулся Кипренский, разыскал Мариуччу – и, как истинный романтик, влюбленный скорее в свою мечту, чем в реальную девушку, сделал ей предложение. Правда, после этого еще на несколько лет оставил ее в приюте: работал, сколачивая капитал, чтобы обеспечить семейный достаток. Когда они обвенчались, ей было 25, ему – 54 года. Он даже принял католичество – тайком от русских друзей. На холме Пинчо Кипренский снял уютный дом, в котором раньше жил известный французский гравер Клод Лоррен. Оттуда открывался вдохновляющий вид на Рим.

Орест Кипренский. Портрет А.С. Пушкина
Пришли добрые вести из Петербурга – оказывается, император Николай I приобрел картину Кипренского – «Вид Везувия с моря». Президент академии художеств Алексей Оленин написал художнику, что «государь император весьма любовался вашими произведениями» и присовокупил к письму две тысячи рублей. Кроме того, Оленин сообщал, что на Родине Кипренскому присвоили звание профессора исторической и портретной живописи, а вместе с этим он, по табели о рангах, из титулярных советников, миновав чин коллежского асессора, стал советником надворным и получил «дворянство Российской империи». В конце Оленин спрашивал: «Государь император, между прочим, изволил спрашивать, не известно ли, скоро ли Вы возвратитесь в отечество?»
Это означало, что двор готов забыть о черных слухах, связанных с Кипренским и снова принять первого художника России. Ему представлялись новые почести, новые заказы… «Кипренский не был никогда ничем отличен, ничем никогда жалован от двора, и все это потому только, что он был слишком благороден и горд, чтобы искать этого», – писал о старшем собрате по искусству художник Александр Иванов. Это преувеличение. Он, как и все художники того времени, ценил признание двора и те возможности, которые можно получить, только сохраняя интерес сиятельных и светлейших меценатов. Получив послание Оленина, Кипренский принялся готовиться к возвращению в Россию. Корабль «Анна-Мария» (удивительное совпадение!) уже повез из Италии на Балтику, в Петербург ящики с картинами и эскизами Кипренского. Он мечтал о встрече с Россией, хотел привезти на Родину любимую Мариуччу, часто вспоминал заросли иван-чая в своем северном краю. Одно беспокоило его – что в Петербурге, скорее всего, придется скрывать о своем переходе в католичество.
В октябре 1836 года Кипренский устроил прощальный обед для своих римских приятелей, на котором веселился, как в свои лучшие годы. От волнения, перед возвращением на Родину, художник всю ночь бродил по долине в ветреную погоду, а утром слег с воспалением легких. Ни забота Мариуччи, ни врачи его не спасли. Всего лишь несколько месяцев он прожил под одной крышей со своей музой.
Его последняя картина – «Ангел-хранитель», для которой художнику снова позировала Мариучча, осталась незавершенной. Дочь – Клотильда – родилась уже после смерти художника. Русские живописцы, жившие в Риме, часто навещали вдову, помогали деньгами, выхлопотали для Мариуччи пенсион в петербургской Академии художеств. Но вскоре Анна-Мария вышла замуж за итальянского торговца – и вместе с дочерью художника они уехали из Рима, порвав все связи с Россией и русскими. Потомки художника – это еще одна загадка, которых так много в его судьбе. Они затерялись где-то на Апеннинах.
Над его могилой в старинной римской базилике Сант Анреа Делле Фратте начертано: «В честь и в память Ореста Кипренского, самого знаменитого среди русских художников». Можно было бы добавить – «с самой загадочной судьбой».
Летопись в камне. Михаил Микешин и его памятник
Как превратить историю в монумент?
160 лет назад, 20 декабря 1862 года, Господин Великий Новгород на несколько часов стал столицей огромной Российской империи – там, в кремлевских стенах, неподалеку от древнего собора Святой Софии, открыли уникальный памятник, посвящённый историческому пути нашей страны – монумент Тысячелетию России.
Идея министра Ланского
После неудачной Крымской войны такой праздник был просто необходим. Все началось с того, что в марте 1857 года министр иностранных дел Сергей Ланской предложил установить в Новгороде памятник первому летописному русскому князю – Рюрику – к 1000‑летию начала его легендарного правления. Дату собирались отметить в соответствии с летописями, в августе – сентябре 1862 года. Но министры, посовещавшись, вынесли такое постановление: «Призвание Рюрика составляет без сомнения одну из важнейших эпох нашего государства, но потомство не должно и не может пройти забвением заслуг других своих самодержцев, полагая, что эпоха 1862 г. должна быть ознаменована не увековечением подвига Рюрика, но воздвижением народного Памятника «Тысячелетию России», где бы могли быть в барельефах или других изображениях показаны главнейшие события нашей отечественной истории».

Памятник «Тысячелетие России»
Молодой император Александр II поддержал эту идею, и вскоре объявили конкурс «на сочинение проекта памятника» и почти одновременно начали собирать по всем губерниям деньги на монумент «Тысячелетию России», очертания которого ещё оставались загадкой.
Победитель, не умевший ваять
Случилось удивительное: в конкурсе победил не скульптор, а художник – Михаил Микешин, которому еще не исполнилось двадцати пяти. К тому времени некоторую известность он получил как автор картины «Лейб-гусары у водопоя». Кроме того, давал уроки рисования представителям императорской семьи. Правда, жил он небогато, и медаль, полученную за «Гусаров», сразу отнес в ломбард.
Микешин предложил смелую художественную идею – скульптурный коллаж. Вся история страны – на одном пьедестале. Сенсация! Подобных монументов на свете еще не существовало. Похожий памятник к тысячелетию Венгрии появится в Будапеште, на площади Героев, в 1896 году – почти через 40 лет после микешинского проекта.
Победила идея. По очертанием памятник напоминал огромный колокол (не без намека на новгородские вольные вечевые традиции) и одновременно – шапку Мономаха. Издалека – мощный символ России, с близкого расстояния – настоящая историческая мистерия. Наверху – ангел с крестом и коленопреклоненная женщина в русском костюме времен преодоления Смуты. Рюрик оказался в центре одной из шести крупных скульптурных сюжетов. И – десятки выдающихся деятелей разных эпох вокруг колокола…
Микешин получил первую премию – 4000 рублей и заказ на сооружение памятника в новгородском кремле – древнем детинце (именно так новгородцы называют свою крепость) первой русской столицы, откуда и пошла династия Рюриковичей. Скульпторы ворчали, но ничего не могли поделать: образное мышление дилетанта Микешина производило более сильное впечатление, чем их профессиональные задумки. К тому же, Микешин – человек находчивый и смелый – не лез в карман за словом во время споров. Однажды художника упрекнули, что деятели истории у него стоят спиной к России. Он парировал молниеносно: «Отлично! Тогда я их поставлю спинами к вам, глубокоуважаемые зрители и критики памятника!» Критики умолкли.
Художнику помогал друг-скульптор – Иван Шредер. Микешин был автором композиции и мотором проекта, но, работая над памятником, он только учился основам ваяния. Впрочем, к грандиозной композиции «Тысячелетия России» приложили руку многие выдающиеся скульпторы: и Павел Михайлов, и Роберт Залеман, и молодой Александр Опекушин, будущий автор московского памятника Пушкину.
Отвечал за строительство монумента Константин Чевкин – министр путей сообщения и крупный вельможа, человек энергичный и суровый, общение с которым всякий раз превращалось для Микешина в неприятное испытание. Именно Чевкин, по существу, стал главным цензором проекта. Он, как мог, старался критиковать планы скульптора с консервативных позиций. Но в конечном счете всё решал император.
Выборы с кандидатами
Каждую персону, которую предлагалось увековечить в скульптурной композиции, Микешин обсуждал с людьми, которых уважал. С историками Николаем Костомаровым и Михаилом Погодиным, с поэтом Аполлоном Майковым, с писателями – Иванами Тургеневым и Гончаровым, с филологом Измаилом Срезневским. Они встречались по четвергам у Микешина, на литейном дворе Академии художеств. Компания собралась талантливая и настроенная весьма вольнолюбиво.
Многие из исторических персон, которых они предлагали и отстаивали, оказались неугодными для властей – и в итоговую композицию не попали. Это и оппозиционер (а по сути – изменник) времен Ивана Грозного Андрей Курбский, и мятежный литературный критик Виссарион Белинский, и крестьянский поэт Алексей Кольцов, и актер Андрей Дмитревский, сыгравший важную роль в формировании образцов литературного русского языка. Долгие споры вызвала и фигура Гавриила Державина. Для Микешина и его друзей поэты нового времени совершенно заслонили «певца Екатерины», но для консерваторов он был не только выдающимся стихотворцем, но и государственным деятелем, первым министром юстиции Российской империи, убеждённым монархистом. Его включили в композицию чуть ли не в последний момент – по приказу Чевкина и с одобрения императора. Подобно Пушкину, Гоголю и Лермонтову, поэта-министра скульпторы облачили в античную тогу.
Авторы памятника и их кураторы проигнорировали нескольких людей, без которых трудно представить историю России. В первую очередь – Ивана Грозного, как-никак, первого русского царя. На Микешина и его современников чрезвычайно повлияла концепция Николая Карамзина, называвшего царя деспотом и палачом. Вот и вышло, что в композиции памятника есть супруга Ивана Васильевича – Анастасия (гордость рода Романовых!), и его соратники Алексей Адашев, протопоп Сильвестр, Михаил Воротынский – но не Иван Васильевич. Его отсутствие выглядело красноречиво: сразу заговорили о вине сурового самодержца перед Новгородом, о реках крови, которые пролиты по его приказу. Но отсутствие Грозного выглядело слишком нарочитым. При этом, памятник стал апофеозом его деда – Ивана III – дважды ходившего походом на Новгород и присоединившего его к Московскому царству. Он явился перед новгородцами в державном величии, со скипетром и в шапке Мономаха. Этот сюжет назывался «основанием самодержавного царства Русского».
Один из консультантов Микешина, выдающийся фольклорист, лингвист, академик Фёдор Буслаев, сетовал: «Напрасно власти не прислушались к голосу народа, который в своих былинах отдает первенство Ивану Грозному перед всеми московскими царями».
Не нашлось места в композиции и для великого флотоводца Фёдора Ушакова. В то время в сознании современников его заслонил подвиг адмиралов, защищавших Севастополь, и прежде всего – Павла Нахимова. Книги и публикации об Ушакове в XIX веке выходили крайне редко, о нем почти забыли. Не попал в скульптурную летопись Руси и преподобный Иосиф Волоцкий – видимо, потому что слишком круто боролся с ересями. Впрочем, не включили в канон и его великого оппонента – нестяжателя Нила Сорского.
Микешин долго отстаивал «кандидатуру» Тараса Шевченко, с которым был знаком. Украинский поэт умер во время работы над памятником, в марте 1861 года. Художник писал: «Шевченко, в смысле воспроизведения изящного народного слова, сделал для Малороссии более, нежели кто-либо из наших поэтов, и еще при жизни своей своими песнями стяжал такую популярность, что не только в образованном кругу, но и едва ли найдется одна деревня в Малороссии, где бы не пели песен или не знали его имени». Ко мнению скульптора не прислушались. Александр II помнил о бунтарском нраве покойного «кобзаря» и не собирался увековечивать его рядом со своими предками. Скорее всего, самодержец знал, что Шевченко в свое время сгоряча написал грубый и несправедливый стихотворный шарж на его мать – императрицу Александру Федоровну.