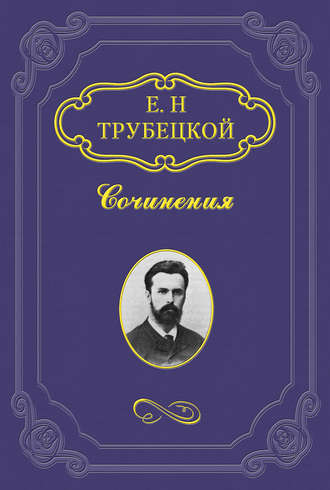
Евгений Трубецкой
Миросозерцание Блаженного Августина
Часть 1
I
Пятый век, несомненно, одна из важнейших эпох христианской цивилизации. Это та критическая эпоха, когда церковь, во всеоружии своей вполне сложившейся организации, вступает в средние века, передаваясь от древнего греко-латинского мира варварам и воспринимая в себя греко-латинские элементы. Вместе с тем это тот век, когда уже весьма резко и рельефно обозначается различие между христианством эллинским, восточным и латинским, западным. Государственный порядок в то время расшатан и поколеблен в самом своем основании; церковь одна представляет собою общественное единство, скрепляя и связуя империю, распадающуюся на части в процессе саморазложения. Она одна противостоит сепаратистским движениям и центробежным силам, грозящим разрушить государство. Против варваров, со всех сторон прорывающихся в империю сквозь ослабевшие легионы, она одна представляет собою культурное единство греко-латинского мира. «Среди волнений мира, – говорит еще в конце IV века св. Амвросий Медиоланский, – церковь остается неподвижной; волны разбиваются об нее – не будучи в состоянии ее пошатнуть. В то время, как всюду вокруг нее раздается страшный треск, она одна предлагает всем потерпевшим крушение тихую пристань, где они найдут себе спасение». Церковь представляет собою в то время единство не только духовное, но и мирское; одряхлевшее государство не в состоянии отправлять самых элементарных своих функций, светская власть не может уже собственными силами защитить государство извне и скрепить его изнутри; она не обеспечивает ему ни справедливого суда, ни сколько-нибудь сносной администрации. Поэтому церковь, как единственная живая сила в этом обществе, волей-неволей вынуждена взяться за мирские дела, исполнять задачи светской власти. Мы видим в ту эпоху епископов в роли светских администраторов и судей, разбирающих такие дела, как споры о наследстве; мы видим их и в роли дипломатов.
В те тяжкие времена необходимость иногда заставляет их принимать деятельное участие даже в военной защите государства: епископ в осажденном городе нередко стоит во главе обороны. На Западе и на Востоке церковь спасает государство, отправляя его функции. Это ведет там и здесь к образованию такого порядка вещей, в котором церковное единство смешивается с государственным и благодатный порядок строго не размежуется с порядком мирским. Константин Великий понимал, что империя не может одними своими силами противостоять естественному процессу саморазложения и смерти. Чувствуя, что государство само по себе спастись не способно, что оно не в состоянии держаться на материальной базисе своей стихийной силы и военного могущества, он искал ему сверхприродной основы и призвал церковь к обоснованию Рима: он хотел скрепить единое государство посредством единой церкви. Но именно поэтому он и его преемники хотели стоять во главе единой церкви, чтобы через нее господствовать над государством. С одной стороны, император хочет сделать свою мирскую власть центром христианского общества, подчинив ей власть духовную в качестве служебного органа. Но, с другой стороны, и церкви присуще стремление к самостоятельности и попытки восточных императоров к главенству в делах веры встречает энергичное противодействие. Притязаниям светской власти противополагается независимый епископат с римским епископом, как главою и центром.
На востоке и на Западе в интересующую нас эпоху мы наблюдаем образование своеобразной христианской теократии, в которой церковь смешивается с государством; она не сливается с ним в единое целое, но, как сказано, строгие и определенные границы между ними отсутствуют. В обеих половинах империи это смешение двух сфер, церковной и государственной, ведет, однако, к противоположным результатам. На Востоке через все отдельные царствования христианских императоров красной нитью проходит один неизменный принцип церковной политики, увековеченный императором Констанцием в классическом изречении: «Что я хочу, да будет вам канон», – говорил он собору епископов в Милане. При системе управления государством посредством церкви, единый канон и, в особенности, единый догмат представляют для императора не только единую церковь, но и единое государство. В догматических вопросах и спорах он заинтересован не только как верующий, но и как представитель мирской власти. С точки зрения Константина, высказанной им и унаследованной его преемниками, чтобы спасти государственное единство, нужен единый Бог и единая вера. Понятно, что с этой точки зрения всякий догматический спор, всякое разделение в церкви представляется угрозой целостности государства. Чтобы не выпустить из рук власть, необходимо заставить подданных верить так же, как и император: кто держится другого исповедания, тот не только еретик, но и бунтовщик. Отсюда стремление императора определять самое содержание христианского догмата. Он берет на себя обязанности духовной власти, диктуя своим подданным догматические формулы. Он предписывает им верить или не верить в единосущие Сына Божия Отцу или равенство Св. Духа Сыну, признавать в Сыне одно или два естества и т. п. Так поступают императоры как еретические, так и православные. Если церкви и поручаются разнообразные мирские задачи, то император тем более стремится утвердить над неюсвою суперматию, обратив ее в орган своей светской политики.
Само собой разумеется, что властолюбие императоров – не единственная причина такого порядка вещей. В глазах массы христиан император – защитник веры – является центром христианского общества и поэтому – повелителем церкви. К нему обращаются и епископы для решения своих догматических споров, причем, как водится, те, кому удается склонить его в свою пользу, признают за ним право авторитетного вмешательства в дела веры, отрицают же это право те, против кого власть императора обращается. Если, с одной стороны, император стремится к главенству в делах веры, то, с другой, и иерархия стремится обратить догматы в принудительные юридические нормы. Языческое прошлое империи, где не было особого жреческого класса и всякий светский магистрат мог отправлять жреческие функции, не подготовило общество к различению духовного и светского порядков, и мы видим, как и в христианской империи то и другое переплетается и смешивается.
На Востоке, где светская власть сравнительно сильна, это смешение ведет к преобладанию светской власти, которая узурпирует функции церкви. Совсем другое происходит на Западе. Здесь в течение всего IV и V-го веков вплоть до падения Западной империи мы видим, с одной стороны, постепенное умаление светской власти, а с другой – быстрый рост и усиление независимого епископата. Быстро развиваясь, духовная власть здесь господствует над мирской областью, подчиняя себе в конце концов и саму императорскую власть. Это отличие Запада от Востока вызвано сложной совокупностью культурно-исторических условий.
На Западе христианская империя с самого начала не имела почвы под ногами и была осуждена на бессилие. Перенося свою резиденцию на Восток, Константин чувствовал, что он не в состоянии сломить преданий языческого Рима, и мечтал лишь о том, чтобы самому от них освободиться. Язычники на Западе составляли в то время большинство и были в Риме господствующей силой. Язычниками был заполнен сенат. Рим оставался центром язычества, а вступить в открытую борьбу с язычеством было не под силу и самому Константину. Христианская империя не могла упразднить языческое царство, а могла существовать лишь рядом с ним как другой Рим, как город Константина. Выступая в качестве главы христианства на Востоке, Константин оставался главой язычества на Западе. Будучи внешним архиереем в Константинополе, он не переставал быть верховным жрецом в Риме. Если на Востоке игнорировалось язычество императора, то на Западе – его христианство. Империя официально не переставала быть языческой на Западе, будучи уже христианской на Востоке. В течение всего IV-го века язычники в Риме составляют внушительную силу, если не большинство, и парализуют своей глухой оппозицией власть христианского императора. Уже одно это осуждает западных кесарей на бессилие. Языческое большинство относится к ним враждебно или равнодушно; им остается опереться на христианское меньшинство. Среди раздвоившегося общества они между двух огней: они опасаются раздражать язычников слишком крутыми мерами, не отваживаясь на энергичную, последовательную борьбу с ними, но, вместе с тем, нейтральной или слишком нерешительной политикой, пассивной по отношению к язычникам, рискуют оттолкнуть от себя христиан.
Как уже было сказано, у них нет почвы под ногами, и христианский элемент, на который они опираются, держит их в зависимости от себя. В противоположность прямой и последовательной внутренней политике восточных императоров, политика западных кесарей поражает нас своими частыми колебаниями, отсутствием какого бы то ни было выдержанного принципа (2). Колнстанций, например, властвуя над обоими половинами империи, мог высказывать на Западе те же притязания и проводит их с теми же деспотическими приемами, как и на Востоке. Но его преемник Валентиниан не стремился к главенству в делах веры, держась нейтральной политики относительно всех возможных религиозных мнений, как христианских, так и языческих. Грациан же во всем подчинялся наставлениям миланского епископа Амвросия, склоняясь, в его лице, перед авторитетным руководительством церкви. То самое обстоятельство, которое создает слабость императоров на Западе, обусловливает здесь силу церкви. Пребывание христианских императоров в Риме, как центре языческой оппозиции, с самого начала было невозможным. Язычники занимали главнейшие светские магистратуры. Языческая партия, чтобы сохранить за своим обрядом прежнее значение, должна была притвориться, что никакой перемены не произошло, что все осталось по прежнему. И действительно, императоров продолжают провозглашать божествами после их смерти и сенат учреждает им официальные культы. Санкционировать такой порядок вещей своим присутствием христианский кесарь не может. Вместе с тем, он не смеет и открыто выступить против него, так как это значило бы восстановить против себя сильную языческую партию. Чтобы избежать роковой коллизии, императоры редко показываются в Риме, а живут в Милане или Равенне, куда их влечет еще и необходимость быть ближе к северной границе, которой постоянно угрожает опасность варварских нападений. Они дозволяют обожать себя издали и смотрят сквозь пальцы на ненормальное положение, которое они не в состоянии изменить. Но вследствие этого Рим, политический центр их государства, уходит из сферы их влияния. Христианская община со своим епископом во главе стоит здесь одиноко против царства язычников, выносит борьбу с язычеством на своих плечах без поддержки государства. Значение императора этим совершенно уничтожается: как христианин, он бессилен над своими языческими подданными; как предмет языческого культа и как верховный жрец, он – нуль в глазах христиан (3). Значение епископата усиливается за счет ослабления значения императора, и в особенности растет значение епископа римского, папы. Столица древнего мира неизбежно является центральным пунктом борьбы христианства и язычества. Ведя эту борьбу собственными силами, римская церковь привыкает к самостоятельности, пользуется такой независимостью, как никакая другая церковь империи. В значительной мере благодаря этому, здесь развивается самостоятельная, независимая духовная власть, какой нет на Востоке, где кесарь выступает как представитель христианского единства, господствуя над большинством епископата.







