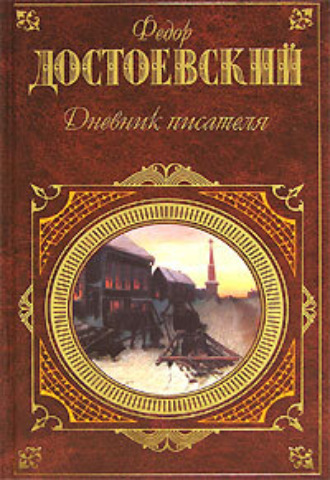
Федор Достоевский
Дневник писателя
Геркулесовы столпы[100]
Но столпы, настоящие геркулесовы столпы, вполне начинаются там, где г-н Спасович договаривается до «справедливого гнева отца».
«Когда обнаружилась в девочке эта дурная привычка, – говорит г-н Спасович (то есть привычка лгать), – присоединившаяся ко всем другим недостаткам девочки, когда отец узнал, что она ворует, то действительно пришел в большой гнев. Я думаю, что каждый из вас пришел бы в такой же гнев, и я думаю, что преследовать отца за то, что он наказал больно, но поделом, свое дитя, – это плохая услуга семье, плохая услуга государству, потому что государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье… Если отец вознегодовал, он был совершенно в своем праве…»
Постойте, г-н защитник, я пока не останавливаю вас на слове «ворует», употребленном вами, но поговоримте немного про эту «справедливость гнева отца». А воспитание с трехлетнего возраста в Швейцарии у де Комба, у которых, сами же вы свидетельствуете, девочка испортилась и приобрела дурные наклонности? В таких летах чем же она сама-то могла быть виновною в своих дурных привычках и, в таком случае, где тут справедливость гнева отца? Я поддерживаю полную безответственность девочки в этом деле, если даже и допустить, что у ней были дурные привычки, и что бы вы ни говорили, вы не можете оспорить этой безответственности семилетнего ребенка. У ней нет еще и не может быть столько ума, чтоб заметить в себе худое. Ведь вот мы все, а может быть, и вы тоже, г-н Спасович, – ведь не святые же мы, несмотря на то, что у нас ума больше, чем у семилетнего ребенка. Как же вы налагаете на такую крошку такое бремя ответственности, которое, может, и сами-то снести не в силах? «Налагают бремена тяжкие и неудобоносимые»,[101] вспомните эти слова. Вы скажете, что мы должны же исправлять детей. Слушайте: мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают нашу душу одним только своим появлением между нами. А потому мы их должны уважать и подходить к ним с уважением к их лику ангельскому (хотя бы и имели их научить чему), к их невинности, даже и при порочной какой-нибудь в них привычке, – к их безответственности и к трогательной их беззащитности. Вы же утверждаете, напротив, что битье по лицу, в кровь, от отца – и справедливо и не обидно. У ребенка был какой-то струп в носу, и вы говорите:
«Быть может, пощечины ускорили излияние этой крови из струпа золотушного в ноздре, но это вовсе не повреждение: кровь без раны и ушиба вытекла бы немного позже. Таким образом, кровь эта не заключает в себе ничего такого, что могло бы расположить против Кронеберга. В ту минуту, когда он нанес удар, он мог не помнить, мог даже не знать, что у ребенка бывает кровотечение из носу».
«Мог не помнить, не знать!» Да неужто ж вы можете допустить про г-на Кронеберга, что он ударил по больному месту зазнамо? Разумеется, не знал. Итак, вы сами свидетельствуете, что отец не знал о болезни своего ребенка, а между тем поддерживаете право его на битье ребенка. Вы утверждаете, что удары по лицу от отца не обидны. Да, для семилетней крошки, пожалуй, и безобидны, а оскорбление? Об оскорблении нравственном, сердечном вы ничего во всей вашей речи не упомянули, г-н защитник; вы все время говорили только об одной физической боли. Да и за что били ее по лицу? Где поводы к такому ужасному гневу? Разве это серьезный преступник? Эта девочка, эта преступница сейчас же побежит играть с мальчиками в разбойники. Ведь тут семь лет, всего только семь лет, ведь надобно же это помнить беспрестанно в этом деле, ведь это все мираж, что вы говорите! А знаете ли вы, что такое оскорбить ребенка? Сердца их полны любовью невинною, почти бессознательною, а такие удары вызывают в них горестное удивление и слезы, которые видит и сочтет Бог. Ведь их рассудок никогда не в силах понять всей вины их. Видали ли вы или слыхали ли о мучимых маленьких детях, ну хоть о сиротках в иных чужих злых семьях? Видали ли вы, когда ребенок забьется в угол, чтоб его не видали, и плачет там, ломая ручки (да, ломая руки, я это сам видел) – и ударяя себя крошечным кулачонком в грудь, не зная сам, что он делает, не понимая хорошо ни вины своей, ни за что его мучают, но слишком чувствуя, что его не любят. Я ничего не знаю лично о г-не Кронеберге, я не хочу и не могу вторгаться в душу и в сердце его, его и семьи его, потому что я могу сделать большую несправедливость, не зная его вовсе, и потому сужу единственно лишь по вашим словам и указаниям, г-н защитник. Вы сказали о нем в вашей речи, что он «плохой педагог»; это все то же, по-моему, что и неопытный отец или, лучше сказать, непривычный отец. Я поясню это: эти создания тогда только вторгаются в душу нашу и прирастают к нашему сердцу, когда мы, родив их, следим за ними с детства, не разлучаясь, с первой улыбки их, и затем продолжаем родниться взаимно душою каждый день, каждый час в продолжение всей жизни нашей. Вот это семья, вот это святыня! Семья ведь тоже созидается, а не дается готовою, и никаких прав и никаких обязанностей не дается тут готовыми, а все они сами собою, одно из другого вытекают. Тогда только это и крепко, тогда только это и свято. Созидается же семья неустанным трудом любви. Вы сознаетесь, впрочем, г-н защитник, что ваш клиент сделал две логические ошибки (только логические?) и что одна из них, между прочим, в том, что он —
«…поступил слишком рьяно, он предполагал, что можно одним разом, одним ударом искоренить все зло, которое посеяно годами в душу ребенка и годами взращено. Но этого сделать нельзя, надо действовать медленно, иметь терпение».
Клянусь, немного бы его потребовалось, этого терпенья, потому что эта крошка – всего семилетняя! Опять-таки эти семь лет, которые исчезают везде в вашей речи и в ваших соображениях, г-н защитник! «Она воровала, – восклицаете вы, – она крала!»
«25 июля приезжает отец на дачу и в первый раз узнает сюрпризом, что ребенок шарил в сундуке Жезинг, сломал крючок (то есть вязальный крючок, а не замок какой-нибудь) и добирался до денег. Я не знаю, господа, можно ли равнодушно относиться к таким поступкам дочери? Говорят: «За что же? Разве можно так строго взыскивать за несколько штук черносливу, сахару?» Я полагаю, что от чернослива до сахара, от сахара до денег, от денег до банковых билетов путь прямой, открытая дорога!»
Я вам расскажу маленький анекдот, г-н защитник. Сидит за столом отец, добывающий деньги тяжелым трудом. Он сочинитель, так же как и я, он пишет. Вот он положил перо, и к нему подходит его девочка, дочка, шести лет от роду, и начинает говорить ему, чтоб он ей купил новую куклу, а потом коляску, настоящую коляску с лошадьми; она сядет с куколкой и с няней в коляску и поедет к Даше, няниной внучке. «Потом ты вот что купи мне еще, папа…» и т. д. и т. д. – счету не было покупкам. Все она только что навыдумала и нафантазировала у себя в уголке, играя с куклой. Фантазия у этих шестилетних малюток беспримерная, и это превосходно, в этом их развитие. Отец слушал с улыбкой.
– Ах, Соня, Соня, – сказал он вдруг полушутливо, полугрустно, – накупил бы тебе всего, да негде денег взять; не знаешь ты, как трудно они достаются!
– А ты вот что, папа, сделай, – подхватила Соня с весьма серьезным и конфиденциальным видом, – ты возьми горшочек и возьми лопаточку и пойди в лес, и там покопай под кустиком, вот и накопаешь денег; положи их в горшочек и принеси домой.
Уверяю же вас, что эта девочка весьма и весьма неглупая, но такое понятие она составила себе о том, как добываются деньги. Неужели вы думаете, что семилетняя далеко ушла от этой шестилетней в понятии о деньгах? Конечно, может быть, уже знала, что денег нельзя накопать из-под кустика, но откуда они в самом деле достаются, по каким законам, что такое банковые билеты, акции, концессии – вряд ли знает. Помилосердуйте, г-н Спасович, про такую разве можно говорить, что она добиралась до денег? Это выражение и понятие, с ним сопряженное, применимо лишь к взрослому вору, понимающему, что такое деньги и употребление их. Да такая если б и взяла деньги, так это еще не кража вовсе, а лишь детская шалость, то же самое, что ягодка черносливу, потому что она совсем не знает, что такое деньги. А вы нам наставили, что ей уже недалеко до банковых билетов, и кричите, что «это угрожает государству!». Разве можно, разве позволительно после этого допустить мысль, что за такую шалость справедливо и оправдываемо такое дранье, которому подверглась эта девочка. Но она и не шарила в деньгах, она их не брала вовсе. Она только пошарила в сундуке, где лежали деньги, и сломала вязальный крючок, а больше ничего не взяла. Да и незачем ей денег, помилуйте: убежать с ними в Америку, что ли, или снять концессию на железную дорогу? Ведь говорите же вы про банковые билеты: «от сахара недалеко до банковых билетов», почему же останавливаться перед концессиями?
Ну, не столпы это, г-н защитник?
– Она с пороком, она с затаенным скверным пороком…
Подождите, подождите, обвинители! И неужели не нашлось никого, чтоб почувствовать всю невозможность, всю чудовищность этой картины! Крошечную девочку выводят перед людей, и серьезные, гуманные люди – позорят ребенка и говорят вслух о его «затаенных пороках»!.. Да что в том, что она еще не понимает своего позора и сама говорит: «Je suis voleuse, menteuse»? Воля ваша, это невозможно и невыносимо, это фальшь нестерпимая. И кто мог, кто решился выговорить про нее, что она «крала», что она «добиралась» до денег. Разве можно говорить такие слова о таком младенце! Зачем сквернят ее «затаенными пороками» вслух на всю залу? К чему брызнуло на нее столько грязи и оставило след свой навеки? О, оправдайте поскорее вашего клиента, г-н защитник, хотя бы для того только, чтоб поскорее опустить занавес и избавить нас от этого зрелища. Но оставьте нам, по крайней мере, хоть жалость нашу к этому младенцу; не судите его с таким серьезным видом, как будто сами верите в его виновность. Эта жалость – драгоценность наша, и искоренять ее из общества страшно. Когда общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно…
– Да, оставь я вам жалость, а ну как вы, с большой-то жалости, да осудите моего клиента.
Вот оно положение-то!
Семья и наши святыни
Заключительное словцо об одной юной школе
В заключение г-н Спасович говорит одно меткое слово:
«В заключение я позволю себе сказать, что, по моему мнению, все обвинение Кронеберга поставлено совершенно неправильно, т. е. так, что вопросов, которые вам будут предложены, совсем решать нельзя».
Вот это умно; в этом вся суть дела, и от этого вся фальшь дела; но г-н Спасович прибавляет и еще несколько довольно торжественных слов на тему: «Я полагаю: вы все признаете, что есть семья, есть власть отеческая…» Выше он восклицал, что «государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье».
На это и я позволю себе включить одно лишь маленькое словечко, и то лишь мимоходом.
Мы, русские, – народ молодой; мы только что начинаем жить, хотя и прожили уже тысячу лет; но большому кораблю большое и плавание. Мы народ свежий, и у нас нет святынь quand même.[102] Мы любим наши святыни, но потому лишь, что они в самом деле святы. Мы не потому только стоим за них, чтоб отстоять ими l’Ordre. Святыни наши не из полезности их стоят, а по вере нашей. Мы не станем и отстаивать таких святынь, в которые перестанем верить сами, как древние жрецы, отстаивавшие, в конце язычества, своих идолов, которых давно уже сами перестали считать за богов. Ни одна святыня наша не побоится свободного исследования, но это именно потому, что она крепка в самом деле. Мы любим святыню семьи, когда она в самом деле свята, а не потому только, что на ней крепко стоит государство. А веря в крепость нашей семьи, мы не побоимся, если, временами, будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся, если будет изобличено и преследуемо даже злоупотребление родительской власти. Не станем мы защищать эту власть quand même. Святыня воистину святой семьи так крепка, что никогда не пошатнется от этого, а только станет еще святее. Но во всяком деле есть предел и мера, и это мы тоже готовы понять. Я не юрист, но в деле Кронеберга я не могу не признать какой-то глубокой фальши. Тут что-то не так, тут что-то было не то, несмотря на действительную виновность. Г-н Спасович глубоко прав в том месте, где он говорит о постановке вопроса; но, однако, это ничего не разрешает. Может быть, необходим глубокий и самостоятельный пересмотр законов наших в этом пункте, чтоб восполнить пробелы и стать в меру с характером нашего общества. Я не могу решить, что тут нужно, я не юрист…
Но я все-таки восклицаю невольно: да, блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное. Это я сказал вначале и повторяю опять. Так мне кажется, и, наверно, от того только, что я не юрист; в том вся беда моя. Мне все представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянная и неустанная, по мере спроса и требования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все аплодируют. Что ж, неужто я посягаю на адвокатуру, на новый суд? Сохрани меня боже, я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного получше. Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное. Я неисправимый идеалист; я ищу святынь, я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее; не то стоит ли им поклоняться? Так или эдак, а я испортил мой февральский «Дневник», неумеренно распространившись в нем на грустную тему, потому только, что она слишком поразила меня. Но – il faut avoir le courage de son opinion,[103] и, кажется, эта умная французская поговорка могла бы послужить руководством для многих, ищущих ответов на свои вопросы в сбивчивое время наше.
Март
Верна ли мысль, что «пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша»?
В «Листке» г-на Гаммы[104] («Голос», № 67) я прочел такой отзыв на мои слова, в февральском «Дневнике», о народе:
«Как бы то ни было, у одного и того же писателя, на расстоянии одного месяца, мы встречаемся с двумя, резко противуположными друг другу мнениями по поводу народа. А ведь это не водевиль, а картинка передвижной выставки: ведь это приговор над живым организмом; это все равно что вертеть ножом в теле человека. Из своего действительного или мнимого противоречия г-н Достоевский выгораживается тем, что приглашает нас судить народ „не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать“. Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь на деле, но зато идеалы у него хороши. Идеалы эти „сильны и святы“, и они-то „спасали его в века мучений“. Не поздоровится от таких выгораживаний! Ведь и сам ад вымощен добрыми намерениями, и г-ну Достоевскому известно, что „вера без дел мертва“. Да откуда же стали известны эти идеалы? Какой пророк или сердцевед в состоянии проникнуть или разгадать их, если вся действительность противоречит им и недостойна этих идеалов? Г-н Достоевский оправдывает наш народ в том смысле, что „они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут“. Но ведь отсюда недалеко и до нравоучения: пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша».
В этой выписке всего важнее вопрос г-на Гаммы: «Да откуда же стали известны эти идеалы?» (то есть народные). Положительно отказываюсь отвечать на такой вопрос, ибо, сколько бы мы ни проговорили на эту тему с г-ном Гаммой, мы никогда ни до чего не договоримся. Это спор длиннейший, а для нас важнейший. Есть у народа идеалы или совсем их нет – вот вопрос нашей жизни или смерти. Спор этот ведется слишком уж давно и остановился на том, что одним эти идеалы выяснились как солнце, другие же совсем их не замечают и окончательно отказались замечать. Кто прав – решим не мы, но решится это, может быть, довольно скоро. В последнее время раздалось несколько голосов в том смысле, что у нас не может быть ничего охранительного, потому что у нас «нечего охранять». В самом деле, если нет своих идеалов, то стоит ли тут заботиться и что-нибудь охранять? Что ж, если эта мысль приносит такое спокойствие, то и на здоровье.
«Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь, но только идеалы у него хороши». Эту фразу или эту мысль я никогда не высказывал. Единственно, чтоб оговориться в этом, я и отвечаю г-ну Гамме. Напротив, я именно заметил, что и в народе – «есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают». Они есть, почтенный публицист, есть в самом деле, и блажен – кто может их разглядеть. Думаю, что у меня тут, то есть собственно в этих словах, нет ни малейшей неясности. К тому же неясность не всегда происходит от того, что писатель неясен, а иногда и совсем от противуположных причин…
Что же касается до нравоучения, которым вы кончаете вашу заметку: «Пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша», – то замечу вам, что это желание совершенно невозможное: без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме еще пущей мерзости. У меня же, по крайней мере, хоть шанс оставлен: если теперь неприглядно, то, при ясно сознаваемом желании стать лучшими (то есть при идеалах лучшего), можно действительно когда-нибудь собраться и стать лучшими. По крайней мере, это вовсе не столь невозможно, как ваше предположение стать лучшими при «дурных» идеалах, то есть при дурных желаниях.
Надеюсь, что на мои несколько слов вы не рассердитесь, г-н Гамма. Останемся каждый при нашем мнении и будем ждать развязки; уверяю вас, что развязка, может быть, вовсе не так отдаленна.
«Обособление»
А между тем я пишу «о виденном, слышанном и прочитанном». Хорошо еще, что не стеснил себя обещанием писать обо всем «виденном, слышанном и прочитанном». Да и слышишь-то все больше странности. Как передавать их, когда все это само собою лезет врозь и ни за что не хочет сложиться в один пучок! Право, мне все кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает с своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать с начала. Разрывают прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и утешается. Если не действует, то хотел бы действовать. Положим, ужасно многие ничего не начинают и никогда не начнут, но всё же они оторвались, стоят в сторонке, глядят на оторванное место и, сложив руки, чего-то ждут. У нас все чего-то ждут. Между тем ни в чем почти нет нравственного соглашения; все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на единицы. И главное, иногда даже с самым легким и довольным видом. Вот вам наш современный литератор-художник, то есть из новых людей. Он вступает на поприще и знать не хочет ничего предыдущего; он от себя и сам по себе. Он проповедует новое, он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей; он ничего не читал, да и не станет читать. Он не только не читал Пушкина и Тургенева, но, право, вряд ли читал и своих, т. е. Белинского и Добролюбова. Он выводит новых героев, новых женщин, и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых, а потому вдруг очутываются в фальшивейшем положении, в каком только можно представить, и гибнут в назидание и в соблазн читателю. Эта фальшь положения и составляет все назидание. Во всем этом весьма мало нового, а, напротив, чрезвычайно много самого истрепанного старья; но не в том совсем дело, а в том, что автор совершенно убежден, что сказал новое слово, что он сам по себе, и обособился и, разумеется, этим очень доволен. Этот примерчик, впрочем, старый и маленький, но слышал я и еще на днях рассказ об одном новом слове: был некто «нигилистом», отрицал, пострадал и, после долгих передряг и даже заточений, обрел в сердце своем вдруг религиозное чувство. Что ж, вы думаете, он тотчас сделал? Он мигом «уединился и обособился», нашу христианскую веру тотчас же и тщательно обошел, все это прежнее устранил и немедленно выдумал свою веру, тоже христианскую, но зато «свою собственную». У него жена и дети. С женой он не живет, а дети в чужих руках. Он на днях бежал в Америку, очень может быть, чтоб проповедовать там новую веру. Одним словом, каждый сам по себе и каждый по-своему, и неужто они только оригинальничают, представляются? Вовсе нет. Нынче у нас момент скорее правдивый, чем рефлекторный. Многие, и, может быть, очень многие, действительно тоскуют и страдают; они в самом деле и серьезнейшим образом порвали все прежние связи и принуждены начинать сначала, ибо свету им никто не дает. А мудрецы и руководители только им поддакивают, иные страха ради иудейского (как-де не пустить его в Америку: в Америку бежать все-таки либерально), а иные так просто наживаются на их счет. Так и гибнут свежие силы. Мне скажут, что это всего два-три факта, которые ничего не означают, что, напротив, все несомненно тверже прежнего обобщается и соединяется, что являются банки, общества, ассоциации. <…>
Впрочем, я о банках вдвинул шутя: не мое пока дело, а я только об обособлении. Как бы мне объяснить эту мысль получше? Кстати, приведу несколько мыслей о наших корпорациях и ассоциациях из одной рукописи, не моей, а мне присланной и нигде не напечатанной. Автор обращается к своим оппонентам в провинции:
«Вы говорите, что артели, ассоциации, корпорации, кооперации, торговые и другие всякие товарищества основаны на врожденном человеку чувстве общительности? Выгораживая русскую артель, которая еще слишком мало исследована, чтобы говорить о ней что-либо положительное, мы думаем, что все эти ассоциации, корпорации и проч. – все это лишь союзы одних против других, союзы, основанные на чувстве самоохранения, вызванные борьбою за существование; и это мнение наше подтверждается историею возникновения этих союзов, которые заключались сначала бедными и слабыми против богатых и сильных, а потом и эти последние стали пользоваться оружием своих противников. Да, история несомненно свидетельствует, что все эти союзы возникли из братской вражды, основаны не на потребности общения, как вы полагаете, а на чувстве страха за свое существование или же на желании получить барыш, выгоду, пользу, хотя бы и на счет ближнего. Всматриваясь же в устройство всех этих детищ утилитаризма, мы видим, что главная их забота – это устройство надежного контроля каждого за всеми и всех за каждым, – попросту, поголовного шпионства из боязни, как бы кто не надул кого. Все эти ассоциации с их контролем внутри и завистливою ко всему постороннему внешнею деятельностию представляют поразительную параллель с тем, что творится в политическом мире, где взаимные отношения народов характеризуются вооруженным миром, прерываемым кровопролитными схватками, внутренняя же их жизнь – бесконечною борьбою партий. О каком же общении, о какой любви тут может быть речь! Не потому ли все эти учреждения так плохо и прививаются у нас, что мы еще слишком просторно живем, что нам нет еще основания слишком вооружаться друг против друга, что в нас слишком еще много расположения, веры друг к другу, и эти чувства мешают нам устроить такой контроль, такое шпионство друг за другом, как это необходимо при устройстве всех этих ассоциаций, коопераций, торговых и других товариществ, при недостаточности же контроля они идти не могут, они непременно лопаются.
Уж не будем ли мы сокрушаться о таких наших недостатках, сравнительно с нашими более образованными западными соседями?! Нет, мы, по крайней мере, в этих наших недостатках видим наше богатство, видим, что в нас еще действует с некоторой силой то чувство единения, без которого человеческие общества существовать не могут; хотя оно, действуя в людях бессознательно, приводит их как к великим подвигам, так, весьма часто, и к великим порокам. Но в ком это чувство еще не убито, для того все возможно, лишь бы оно, это чувство, из бессознательного, из инстинкта, обратилось в силу сознанную, в такую, которая не бросала бы нас в ту или другую сторону, по слепому капризу случая, а направлялась бы нами к достижению разумных целей; без этого же чувства единения, взаимной любви, общения людей между собою, немыслимо ничто великое, потому что немыслимо и само общество».
То есть автор, видите ли, может быть, и не совсем уж так проклинает ассоциации и корпорации, а он только утверждает, что их теперешний главный принцип состоит всего лишь только в утилитаризме да еще в шпионстве и что это вовсе не есть единение людей. Все это молодо, свежо, теоретично, непрактично, но в принципе совершенно верно и написано не только искренно, но с страданием и болением. И заметьте всеобщую черту: все дело у нас теперь в первом шаге, в практике, а все, все до единого, кричат и заботятся лишь о принципах. <…> История рукописи, из которой взял я вышеприведенную выдержку, следующая. Почтенный автор ее (не знаю только, молодой ли человек или из молодых стариков) напечатал одну небольшую заметку в одном губернском издании, а редакция губернского издания, поместив его заметку, сделала рядом и свою оговорку, отчасти с ним не согласную. Затем, когда автор заметки написал в опровержение этой, с ним не согласной, оговорки уже целую статью (впрочем, не очень большую), то редакция губернского издания отказалась поместить у себя эту статью под предлогом, что это «скорее проповедь, чем статья». Тогда автор обратился ко мне письмом и, посылая мне эту отказанную статью, просил меня, чтоб я ее прочел, вникнул и сказал об ней, в «Дневнике», мое мнение. Во-первых, я благодарю за доверие к моему мнению, а во-вторых – благодарю за статью, потому что она доставила мне чрезвычайное удовольствие: я редко читал что-нибудь логичнее, и хоть я всю статью поместить не могу, но предыдущую выдержку сделал с намерением, которого и не потаю: дело в том, что у автора ее, хлопочущего об истинном единении людей, я нашел чрезвычайно тоже «обособленный» в своем роде размах, и именно в тех частях рукописи, которые я не рискну приводить, до того обособленный, что даже редко и встречается; так что не статья одна, а и сам уже автор ее как бы подтверждает мою мысль об «обособлении» единиц и чрезвычайном, так сказать, химическом разложении нашего общества на составные его начала, наступившем вдруг в наше время.
Прибавлю, однако, что если все теперь «сами от себя и сами по себе», то не без связи же, однако, и с предыдущим. Напротив, связь эта должна существовать непременно, хотя бы и все казалось разрозненным и друг друга не понимающим, и проследить эту связь всего бы любопытнее. Одним словом, хоть и старо сравнение, но наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе, но чуть лишь расторгнута связь, то весь пучок разлетится на множество слабых былинок, которые разнесет первый ветер. Так вот этот-то пук у нас теперь и рассыпался. Что ж, неужели не правда, что правительство наше, за все время двадцатилетних реформ своих, не нашло у нас всей поддержки интеллигентных сил наших? Напротив, не ушла ли огромная часть молодых, свежих и драгоценных сил в какую-то странную сторону, в обособление с глумлением и угрозой, и именно опять-таки из-за того, чтоб вместо первых девяти шагов ступить прямо десятый, забывая притом, что десятый-то шаг, без предшествовавших девяти, уж во всяком случае обратится в фантазию, даже если б он и значил что-нибудь сам по себе. Всего обиднее, что понимает что-нибудь в этом десятом шаге, может быть, всего только один из тысячи отщепенцев, а остальные слышали, как в колокола звонят. В результате пусто: курица болтуна снесла. Видали ль вы в знойное лето лесной пожар? Как жалко смотреть и какая тоска! сколько напрасно гибнет ценного материала, сколько сил, огня и тепла уходит даром, бесследно и бесполезно.







