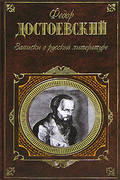Федор Достоевский
Преступление и наказание
VII
В тот же день, но уже вечером, часу в седьмом, Раскольников подходил к квартире матери и сестры своей, – к той самой квартире в доме Бакалеева, где устроил их Разумихин. Вход на лестницу был с улицы. Раскольников подходил, все еще сдерживая шаг и как бы колеблясь: войти или нет? Но он бы не воротился ни за что; решение его было принято. «К тому же все равно, они еще ничего не знают, – думал он, – а меня уже привыкли считать за чудака…» Костюм его был ужасен: все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорванное, истрепанное. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды, физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собою. Всю эту ночь провел он один, бог знает где. Но, по крайней мере, он решился.
Он постучал в дверь; ему отперла мать. Дунечки дома не было. Даже и служанки на ту пору не случилось. Пульхерия Александровна сначала онемела от радостного изумления; потом схватила его за руку и потащила в комнату.
– Ну, вот и ты! – начала она, запинаясь от радости. – Не сердись на меня, Родя, что я тебя так глупо встречаю, со слезами: это я смеюсь, а не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нет, это я радуюсь, а уж у меня глупая привычка такая: слезы текут. Это у меня со смерти твоего отца, от всего плачу. Садись, голубчик, устал, должно быть, вижу. Ах, как ты испачкался.
– Я под дождем вчера был, мамаша… – начал было Раскольников.
– Да нет же, нет! – вскинулась Пульхерия Александровна, перебивая его, – ты думал, я тебя так сейчас и допрашивать начну, по бабьей прежней привычке, не тревожься. Я ведь понимаю, все понимаю, теперь я уж выучилась по-здешнему и, право, сама вижу, что здесь умнее. Я раз навсегда рассудила: где мне понимать твои соображения и требовать у тебя отчетов? У тебя, может быть, и бог знает какие дела и планы в голове, или мысли там какие-нибудь зарождаются; так мне тебя и толкать под руку: об чем, дескать, думаешь? Я вот… Ах, господи! Да что же это я толкусь туда и сюда, как угорелая… Я вот, Родя, твою статью в журнале читаю уже в третий раз, мне Дмитрий Прокофьич принес. Так я и ахнула, как увидела; вот дура-то, думаю про себя, вот он чем занимается, вот и разгадка вещей! У него, может, новые мысли в голове на ту пору; он их обдумывает, я его мучаю и смущаю. Читаю, друг мой, и, конечно, много не понимаю; да оно, впрочем, так и должно быть: где мне?
– Покажите-ка, мамаша.
Раскольников взял газету и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно-сладкое чувство, какое испытывает автор, в первый раз видящий себя напечатанным, к тому же и двадцать три года сказались. Это продолжалось одно мгновение. Прочитав несколько строк, он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце. Вся его душевная борьба последних месяцев напомнилась ему разом. С отвращением и досадой отбросил он статью на стол.
– Но только, Родя, как я ни глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире. И смели они про тебя думать, что ты помешался. Ха-ха-ха! ты не знаешь – ведь они это думали! Ах, низкие червяки, да где им понимать, что такое ум! И ведь Дунечка тоже чуть не верила – каково! Покойник отец твой два раза отсылал в журналы – сначала стихи (у меня и тетрадка хранится, я тебе когда-нибудь покажу), а потом уж и целую повесть (я сама выпросила, чтоб он дал мне переписать), и уж как мы молились оба, чтобы приняли, – не приняли! Я, Родя, дней шесть-семь назад убивалась, смотря на твое платье, как ты живешь, что ешь и в чем ходишь. А теперь вижу, что опять-таки глупа была, потому захочешь, все теперь себе сразу достанешь, умом и талантом. Это ты покамест, значит, не хочешь теперь и гораздо важнейшими делами занимаешься…
– Дуни дома нет, мамаша?
– Нету, Родя. Очень часто ее дома не вижу, оставляет меня одну. Дмитрий Прокофьич, спасибо ему, заходит со мной посидеть и все об тебе говорит. Любит он тебя и уважает, мой друг. Про сестру же не говорю, чтоб она уж так очень была ко мне непочтительна. Я ведь не жалуюсь. У ней свой характер, у меня свой; у ней свои тайны какие-то завелись; ну, у меня тайн от вас нет никаких. Конечно, я твердо уверена, что Дуня слишком умна и, кроме того, и меня и тебя любит… но уж не знаю, к чему все это приведет. Вот ты меня осчастливил теперь, Родя, что зашел, а она-то вот и прогуляла; придет, я и скажу; а без тебя брат был, а ты где изволила время проводить? Ты меня, Родя, очень-то и не балуй: можно тебе – зайди, нельзя – нечего делать, и так подожду. Ведь я все-таки буду знать, что ты меня любишь, с меня и того довольно. Буду вот твои сочинения читать, буду про тебя слышать ото всех, а нет-нет – и сам зайдешь проведать, чего ж лучше? Ведь вот зашел же теперь, чтоб утешить мать, я ведь вижу…
Тут Пульхерия Александровна вдруг заплакала.
– Опять я! Не гляди на меня, дуру! Ах, господи, да что ж я сижу, – вскричала она, срываясь с места, – ведь кофей есть, а я тебя и не потчую! Вот ведь эгоизм-то старушечий что значит. Сейчас, сейчас!
– Маменька, оставьте это, я сейчас пойду. Я не для того пришел. Пожалуйста, выслушайте меня.
Пульхерия Александровна робко подошла к нему.
– Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне ни услышали, что бы вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь? – спросил он вдруг от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взвешивая их.
– Родя, Родя, что с тобою? Да как же ты об этом спрашивать можешь! Да кто про тебя мне что-нибудь скажет? Да я и не поверю никому, кто бы ко мне ни пришел, просто прогоню.
– Я пришел вас уверить, что я вас всегда любил, и теперь рад, что мы одни, рад даже, что Дунечки нет, – продолжал он с тем же порывом, – я пришел вам сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знайте, что сын ваш любит вас теперь больше себя и что все, что вы думали про меня, что я жесток и не люблю вас, все это была неправда. Вас я никогда не перестану любить… Ну и довольно; мне казалось, что так надо сделать и этим начать…
Пульхерия Александровна молча обнимала его, прижимала к своей груди и тихо плакала.
– Что с тобой, Родя, не знаю, – сказала она наконец, – думала я все это время, что мы просто надоедаем тебе, а теперь вижу по всему, что тебе великое горе готовится, оттого ты тоскуешь. Давно я уже предвижу это, Родя. Прости меня, что об этом заговорила; все об этом думаю и по ночам не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю напролет в бреду пролежала и все о тебе вспоминала. Расслушала я что-то, а ничего не поняла. Все утро как перед казнью ходила, чего-то ждала, предчувствовала и вот дождалась! Родя, Родя, куда же ты? Едешь, что ли, куда-нибудь?
– Еду.
– Так я и думала! Да ведь и я с тобой поехать могу, если тебе надо будет. И Дуня; она тебя любит, она очень любит тебя, и Софья Семеновна, пожалуй, пусть с нами едет, если надо; видишь, я охотно ее вместо дочери даже возьму. Нам Дмитрий Прокофьич поможет вместе собраться… но… куда же ты… едешь?
– Прощайте, маменька.
– Как! Сегодня же! – вскрикнула она, как бы теряя его навеки.
– Мне нельзя, мне пора, мне очень нужно…
– И мне нельзя с тобой?
– Нет, а вы станьте на колени и помолитесь за меня богу. Ваша молитва, может, и дойдет.
– Дай же, я перекрещу тебя, благословлю тебя! Вот так, вот так. О боже, что это мы делаем!
Да, он был рад, он был очень рад, что никого не было, что они были наедине с матерью. Как бы за все это ужасное время разом размягчилось его сердце. Он упал перед нею, он ноги ей целовал, и оба, обнявшись, плакали. И она не удивлялась и не расспрашивала на этот раз. Она уже давно понимала, что с сыном что-то ужасное происходит, а теперь приспела какая-то страшная для него минута.
– Родя, милый мой, первенец ты мой, – говорила она, рыдая, – вот ты теперь такой же, как был маленький, так же приходил ко мне, так же и обнимал и целовал меня; еще когда мы с отцом жили и бедовали, ты утешал нас одним уже тем, что был с нами, а как я похоронила отца, – то сколько раз мы, обнявшись с тобой вот так, как теперь, на могилке его плакали. А что я давно плачу, то это сердце материнское беду предузнало. Я как только в первый раз увидела тебя тогда, вечером, помнишь, как мы только что приехали сюда, то все по твоему взгляду одному угадала, так сердце у меня тогда и дрогнуло, а сегодня, как отворила тебе, взглянула, ну, думаю, видно, пришел час роковой. Родя, Родя, ты ведь не сейчас едешь?
– Нет.
– Ты еще придешь?
– Да… приду.
– Родя, не сердись, я и расспрашивать не смею. Знаю, что не смею, но так, два только словечка скажи мне, далеко куда ты едешь?
– Очень далеко.
– Что же там, служба какая, карьера, что ли, тебе?
– Что бог пошлет… помолитесь только за меня…
Раскольников пошел к дверям, но она ухватилась за него и отчаянным взглядом смотрела ему в глаза. Лицо ее исказилось от ужаса.
– Довольно, маменька, – сказал Раскольников, глубоко раскаиваясь, что вздумал прийти.
– Не навек? Ведь еще не навек? Ведь ты придешь, завтра придешь?
– Приду, приду, прощайте.
Он вырвался наконец.
Вечер был свежий, теплый и ясный; погода разгулялась еще с утра. Раскольников шел в свою квартиру; он спешил. Ему хотелось кончить все до заката солнца. До тех же пор не хотелось бы с кем-нибудь повстречаться. Поднимаясь в свою квартиру, он заметил, что Настасья, оторвавшись от самовара, пристально следит за ним и провожает его глазами. «Уж нет ли кого у меня?» – подумал он. Ему с отвращением померещился Порфирий. Но, дойдя до своей комнаты и отворив ее, он увидел Дунечку. Она сидела одна-одинешенька, в глубоком раздумье и, кажется, давно уже ждала его. Он остановился на пороге. Она привстала с дивана в испуге и выпрямилась пред ним. Ее взгляд, неподвижно устремленный на него, изображал ужас и неутолимую скорбь. И по одному этому взгляду он уже понял сразу, что ей все известно.
– Что же мне, входить к тебе или уйти? – спросил он недоверчиво.
– Я целый день сидела у Софьи Семеновны; мы ждали тебя обе. Мы думали, что ты непременно туда зайдешь.
Раскольников вошел в комнату и в изнеможении сел на стул.
– Я как-то слаб, Дуня; уж очень устал; а мне бы хотелось хоть в эту-то минуту владеть собою вполне.
Он недоверчиво вскинул на нее глазами.
– Где же ты был всю ночь?
– Не помню хорошо; видишь, сестра, я окончательно хотел решиться и много раз ходил близ Невы; это я помню. Я хотел там и покончить, но… я не решился… – прошептал он, опять недоверчиво взглядывая на Дуню.
– Слава богу! А как мы боялись именно этого, я и Софья Семеновна! Стало быть, ты в жизнь еще веруешь: слава богу, слава богу!
Раскольников горько усмехнулся.
– Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали; я не верую, а ее просил за себя молиться. Это бог знает, как делается, Дунечка, и я ничего в этом не понимаю.
– Ты у матери был? Ты же ей и сказал? – в ужасе воскликнула Дуня. – Неужели ты решился сказать?
– Нет, не сказал… словами; но она многое поняла. Она слышала ночью, как ты бредила. Я уверен, что она уже половину понимает. Я, может быть, дурно сделал, что заходил. Уж и не знаю, для чего я даже и заходил-то. Я низкий человек, Дуня.
– Низкий человек, а на страданье готов идти! Ведь ты идешь же?
– Иду. Сейчас. Да, чтоб избежать этого стыда, я и хотел утопиться, Дуня, но подумал, уже стоя над водой, что если я считал себя до сей поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь, – сказал он, забегая наперед. – Это гордость, Дуня?
– Гордость, Родя.
Как будто огонь блеснул в его потухших глазах; ему точно приятно стало, что он еще горд.
– А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды? – спросил он с безобразною усмешкой, заглядывая в ее лицо.
– О Родя, полно! – горько воскликнула Дуня.
Минуты две продолжалось молчание. Он сидел потупившись и смотрел в землю; Дунечка стояла на другом конце стола и с мучением смотрела на него. Вдруг он встал:
– Поздно, пора. Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя.
Крупные слезы текли по щекам ее.
– Ты плачешь, сестра, а можешь ты протянуть мне руку?
– И ты сомневался в этом?
Она крепко обняла его.
– Разве ты, идучи на страдание, не смываешь уже вполовину свое преступление? – вскричала она, сжимая его в объятиях и целуя его.
– Преступление? Какое преступление? – вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве, – то, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нем и смывать его не думаю. И что мне все тычут со всех сторон: «преступление, преступление!» Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь, да разве еще из выгоды, как предлагал этот… Порфирий!..
– Брат, брат, что ты это говоришь! Но ведь ты кровь пролил! – в отчаянии вскричала Дуня.
– Которую все проливают, – подхватил он чуть не в исступлении, – которая льется и всегда лилась на свете, как водопад, которую льют, как шампанское, и за которую венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества. Да ты взгляни только пристальнее и разгляди! Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется, при неудаче… (При неудаче все кажется глупо!) Этою глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно, пользой… Но я, я и первого шага не выдержал, потому что я – подлец! Вот в чем все и дело! И все-таки вашим взглядом не стану смотреть: если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан!
– Но ведь это не то, совсем не то! Брат, что ты это говоришь!
– А! не та форма, не так эстетически хорошая форма! Ну, я решительно не понимаю: почему лупить в людей бомбами, правильною осадой, более почтенная форма? Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!.. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления! Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!..
Краска даже ударила в его бледное, изнуренное лицо. Но, проговаривая последнее восклицание, он нечаянно встретился взглядом с глазами Дуни, и столько, столько муки за себя встретил он в этом взгляде, что невольно опомнился. Он почувствовал, что все-таки сделал несчастными этих двух бедных женщин. Все-таки он же причиной…
– Дуня, милая! Если я виновен, прости меня (хоть меня и нельзя простить, если я виновен). Прощай! Не будем спорить! Пора, очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя, мне еще надо зайти… А поди теперь и тотчас же сядь подле матери. Умоляю тебя об этом! Это последняя, самая большая моя просьба к тебе. Не отходи от нее все время; я оставил ее в тревоге, которую она вряд ли перенесет: она или умрет, или сойдет с ума. Будь же с нею! Разумихин будет при вас; я ему говорил… Не плачь обо мне: я постараюсь быть и мужественным и честным, всю жизнь, хоть я и убийца. Может быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю вас, увидишь; я еще докажу… теперь покамест до свиданья, – поспешил он заключить, опять заметив какое-то странное выражение в глазах Дуни при последних словах и обещаниях его. – Что же ты так плачешь? Не плачь, не плачь; ведь не совсем же расстаемся!.. Ах, да! Постой, забыл!..
Он подошел к столу, взял одну толстую запыленную книгу, развернул ее и вынул заложенный между листами маленький портретик, акварелью, на слоновой кости. Это был портрет хозяйкиной дочери, его бывшей невесты, умершей в горячке, той самой странной девушки, которая хотела идти в монастырь. С минуту он всматривался в это выразительное и болезненное личико, поцеловал портрет и передал Дунечке.
– Вот с нею я много переговорил и об этом, с нею одной, – произнес он вдумчиво, – ее сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось. Не беспокойся, – обратился он к Дуне, – она не согласна была, как и ты, и я рад, что ее уж нет. Главное, главное в том, что все теперь пойдет по-новому, переломится надвое, – вскричал он вдруг, опять возвращаясь к тоске своей, – все, все, а приготовлен ли я к тому? Хочу ли я этого сам? Это, говорят, для моего испытания нужно! К чему, к чему все эти бессмысленные испытания? К чему они, лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после двадцатилетней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда и жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? О, я знал, что я подлец, когда я сегодня, на рассвете, стоял над Невой!
Оба, наконец, вышли. Трудно было Дуне, но она любила его! Она пошла, но, отойдя шагов пятьдесят, обернулась еще раз взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя до угла, обернулся и он; в последний раз они встретились взглядами; но, заметив, что она на него смотрит, он нетерпеливо и даже с досадой махнул рукой, чтоб она шла, а сам круто повернул за угол.
«Я зол, я это вижу, – думал он про себя, устыдясь чрез минуту своего досадливого жеста рукой Дуне. – Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того! О, если б я был один и никто не любил меня и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого! А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать – двадцать лет так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылают меня теперь, этого-то им и надобно… Вот они снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того – идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования! О, как я их всех ненавижу!»
Он глубоко задумался о том: «каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, пред всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смирится! А что ж, почему ж и нет? Конечно, так и должно быть. Разве двадцать лет беспрерывного гнета не добьют окончательно? Вода камень точит. И зачем, зачем же жить после этого, зачем я иду теперь, когда сам знаю, что все это будет именно так, как по книге, а не иначе!»
Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера, но все-таки шел.
VIII
Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Они ждали вместе с Дуней. Та пришла к ней еще с утра, вспомнив вчерашние слова Свидригайлова, что Соня «об этом знает». Не станем передавать подробностей разговора, и слез обеих женщин, и насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания по крайней мере вынесла одно утешение, что брат будет не один: к ней, Соне, к первой пришел он со своею исповедью; в ней искал он человека, когда ему понадобился человек; она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать: она, напротив, считала себя недостойною даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее как одно из самых прекрасных и недосягаемых видений в ее жизни.
Дунечка, наконец, не вытерпела и оставила Соню, чтобы ждать брата в его квартире; ей все казалось, что он туда прежде придет. Оставшись одна, Соня тотчас же стала мучиться от страха при мысли, что, может быть, действительно он покончит самоубийством. Того же боялась и Дуня. Но обе они весь день наперерыв разубеждали друг друга всеми доводами в том, что этого быть не может, и были спокойнее, пока были вместе. Теперь же, только что разошлись, и та и другая стали об одном этом только и думать. Соня припоминала, как вчера Свидригайлов сказал ей, что у Раскольникова две дороги – Владимирка или… Она знала к тому же его тщеславие, заносчивость, самолюбие и неверие. «Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить?» – подумала она, наконец, в отчаянии. Солнце между тем уже закатывалось. Она грустно стояла пред окном и пристально смотрела в него, – но в окно это была видна только одна капитальная небеленая стена соседнего дома. Наконец, когда уж она дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, – он вошел в ее комнату.
Радостный крик вырвался из ее груди. Но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела.
– Ну да! – сказал, усмехаясь, Раскольников, – я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекресток посылала; что ж теперь, как дошло до дела, и струсила?
Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон; холодная дрожь прошла было по ее телу, но чрез минуту она догадалась, что и тон и слова эти – все было напускное. Он и говорил-то с нею, глядя как-то в угол и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо.
– Я, видишь, Соня, рассудил, что этак, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельство… Ну, да долго рассказывать, да и нечего. Меня только, знаешь, что злит? Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить прямо на меня свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, – будут указывать пальцами… Тьфу! Знаешь, я не к Порфирию иду; надоел он мне. Я лучше к моему приятелю Пороху пойду, то-то удивлю, то-то эффекта в своем роде достигну. А надо бы быть хладнокровнее; слишком уж я желчен стал в последнее время. Веришь ли: я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то только, что она обернулась в последний раз взглянуть на меня. Свинство этакое состояние! Эх, до чего я дошел? Ну, что же, где кресты?
Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты, ни на одном предмете не мог сосредоточить внимания; мысли его перескакивали одна через другую, он заговаривался; руки его слегка дрожали.
Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик.
– Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе! хе! И точно я до сих пор мало страдал! Кипарисный, то есть простонародный; медный – это Лизаветин, себе берешь, – покажи-ка? так на ней он был… в ту минуту? Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те кстати теперь, право, те бы мне и надеть… А впрочем, вру я все, о деле забуду; рассеян я как-то!.. Видишь, Соня, – я, собственно, затем пришел, чтобы тебя предуведомить, чтобы ты знала… Ну, вот и все… Я только затем ведь и пришел. (Гм, я, впрочем, думал, что больше скажу.) Да ведь ты и сама хотела, чтоб я пошел, ну вот и буду сидеть в тюрьме, и сбудется твое желание; ну чего ж ты плачешь? И ты тоже? Перестань, полно; ох, как мне это все тяжело!
Чувство, однако же, родилось в нем; сердце его сжалось, на нее глядя. «Эта-то, эта-то чего? – думал он про себя, – я-то что ей? Чего она плачет, чего собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя!»
– Перекрестись, помолись хоть раз, – дрожащим, робким голосом попросила Соня.
– О, изволь, это сколько тебе угодно! И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца…
Ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое.
Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову. Это был зеленый драдедамовый платок, вероятно тот самый, про который упоминал тогда Мармеладов, «фамильный». У Раскольникова мелькнула об этом мысль, но он не спросил. Действительно, он уже сам стал чувствовать, что ужасно рассеян и как-то безобразно встревожен. Он испугался этого. Его вдруг поразило и то, что Соня хочет уйти вместе с ним.
– Что ты! Ты куда? Оставайся, оставайся! Я один, – вскричал он в малодушной досаде и, почти озлобившись, пошел к дверям. – И к чему тут целая свита! – бормотал он, выходя.
Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, он уже забыл о ней; одно язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его.
«Да так ли, так ли все это? – опять-таки подумал он, сходя с лестницы, – неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить… и не ходить?»
Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты, в своем зеленом платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его, – точно ждала, чтобы поразить его окончательно.
«Ну для чего, ну зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за каким же делом? Никакого совсем и не было дела! Объявить, что иду; так что же? Экая надобность! Люблю, что ли, я ее? Ведь нет, нет? Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, – мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается! Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!»
Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост, в сторону, и прошел на Сенную.
Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимания; все выскользало. «Вот чрез неделю, чрез месяц меня провезут куда-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту, как-то я тогда взгляну на эту канаву, – запомнить бы это? – мелькнуло у него в голове. – Вот эта вывеска, как-то я тогда прочту эти самые буквы? Вот тут написано: „Таварищество“, ну, вот и запомнить это а, букву а, и посмотреть на нее чрез месяц, на это самое а: как-то я тогда посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать?.. Боже, как это все должно быть низко, все эти мои теперешние… заботы! Конечно, все это, должно быть, любопытно… в своем роде… (ха-ха-ха! об чем я думаю!) я ребенком делаюсь, я сам пред собою фанфароню; ну чего я стыжу себя? Фу, как толкаются! Вот этот толстый – немец, должно быть, – что толкнул меня: ну, знает ли он, кого толкнул? Баба с ребенком просит милостыню, любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что, вот бы и подать для курьезу. Ба, пятак уцелел в кармане, откуда? На, на… возьми, матушка!»
– Сохрани тебя бог! – послышался плачевный голос нищей.
Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтоб остаться одному; но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный: ему все хотелось плясать, но он все валился на сторону. Его обступили. Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хоть и смотрел на него. Он отошел, наконец, даже не помня, где он находится; но когда дошел до средины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего – с телом и мыслию.
Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: „Я убийца!“ Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю…
Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастием. Он встал и поклонился в другой раз.
– Ишь нахлестался! – заметил подле него один парень.
Раздался смех.
– Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, – прибавил какой-то пьяненький из мещан.
– Парнишка еще молодой! – ввернул третий.
– Из благородных! – заметил кто-то солидным голосом.
– Ноне их не разберешь, кто благородный, кто нет.
Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может быть готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако ж, вынес все эти крики и, не озираясь, пошел прямо чрез переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему; он уже предчувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он, на Сенной, поклонился до земли в другой раз, оборотившись влево, шагах в пятидесяти от себя он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных бараков, стоявших на площади, стало быть, она сопровождала все его скорбное шествие! Раскольников почувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось… но – вот уж он и дошел до рокового места…
Он довольно бодро вошел во двор. Надо было подняться в третий этаж. «Покамест еще подымусь», – подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко, еще много времени остается, о многом еще можно передумать.
Опять тот же сор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир отворены настежь, опять те же кухни, из которых несет чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтоб оправиться, чтобы войти человеком. «А для чего? зачем? – подумал он вдруг, осмыслив свое движение. – Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше. – В воображении его мелькнула в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. – Неужели в самом деле к нему? А нельзя ли к другому? Нельзя ли к Никодиму Фомичу? Поворотить сейчас и пойти к самому надзирателю на квартиру? По крайней мере обойдется домашним образом… Нет, нет! К Пороху, к Пороху! Пить, так пить всё разом…»
Похолодев и чуть-чуть себя помня, отворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу, стоял какой-то дворник и еще какой-то простолюдин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошел в следующую комнату. «Может, еще можно будет и не говорить», – мелькало в нем. Тут одна какая-то личность из писцов, в приватном сюртуке, прилаживалась что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь. Заметова не было. Никодима Фомича, конечно, тоже не было.