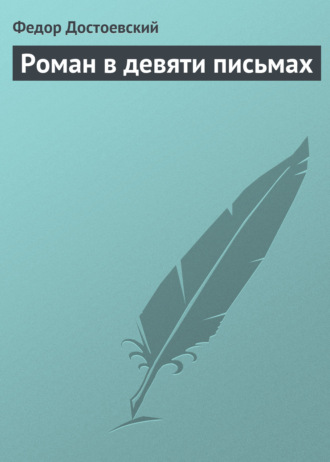
Федор Достоевский
Роман в девяти письмах
V. (От Петра Иваныча к Ивану Петровичу)
Ноября 11-го.
Любезнейший, почтеннейший друг мой,
Иван Петрович!
До глубины души моей я был огорчен письмом вашим. И не совестно было вам, дорогой, но несправедливый друг мой, так поступать с лучшим доброжелателем вашим. Поторопиться, не объяснить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными подозрениями?! Но спешу отвечать на обвинения ваши. Не застали вы меня, Иван Петрович, вчера потому, что я вдруг и совсем неожиданно позван был к одру умирающей. Тетушка Евфимия Николавна преставилась вчера вечером, в одиннадцать часов пополудни. Общим голосом родственников избран я был распорядителем всей плачевной и горестной церемонии. Дел было столько, что я и поутру сегодня не успел увидеться с вами, ниже уведомить хоть строчкой письма. Скорбею душевно о недоразумении, вышедшем между нами. Слова мои о Евгении Николаевиче, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно противную сторону, а делу всему дали глубоко обижающий меня смысл. Упоминаете о деньгах и выказываете о них свое беспокойство. Но, не обязуясь, готов удовлетворить всем вашим желаниям и требованиям, хотя здесь, мимоходом, и не могу не напомнить вам, что деньги, триста пятьдесят рублей серебром, взяты мною у вас на прошлой неделе на известных условиях, а не заимообразно. В последнем же случае непременно бы существовала расписка. Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение, вижу в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушие и открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце вашем и что, наконец, вы же сами протянете первый мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись!
Несмотря на то что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый, и сегодня же, готов бы был к вам явиться с повинною, но я нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня, что убит теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствий моих жена слегла в постель; боюсь серьезной болезни. Что же касается до маленького, то ему, слава богу, получше. Но бросаю перо… дела зовут, а их целая куча.
Позвольте, бесценнейший друг мой, пребыть и проч.
VI. (От Ивана Петровича к Петру Иванычу)
Ноября 14-го
Милостивый мой государь, Петр Иваныч!
Я выждал три дня; употребить постарался их с пользою, – между тем, чувствуя, что вежливость и приличие суть первые украшения всякого человека, с самого последнего письма моего, от десятого числа сего месяца, не напоминал вам о себе ни словом, ни делом, частию для того чтобы дать вам исполнить безмятежно христианский долг относительно тетушки вашей, частию же потому, что для некоторых соображений и изысканий по известному делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться.
Признаюсь вам откровенно, что при чтении первых двух писем ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу; вот по какому случаю наиболее искал я свидания с вами и объяснения с глазу на глаз, боялся пера и обвинял себя в неясности способа выражения мыслей моих на бумаге. Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею и пустозвонного щегольства я чуждаюсь, потому что по горькому опыту познал наконец, сколь обманчива иногда бывает наружность и что под цветами иногда таится змея. Но вы меня понимали; не отвечали же мне так, как следует, потому, что вероломством души своей положили заране изменить своему честному слову и существовавшим между нами приятельским отношениям. Совершенно же доказали вы это гнусным поведением вашим относительно меня в последнее время, поведением, пагубным для моего интереса, чего не ожидал я и чему верить никак не хотел до настоящей минуты; ибо, плененный в самом начале знакомства нашего умными манерами вашими, тонкостию вашего обращения, знанием дел и выгодами, имевшими быть мне от сообщества с вами, я полагал, что нашел истинного друга, приятеля и доброжелателя. Теперь же ясно познал, что есть много людей, под льстивою и блестящею наружностью скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устроение козней ближнему и на непозволительный обман и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кои вошли с ними в разные дела и условия. Вероломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня ясно можно видеть из нижеследующего.
Во-первых, когда я в ясных и отчетливых выражениях письма моего изображал вам, милостивый государь мой, свое положение, а вместе с тем спрашивал вас в первом письме моем, что вы хотите разуметь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, преимущественно же относительно Евгения Николаича, то вы по большей части старались умалчивать и, возмутив меня раз подозрениями и сомнениями, спокойно сторонились от дела. Потом, наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Как это назвать прикажете, милостивый мой государь? Потом, когда каждая минута была для меня дорога и когда вы заставляли меня гоняться за вами на протяжении всей столицы, писали вы под личиною дружбы мне письма, в которых, нарочно умалчивая о деле, говорили о совершенно посторонних вещах: именно о болезнях во всяком случае уважаемой мною вашей супруги и о том, что вашему малютке ревеню дали и что-де по сему случаю у него прорезался зуб. Обо всем этом упоминали вы в каждом письме своем с гнусною и обидною для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страдания родного детища терзают душу отца, но для чего же упоминать об этом тогда, когда нужно было совершенно другое, более нужное и интересное. Я молчал и терпел; теперь же, когда время прошло, долгом почел объясниться. Наконец, несколько раз вероломно обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть никогда не намерен. Потом, и пригласив меня к себе предварительно и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были к страдающей тетушке вашей, получившей удар ровно в пять часов, изъясняясь, таким образом, и тут с постыдною точностью. К счастью моему, милостивый мой государь, в эти три дня я успел навесть справки и по ним узнал, что тетушку вашу постиг удар еще накануне осьмого числа, незадолго до полночи. По сему случаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей. Наконец, в последнем письме своем упоминаете и о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время когда я должен был явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнусность расчетов и выдумок ваших превосходят даже всякое вероятие, ибо по достовернейшим справкам. к которым по счастливейшему для меня случаю успел я прибегнуть и кстати и во-время, узнал я, что тетушка ваша скончалась ровно целые сутки спустя после безбожно определенного вами в письме своем срока для кончины ее. Я не кончу, если буду исчислять все признаки, по коим узнал о вашем относительно меня вероломстве. Довольно даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком письме своем именуете вы меня своим искренним другом и называете любезными именами, что делали, по моему разумению, не для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть.
Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему именно: в беспрерывном умалчивании в последнее время о всем том, что касается общего нашего интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно и не совсем мне понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения, в варварском насильном займе трехсот пятидесяти рублей серебром, без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинщика; и, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с козла, нет ни молока, ни шерсти и что он сам ни то ни сё, ни рыба ни мясо, что и поставили ему в порок в письме своем от шестого числа сего месяца. Я же знаю Евгения Николаича как за скромного и благонравного юношу, чем именно может он и прельстить, и сыскать, и заслужить уважение в свете. Известно тоже мне, что вы каждый вечер, в продолжение целых двух недель, клали в карман свой по нескольку десятков, а иногда и до сотни рублей серебром, держа палки и банки Евгению Николаичу. Теперь же вы от этого всего отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старания, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои, соблазнив меня предварительно качеством вашего половинщика и обольстив меня разными выгодами, имеющими быть на долю мою. Присвоив же теперь беззаконнейшим образом себе мои и Евгения Николаича деньги, возблагодарить меня уклоняетесь, употребляя для сего клевету, которою и очернили безрассудно в глазах моих того, кого я стараниями и усилиями своими ввел в дом ваш. Сами же, напротив, по рассказам приятелей, до сих пор чуть-чуть не лижетесь с ним и выдаете всему свету за первейшего вашего друга, несмотря на то что в свете нет такого последнего дурака, который бы сразу не угадал, к чему клонятся все ваши намерения и что именно значат на деле дружелюбные и приятельские отношения ваши. Я же скажу, что они значат обман, вероломство, забвение приличий и прав человека, богопротивны и всячески порочны. Ставлю себя примером и доказательством. Чем я вас оскорбил и за что вы со мною таким безбожным образом поступили?
Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю: если вы, милостивый мой государь, в наикратчайшее по получении письма сего время не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы, триста пятьдесят рублей серебром, и, во-вторых, всех за тем следующих мне, по обещанию вашему, сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытою силою, во-вторых, к покровительству законов, и, наконец, объявляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и почитателя, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого света.
Позвольте пребыть и проч.







