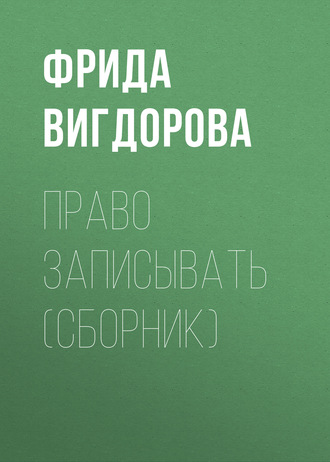
Фрида Вигдорова
Право записывать (сборник)
Что же до уроков, на которые Долинина будто бы не велит приходить, так ведь это только слова: конечно же у нее на уроках бывают и студенты и учителя. Сидят, слушают, учатся думать. И она ходит на уроки своих товарищей и тоже уносит с собой и мысль, и сомнение, и радость открытия. Как же иначе? А урок с глазу на глаз с классом – все-таки самый лучший…
Почему я так подробно рассказала о случае в институте имени Герцена? Да потому, что он имеет прямое отношение к вопросу о том, как педагогический вуз должен воспитывать студентов. Если учителя будущих учителей станут бояться встреч своих питомцев с думающим, ищущим человеком, они не сумеют научить студентов по-настоящему любить школу. Раз члены кафедры педагогики не согласились с Долининой, они непременно должны были с ней поспорить. Непременно должны были противопоставить ей свое мнение, свою убежденность. Тогда различные мнения сшиблись бы и возникла бы искра, без которой нельзя разбудить в студенте учителя. Они этого не сделали. Почему?
Нет, при такой постановке дела Колумба не вырастишь. Как он станет открывателем людей, если он сам еще не раскрыт как человек и учитель?
Если студент педагогического вуза покинет стены института, обладая «ро́зумом», т. е. умея думать, если он со всей отчетливостью понимает, что его ждет счастливый, но очень нелегкий труд, если он еще на студенческой скамье вникнет в работу учителей «хороших и разных», тогда в добрый час! На первых порах он всё равно будет маяться и приходить в отчаяние. Но он непременно выстоит, и никакая непогода ему не страшна. Если же его на протяжении четырех лет «уводили» от сложных вопросов, тогда… тогда беда! Он не решит ни одной из сорока задач, что будут сидеть перед ним на партах. И жалко ребят, которых начнут «обрабатывать» его механические руки, его боязливый, неразвернутый ум.
Костер без пламени
«Литературная газета», 1957, 7/3, № 29, стр. 1–2.
Дул ветер, мело снегом, прохожие ускоряли шаг. Но шесть или семь мальчишек самозабвенно вопили, столпившись на тротуаре у небольшого каменного дома.
– Сколько дал за него?
– Три рубля!
В голосе лобастого, румяного паренька восторг и нежность; он прижимает к груди лохматого щенка.
– Возьми в долю! Вот рубль! Будет общий!
Мальчишка покосился на рубль и еще крепче прижал к себе щенка.
– Хозяин должен быть один!
Все согласны с этим, но каждый хочет быть причастен к делу.
– Как назовешь? Назови Черныш!
– Лучше Карай! Есть книжка, там пес Карай, он какого хочешь преступника отыщет!
Все кричат наперебой, но больше всех разоряется смуглый, курносый мальчик в ушанке – это он хотел вступить в долю.
Хорошо бы дослушать и узнать, как же в конце концов назовут щенка, но ровно в час начнется сбор совета дружины, а я обещала прийти. Когда я подхожу к школе, меня обгоняет парнишка в ушанке. Он мчится, как реактивный самолет, со свистом разрезая воздух.
И когда я вхожу в комнату, где заседает совет пионерской дружины одной из челябинских школ, он сидит среди других ребят, уже без ушанки, конечно, в школьной форме и в тщательно выглаженном пионерском галстуке.
– Ну вот, мы все в сборе, – говорит старшая вожатая. – Предоставим слово для отчета председателю совета отряда седьмого класса.
Встает худенькая, аккуратная девочка в очках и говорит:
– Мы провели вечер музыки и шахматно-шашечный турнир.
– А какая у вас дисциплина? – спрашивает вожатая.
– Плохая.
– Чем объяснить?
Молчание.
Встает другая аккуратная девочка, только без очков, и спрашивает:
– А что было предпринято, чтоб повысить успеваемость?
– Мы поговорили с некоторыми – не помогло.
– А какие меры были приняты к нарушителям дисциплины?
– Мы им сколько раз говорили и в «Колючке» продергивали.
– Надо говорить «писали», а не «продергивали», – поправляет вожатая. – Послушаем отчет пятого класса.
Встает мой курносый знакомый и бойко сообщает, что в пионерском отряде пятого класса провели шахматно-шашечный турнир.
– А какая работа ведется в звеньях?
– Готовится монтаж, но только ребята не остаются на репетиции. Не хотят, – угасая, отвечает мальчик.
– А план вы составили?
– Да.
– А вы его выполняете?
– Нет.
Нипочем не поверила бы, что это он вопил, спорил, мечтал о щенке. Да разве он может мечтать! Вон у него в глазах какая тусклая, привычная скука!
Вслед за ним встает председатель совета отряда четвертого класса, вихрастый мальчик. Он бойко и весело сообщает:
– Мы хотели провести шахматно-шашечный турнир, да всё никак не соберемся. «Колючку» выпустили, да никак не повесим. Лежит себе в шкафу, и дело с концом. Иванов нарушает дисциплину, а когда мы всем звеном хотели пойти к нему на дом, он сказал вроде того, что не ходите, а то всех вас отлупим. Мы и не пошли.
Мальчик садится на место. Встают еще дети и рассказывают о том, что у них много нарушителей дисциплины и много неуспевающих. Потом старшая вожатая – совсем молоденькая и тоже похожая на аккуратную, исполнительную школьницу – подводит итоги:
– Как видите, плохое впечатление осталось от отчетов. В чем причина?
– Причина в том, что неинтересно, – говорит вихрастый – он, как видно, еще не утерял чувства юмора.
– Верно, – подтверждает вожатая, – неинтересно. А почему бы не сделать так, чтобы было интересно? Почему бы не провести викторину? Почему бы не посмотреть диафильм? Есть очень много интересных мероприятий, а вы их не используете. Если на переменах будете проводить игры, дисциплина улучшится. Вот, например, на большой перемене можно устроить конкурс на лучшего отгадчика загадок – и хулиганству не будет места.
– Ну да, станет Иванов отгадывать загадки, делать ему нечего, – говорит вполголоса кто-то позади меня.
– А кто это Иванов? – спрашиваю я.
– А такой… Лупит всех.
…На совете дружины сидел актив, то есть послушные, дисциплинированные дети, и поэтому они сидели смирно, чинно. Один зевал, другой тоскливо перекладывал ручки и карандаши в своем пенале. Все томились, но никто не шумел. Скука нависла над этим сбором, чинная, беспросветная скука. Она была осязаема, ее можно было пощупать – такая она была плотная, тяжелая, непробиваемая.
В городке Катав-Ивановске Челябинской области пионервожатая Нина Владимировна рассказала мне о сборах отрядов в своей дружине. Там тоже был сбор, на котором загадывали и разгадывали загадки… Сбор, на котором устроили шашечный турнир… Сбор, на котором поставили доклад об учебе и пьеску о вежливости… И наконец, сбор, на котором пионеры соревновались: кто скорее почистит зубы и вымоет руки.
Неужто ребята двенадцати – четырнадцати лет придумают такое? Да никогда в жизни! И, право же, не надо обладать особой проницательностью, чтобы понять, что все эти «развлекательные мероприятия» выдумали не дети, а заботливые взрослые.
Очень часто жизнь пионерского отряда состоит из нескончаемых заседаний, изредка перемежаемых шашечным турниром, художественной самодеятельностью или конкурсом на лучшую елочную игрушку. Но даже если допустить, что все сборы очень хороши и очень увлекательны, то все же никак нельзя примириться с тем, что пионерская работа превращается в цепь сборов, хотя бы и очень интересных. Ребятам нужно действие – благородное, по-настоящему полезное, им нужно сознательно и с толком приложить свои силы. Пусть они что-то делают, видят плоды своего труда. Пусть почувствуют, что в меру своих сил приносят окружающим пользу.
…Сегодня в планах пионерских «мероприятий» вы непременно найдете пункт о тимуровской работе. Но, думается, из мысли Гайдара вынуто главное, она обескровлена, она увяла. Гайдар знал ребят и знал, что такое для тринадцатилетнего подростка игра, романтика, тайна. Мы же об этом забываем. Мы воображаем, что можно насытить голову и сердце подростка длинными заседаниями и пьеской о вежливости. Мальчишки покупают щенка и уже видят, как этот пес ловит преступника, охраняет границу, вытаскивает детей из огня, спасает людей в снегах, а этим мальчишкам говорят: давайте поставим пьеску о вежливости или устроим конкурс, кто скорее вымоет руки. С веселой, увлекательной и благородной игрой, которую придумал Гайдар, сделали самое плохое и непоправимое, что можно было сделать, – ее лишили таинственности, она стала такой же отлакированной, парадной, как торжественные сборы и заседания.
Представьте себе гайдаровского Тимура, который говорит на собрании: «За отчетный период мы охватили вниманием целый ряд старушек…» Нет, этого вообразить себе нельзя. А теперь активисты-тимуровцы пышно отчитываются в своей работе на пионерских сборах, им выносят благодарности, о них пишут в газетах.
…Если что-нибудь возникает новое, свежее, этому немедленно подыскивается недоброжелательный ярлычок. Если в пионерском отряде ребята работают весело и интересно, это называется «голое развлекательство». Если много занимаются спортом, есть наготове ярлычок пострашнее – «бойскаутизм». Если ребята делают что-нибудь втайне, – значит, их затея «подменяет собой пионерскую организацию».
Директор 610-й московской школы Лидия Алексеевна Померанцева рассказывала когда-то, что в одном из детских домов, которые ей пришлось обследовать, обнаружилось «тайное общество пяти мушкетеров».
Тому из мушкетеров, кто носил имя д’Артаньяна, было от роду двенадцать лет, и был он, не в пример отважному гасконцу, курнос, белобрыс и веснушчат. Он-то и руководил «обществом».
На счету пяти мушкетеров числились подарки девочкам к 8 Марта (разумеется, тайные): в партах, под подушкой, в тумбочках девочки находили в этот день фигурки из пластилина и глины. Арамис хорошо рисовал и лепил, поэтому многие начинания мушкетеров вдохновлены были музами. Впрочем, одно их мероприятие не имело отношения ни к живописи, ни к скульптуре, ни к какому-либо иному искусству: однажды ночью мушкетеры завернулись в простыни и до полусмерти напугали кастеляншу…
В тумбочке Портоса нашли мушкетерский устав и кодекс чести. Это была неслыханная мешанина из романа Александра Дюма, «Дубровского», «Красных дьяволят» и «Макара-следопыта». Среди девизов были и такие: «Защищать слабых», «Служить народу до последней капли крови», «Бить фашистов»».
– Все взрослые были возмущены, – рассказывала Лидия Алексеевна, – много говорили об утрате бдительности, о мелкобуржуазном бойскаутизме, о политической близорукости руководителей детдома, спрашивали, почему подарки девочкам понадобилось готовить тайно, а не сообща, на сборе звена, и никому в голову не пришла простая мысль, что эти «мушкетеры» – укор взрослым. – И верно: почему никто не подумал, что работа в пионерском отряде не насыщает ребят, что им хочется живого дела, интересного, увлекательного, захватывающего?
Сколько бы ни говорилось о том, что пионерская организация самодеятельная, едва только ребята сами начинают придумывать себе дело, как появляется еще один ярлык: «Пустить всё дело на самотек».
А в сборнике «Классные руководители о своей работе с пионерами и комсомольцами» один из классных руководителей пишет: «Совместно с вожатой отряда мы проверяли планы и конспекты выступающих с сообщениями и беседами. При этом давали соответствующие указания, советы, помогали подобрать материал, сделать правильные выводы из сообщений… Яркое выступление на определенную тему… завязавшаяся… задушевная беседа являлись важным средством идейно-политического воспитания пионеров…»
Я не верю, чтобы после всех этих «соответствующих указаний», советов и проверок завязалась «задушевная беседа».
Общеизвестно, что малыш начинает ходить только тогда, когда перестают следить за каждым его шагом. Он шлепнется, всплакнет, встанет, снова шлепнется и только потом пойдет самостоятельно. Если с самого начала много придумывать за пионеров, «давать соответствующие указания», «помогать делать выводы», инициативы от них не жди.
Скажут: что же, совсем не руководить? Не интересоваться тем, что будут пионеры говорить? Надо и руководить, и интересоваться, однако надо больше доверять ребятам. Я была на сборах, где выступали дети с речами о скромности, о дружбе, подвиге. Эти речи можно было хоть сейчас печатать, но никогда вокруг них не завязывалась «задушевная беседа», и не потому, что тут сидел посторонний человек, а потому, что всё это были отвлеченные слова, целый Монблан слов, никакого отношения не имевший ни к жизни класса, ни к самим ребятам. Это были «мероприятия», не отражавшие ни живой жизни, ни повседневных интересов ребят, ни тех горячих споров, которые вспыхивают во дворе, на чердаке, дома да и в школе, когда «задушевную беседу» не организуют, а она рождается сама.
В Ленинграде я попала на заседание совета дружины, которое вел мальчик с мягким ежиком волос и умными, острыми глазами. Он осторожно позевывал, но заседание вел очень квалифицированно. Обсуждали работу председателя совета отряда одного из седьмых классов. Этот мальчик требовал, чтобы его освободили от занимаемого почетного поста и, не жалея себя, рассказывал о том, как плохо он справляется со своими обязанностями:
– Ничего не обсуждаем, ничего не готовимся! – объявлял он победоносно.
– Почему же ты так безобразно работаешь? – спросил председатель, глотая зевок.
Обвиняемый защищался вяло:
– А раз никто не слушается.
С поста председателя его не сняли, и тогда он упрямо заявил:
– Как хотите, а я работать не буду!
Было видно, что всё это – и загадки, и отгадки, и елочные украшения – надоело ему хуже горькой редьки. Точно так же, как ребятам из челябинской школы. И еще многих школ – не только Челябинска и Ленинграда.
В одной школе пионер Саша, член совета дружины, устроил выставку ко дню 8 Марта. После выставки подводили итоги.
Одна девочка сказала:
– Саша правильно сделал, что собрал подарки наших пионеров, и подарки мамам были очень красивые. Но почему, Саша, ты не организовал дежурства у этих подарков? Некоторые из них пропали. В следующий раз нужно учесть, чтобы на выставке были дежурные.
Так и постановили: «Совету дружины учесть в будущем, чтоб на выставках были дежурные».
Все заметили непорядок и решили этот непорядок устранить. Но никому в голову не пришло обратить внимание на то, что среди ребят есть вор и что главная забота не в том, чтоб уберечь подарки на следующей выставке с помощью стражи, а чтоб вора не было. Об этом никто не подумал.
И это естественное, неизбежное следствие холодной парадности, которая царит в работе многих пионерских отрядов. Отчего это происходит? Ведь не первый раз бьют тревогу, статьям об этом нет числа, об этом написаны тома гневных слов, но как же не писать об этом опять и опять? <…>
Наша бабка
«Тарусские страницы», Калуга, книжное издательство, 1961, стр. 13–14
Несмотря на жару, голова повязана черным платком – из-под платка глядит сморщенное, навек загоревшее лицо. Глазки – пристальные, хитрые.
– Мария Федоровна? Бычкова? Это я. Садитесь. И хорошо, что пришли. Милости прошу. Я, конечно, полы мою, но ничего. Садитесь. Из газеты? Ну, в общем, для печати? Бери тетрадку, пиши. Не стесняйся, не стесняйся, вытаскивай тетрадку и пиши. Ко мне всегда посылают. Меня тут вся власть знает. Сверху донизу. А как меня не знать – я на все руки. Я работы не боюсь. Я и с телятами могу, и с курами, и кладовщицей, и фуражиром. Раз тут приходили, чтоб меня рисовать. Нарисовали. Я насчет работы всегда впереди. Записала? Ну, всё. Больше нечего писать, всё сказала. Нет, постой, погоди. Я хоть три класса всего кончила, но я пить-есть брошу, а газетку почитаю. И книжку могу почитать. Меня тут не зря вся власть знает. Так и говорят: наша бабка. Это – я. Ты что ж мало как записала? Или памятливая? Ну-ну. Раз и так запомнила – нечего бумагу марать. Так и запомни: наша бабка в работе быстрая и никакого труда не боится.
Она вдруг поникла, прикрыла глаза темными тяжелыми веками и заговорила устало, медленно, надолго замолкая:
– Вправду запомнила? Ну и ладно. Чего ты смотришь? Небось думаешь: какой, мол, в горнице непорядок. Ничего не поделаешь… Кухня вся гнилая. Сын с женой отделился, я им горницу отдала, а сама в этой кухне осталась. Надо бы ее починить. Да ведь деньги трудно достаются. И здоровье не то, что прежде. Моя жизнь очень трудная. Хорошего-то я мало видела, а вот плохого – у-у-у! Плохого – сколь хочешь. Я вдовой осталась лет двадцати пяти. Году в пятнадцатом, что ли… Пожила маленько одна с двоими ребятами, а потом приняла в дом плохого мужичонку, пьяницу. Помаялась с ним да и погнала вон. Ерундовый был мужичонка. И осталась одна с пятерыми ребятами. Ну, маялась, ну, натерпелась я – вспомнить страшно.
Колхозы начались – я в колхоз. Походила на курсы и стала конюхом. Я хорошо за конями ходила. Поверишь ли, мне те кони по сю пору снятся. Ну и работала я! Ну и работала! Ведь мне пятерых ребят поднимать – легкое ли дело? Вот я погляжу, как иной раз люди работают. Прошло восемь часов, а они на руку смотрят, что часы показывают – значит, подошел конец работе. А разве работе есть конец? Нет, работе нет конца.
Как мы жили, как детей растили – это ж вспомнить – и то страшно. Но подняла детей. Потому что работы не боялась. Я ведь на все руки. Я сама ребят обшивала, они у меня в школу знаешь как чисто ходили? Я сыну Сереже всегда говорила: учись, дитя, учись, ангел мой. А чем кормить? Хлеб да вода. Нет, с тех пор жизнь, конечно, далеко ушла, ничего не скажешь. Разве ж мои внуки так учатся? У них всё есть: и одеты, и обуты, и сыты. А Сережа… Его перед самой войной взяли на действительную. Он всё говорил: «Ты по мне не плачь, не плачь, мама». А я, дура, плакала. Не знала, какая беда ждет. Война – и убили. Вот когда поплакать-то пришлось.
Ивана тоже взяли на фронт, совсем мальчонка был, совсем дитя. Но, слава богу, вернулся. Раненый, но вернулся. У него сколько-то тонких кишок вырезали, но организм молодой, справился. И женился. Сноха – учительница, образованная, да и он сам не плох – электрик. Живут хорошо. Вот сейчас отделились, а я тут, на кухне осталась. А дочь Маша? Она в Москве диспетчер на автобазе. Очень ответственная работа. Еще дочка Зина – милосердной сестрой в больнице, Анна – в совхозе по нарядам – все при деле, все хорошо живут и внучат мне нарожали.
Оглянусь назад и думаю, да как же я их подняла? Наверно, я и правда морозоустойчивая. И еще я себя хвалю, что ничего не боялась. Вот в войну бомбят, а я из дому не ухожу. Есть которые боялись, а я – нет. Война – и пусть война, а я сама по себе, меня не сломать. Меня, бывало, немец пихнет, а я, думаешь, стерплю? Я его сама пихну. Я им спуску не давала, немцам. Я одну кобылу с колхозной конюшни – самую лучшую – к себе на двор взяла. Содрала ей шкуру со спины и заживать не давала, чтоб немцы не взяли, и доберегла до своих. А конь, лучший наш конь, – он такой лихой был, он им не поддался, немцы его нипочем поймать не могли, немцы его и убили. Какие кони были! Этого никто понять не может! Я после войны в конюхи уж больше не пошла. Руки не те. Но я все работы превзошла. Я могу и дояркой, и телятницей, и фуражиром, и кладовщиком. А косить? Марина – первая, а я вторая. Я стога хорошо кладу. Все стога мною сложены, лучше никто не кладет. Я вот только кур не люблю. От них дух тяжелый. И после коней мне с курами дело иметь ни к чему. Но и то, когда птичница наша сына выдавала – кто ее подменял на птичнике – опять же я! Я работать люблю. Мы все у матери такие, работящие. Моя мать умерла – восемь человек сирот оставила, но мы все в люди вышли. А одна моя сестра – лучше всех – работает в Кремле курьером.
Ты думаешь мне сколько годов? Шестьдесят девять. А если спрашивают: бабка Маруся, сколько тебе годов, я говорю: «Годы мои назад пошли. Раз Марусей зовут – значит, молодею».
Доктора говорят: побольше сахару ешь. Я и ем. Я себе какава варю, молочка подолью – и пью. Мне сейчас совхоз молоко выдает. Раньше не давали, а я говорю: «Товарищ директор, что ж такое, неужто у совхоза для меня молочка нет?» И мне сразу двадцать литров – бултых!
А главное дело, я работу люблю. И люблю я хорошо сделать. И хоть я сейчас на пенсии, отдыху мне всё равно нет. Чуть что – ко мне. В телятник, в курятник, к коровам – где наша бабка? Это – я. Зовут – иду. Ну, раз за ради бога просят – как не пойти? Вчера пришли – зовут хлев чистить. Неужели, раз меня нарисовали, я должна дерьмо убирать? Но пошла. Потому что если не работать…
Она снова поднимает глаза, смотрит пристально. И говорит:
– А горя я хватила – на десять жизней…
И чуть погодя:
– И правильно, что ничего не записываешь. Что тут записывать? Живу. Работаю. Вот и вся история…
Глаза пустые и глаза волшебные
«Тарусские страницы», Калуга, книжное издательство, 1961, стр. 150–158
Выйдя на привокзальную площадь в Серпухове, я поискала глазами автобус на Тарусу. Вон она, очередь. Народу собралось много, видно, автобуса давно не было. Взяла в кассе билет и пристроилась последней.
Люди стояли не цепочкой, не по одному, как полагается в очереди, а по двое, по трое и разговаривали между собой. Накрапывал дождь, ветер был холодный, автобус всё не шел и не шел. А главное, не было уверенности, что попадешь в него: народу собралось много, пожалуй, машина всех не возьмет.
Передо мной стояла старушка в аккуратно повязанном синем платке, сером чистеньком ватнике. Резиновые черные сапожки тоже были ладные, чистые, по ноге. Голубые блеклые глаза смотрели без привычной для стариков усталой печали. Говорила она улыбаясь, и голубые глаза ее глядели добродушно, а маленький курносый нос придавал лицу что-то детское.
– Смотря какой водитель приедет. Тут есть такой один – он всех нипочем не возьмет.
– Что ж так?
– Жалеет. Много народу для машины непосильно, вот он и бережет. – Она сказала это одобрительно и еще раз пояснила: – Жалеет, понимаешь? Транспорт жалеет.
– А чего его жалеть, транспорт? – сказал сивый старичок, стоявший подле. – Нас с тобой надо жалеть, а не транспорт. Машина, она что? Машину – ее под пресс и переплавят. А нас с тобой хрен переплавят. Понятно?
– А чего же тут не понять? Понятно. А только транспорт тоже…
– Идет! – сказал кто-то.
И правда: к остановке подходил автобус. На минуту все разговоры умолкли, все мгновенно забыли друг о друге, каждый был поглощен тем, как бы поскорее влезть в автобус. Но, усевшись, тотчас снова заговорили. Водитель был тот самый, что жалел транспорт, но на этот раз он взял всех. Автобус не быстро, но упрямо одолевал дорогу, подскакивал на ухабах.
– Повезло, повезло! – говорила старушка, расправляя на коленях юбку.
– Это я вам всем счастье принес, – опять откликнулся давешний старик, – я везучий. Вот уже третий день после Дня Победы, а я всё гуляю и гуляю. Родичи, все, как один, бывшие фронтовики. Первый день, девятого, – у сына в Серпухове, второй – у племянника в Тарусе, третий – опять тут, то же самое у фронтовика, у зятя. Сильно накачался. Сына школьники приходили поздравлять. Вы, мол, были на войне, и очень радуемся, что вернулись живой и невредимый. Очень торжественно было. Почет!
– Ко мне тоже школьники приходили, – сказал мой сосед, человек лет сорока. Загоревшее еще на зимнем солнце лицо, коричневые руки с короткими загрубевшими пальцами. На нем была видавшая виды короткая куртка и темные, потертые на коленях штаны из чертовой кожи. – Да, и ко мне приходили. Я в Тарусе недавно, а вот узнали, что был на фронте, и пришли поздравить. Но только почета никакого не получилось.
– Это почему же?
– А вот посудите. Входят три девочки. Одеты аккуратно, в руках цветы. Мне жена говорит: «Коля, к тебе пионеры». Ну, я приосанился, приглашаю: садитесь. А они – нет. Одна вынимает бумажку и читает: «Поздравляем защитника Родины, желаем успеха в мирной жизни, в трудовой деятельности», и пошло, и пошло! Защитник Родины!
– А ты разве не защитник? Ты и есть защитник. Чего же ты обижаешься? – удивилась старушка.
– Ну, не могу объяснить. Плохо говорили. Больно красиво.
– Так и нужно было, – сказал старик, гулявший на трех праздниках. – Вот ты сидишь сейчас, штаны на тебе заплатанные и куртка не так чтоб новенькая. А в праздник ты небось приоделся? Есть у тебя парадный костюм? Вот и слова есть парадные, на торжественный случай. Высокие слова. Так уж полагается.
– Есть у меня выходной костюм. Но если б он мне под мышками тянул, в плечах жал, на животе не сходился, а воротник если б, как петля, шею стянул, я б такой костюм носить не стал. Пускай слова будут торжественные, не возражаю. Не пусть они будут… Ну, живые, что ли. А то ведь насыпали слов на бумагу – и читают. А что моя мамаша тут же больная лежит – не поглядели. Знай, сыплют слова «трудовой подвиг», «трудовая деятельность», сунули цветы и пошли вон. Правда, у самых дверей одна задержалась, самая из всех маленькая. Поглядела на мамашу и говорит: «Выздоравливайте, – говорит, – поскорее». Я не против торжественных слов. Пожалуйста, пусть будут торжественные. Так ведь тут не торжественные слова, а деревянные, понимаешь?
– Так ведь они от души говорили. Хотели порадовать.
– Нет, – упрямо ответил мой сосед, – от души так не говорят. Если от души – слова не такие…
Но откуда же они берутся, эти слова не от души? Почему слова поздравления показались человеку пустыми, округлыми, ничего не выражающими?
Эти слова были присыпаны пеплом других слов: чужих, невыношенных. За ними ничего не стояло, вот почему даже лучшие из них потеряли свой жар, свой цвет, свой запах…
… Однажды, когда я пришла в Дом-музей Поленова[12], дочь художника Ольга Васильевна сказала мне:
– Когда в музей на экскурсию приходят ребята, я с первого же взгляда понимаю, какой у них учитель. Я узнаю по глазам. Иногда приходят веселые, горячие, а в глазах – любопытство: «А ну, покажите, что у вас тут есть?» А иногда приходят такие… Ну, как вам сказать! Пустоглазые, что ли… Вот по этим пустым глазам я понимаю, что и учитель у них пустоглазый. Такие ребята ходят за мной лениво, вяло. И сами ни о чем не спросят и на мои вопросы отвечают зевая. Скучно им. Таких бывает трудно расшевелить. А бывают… Ах, какие бывают ребята!
И Ольга Васильевна рассказала, как однажды она подвела группу третьеклассников к картине Коровина «За чайным столом».
– Ух, как он их посадил! – радостно воскликнул один мальчик. – Колесом!
Почему он сказал – колесом? Ведь стол, за которым сидят люди на картине Коровина, – квадратный. А как точно сказано, как точно увидено: колесом!
Картина Коровина – торжество белого цвета: тут кружат все оттенки белого – бело-кремовая скатерть, бело-желтое молоко, белая блузка отливает голубизной, бело-синий кувшин, белый солнечный луч на самоваре, белая тарелка на белой скатерти, белый блик на спинке деревянного стула, белая фуражка, белый бант в волосах. Белый – ослепительный. Белый – осторожный. Белый – сияющий. Белый – строгий. Белый блеск, белое кружение – и мальчишка увидел, почувствовал это и воскликнул: «Колесом!»
И дочь художника – она вела экскурсию – не удивилась: услышала и вместе с мальчиком обрадовалась. Она знала: меткое слово не рождается на пустом месте, оно всегда отражает мысль, чувство. И напротив, человек с пустыми глазами никогда не подарит горячим словом. Пустые рыбьи глаза хотят, чтобы слово было, как пустой орех: скорлупа есть, ядра нет.
Однажды я была на обсуждении пьесы, которую поставил Московский детский театр. На трибуну вышла девочка лет тринадцати и сказала:
– Экспозиция тут несколько затянута… Кульминация искусственно задержана… Урбанистические мотивы, пронизывающие спектакль, не кажутся мне здесь оправданными.
По одну сторону от меня сидел представитель Мосгороно. Он одобрительно кивал и был очень доволен выступлением девочки:
– Культурно… Начитанная…
Соседкой моей по правую руку была Александра Яковлевна Бруштейн[13]. Она слушала, приставив к уху слуховой аппарат, и лицо ее выражало страдание.
– Когда дети матерно ругаются, – оказала она вдруг, – это очень плохо. Но это не так страшно: они подрастут, войдут в ум и перестанут. А «экспозиция» и «кульминация» – это страшнее, гораздо страшнее. Это как парша, от нее никак не избавишься.
Верно: страшнее. А почему? Да потому, что внешность невыразительных, пустых слов обманчива. Это не слова – это маски. Они учат ребят не выражать свои мысли, а замораживать их. Или попросту скрывать. Они учат неправде.
Однажды учительница сказала своим ученикам:
– Сейчас вы будете писать сочинение о первомайской демонстрации.
– А если я не была? – спросила одна девочка. – Шел дождь, а у меня калоши прохудились.
– Ты говоришь неправду, – ответила учительница. – Ты живешь в культурной семье, и не может быть, чтобы тебя не взяли на демонстрацию. Садись и вместе со всеми пиши сочинение «Как я ходила на первомайскую демонстрацию».
Девочка покорно взяла ручку и, склонившись над тетрадкой, довольно быстро написала так:
«Утро было солнечное. Трудящиеся стройными рядами шли на демонстрацию. В голубом небе был слышен рокот самолетов. Люди несли плакаты, лозунги и портреты. Всем было весело и радостно. Я шла с мамой и держала красный флажок».
Тут всё было неправдой: первого мая шел дождь. Небо было затянуто тучами. Девочка сидела дома.
– Ведь ты же не была на демонстрации? Зачем же ты наврала? – спросили ее домашние.
– Да где же я наврала? Я просто написала сочинение. Ведь это не правда, а сочинение.
Частный случай? Нетипично? Нехарактерно? Нет, такая узаконенная неправда встречается нередко.
– Я хочу вас спросить, – сказала Ольга Васильевна Поленова, – вот однажды в «Пионерской правде» была анкета: «Что бы ты сделал, если бы тебе было всё позволено?» Редакция некоторые ответы напечатала. Ответы были хорошие, но только очень между собой похожие. Я бы очень хотела знать, а были другие, непохожие? Вы не знаете?
Случилось так, что я знала. Да, однажды «Пионерская правда» предложила своим читателям анкету, совсем короткую, в один вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тебе было всё позволено?»
Некоторые ответы газета опубликовала на своих страницах.
«Сначала я купил бы маме стиральную машину, – писал один мальчик, – потом завел бы двадцать кроликов и развел бы большой сад. Я уничтожил бы все болезни».
«Я спасал бы поля от вредителей, лес от пожаров», – писал другой.
«Я освободил бы негров, которые находятся в рабстве у капиталистов», – сообщал третий.
Дети хотели лечить, помогать, строить, открывать новые страны. Это неудивительно. К доброму открытию, к подвигу – спасти, вытащить из огня, прийти на помощь отважным путешественникам, погибающим в полярной ночи, – к этому стремится каждый мальчишка. Но, веря благородным ответам, которые опубликовала «Пионерская правда», Ольга Васильевна Поленова, человек, от журналистики далекий, но детям близкий, твердо знала, что были – не могло их не быть – другие ответы.




