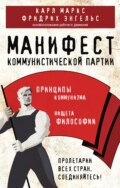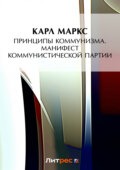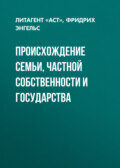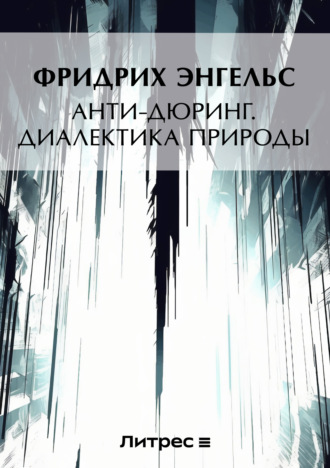
Фридрих Энгельс
Анти-Дюринг. Диалектика природы (сборник)
С таким же серьезным видом Томсон приводит эксперименты Дессеня, согласно которым при повышении барометра и понижении температуры стекло, смола, шелк и т. д., будучи погружены в ртуть, электризуются отрицательно, а при падении барометра и повышении температуры электризуются положительно; что летом они становятся в нечистой ртути всегда положительными, а в чистой – всегда отрицательными; что золото и различные другие металлы становятся летом, при согревании их, положительными, а при охлаждении – отрицательными, зимой же наоборот; что при высоком атмосферном давлении и северном ветре они «весьма наэлектризованы»: положительно при повышении температуры, отрицательно при понижении ее и т. д. (стр. 416).
Как выглядело дело с теплотой: «Чтобы произвести термоэлектрические действия, нет необходимости прилагать теплоту. Все, что изменяет температуру в одной части цепи… вызывает изменение склонения магнитной стрелки». Так, охлаждение какого-нибудь металла при помощи льда или при испарении эфира! (стр. 419).
На стр. 438 электрохимическая теория принимается как «по меньшей мере очень остроумная и правдоподобная».
Фаброни и Волластон уже давно, а Фарадей в новейшее время утверждали, что вольтово электричество есть простое следствие химических процессов, и Фарадей даже дал уже правильное объяснение происходящего в жидкости передвижения атомов и установил, что количество электричества измеряется количеством электролитического продукта.
С помощью Фарадея Томсон выводит закон, что «каждый атом должен естественным образом быть окружен одним и тем же количеством электричества, так что в этом отношении теплота и электричество похожи друг на друга»! (стр. 454).
* * *
Статическое и динамическое электричество. Статическое электричество, или электричество трения, получается при переведении в состояние напряжения того готового электричества, которое имеется в природе в форме электричества, но находится в состоянии равновесия, в нейтральном состоянии. Поэтому и уничтожение этого напряжения происходит – если и поскольку электричество, распространяясь, может быть проведено – сразу, в виде искры, восстанавливающей нейтральное состояние.
Наоборот, динамическое, или вольтово, электричество возникает из превращения химического движения в электричество. Его порождает при известных, определенных обстоятельствах растворение цинка, меди и т. д. Здесь напряжение носит не острый характер, а хронический. В каждый момент порождается новое положительное и отрицательное электричество из какой-нибудь другой формы движения, а не разделяется на + и – имеющееся уже налицо ± электричество. Процесс носит текучий характер, поэтому и результат его, электричество, является не мгновенным напряжением и разряжением, а длительным током, способным снова превратиться у полюсов в химическое движение, из которого он возник (это называют электролизом). При этом процессе, как и при порождении электричества химическим соединением (причем электричество освобождается вместо теплоты, и освобождается именно столько электричества, сколько при других обстоятельствах освобождается теплоты, Гатри, стр. 210)[600], можно проследить движение тока в жидкости. (Обмен атомов в соседних молекулах – вот что такое ток.)
Это электричество, являющееся по своей природе током, именно поэтому не может быть прямо превращено в электричество напряжения. Но посредством индукции можно денейтрализовать то нейтральное электричество, которое уже имеется налицо как таковое. По своей природе индуцируемое электричество должно будет следовать характеру индуцирующего, т. е. должно будет тоже быть текучим. Но здесь, очевидно, имеется возможность конденсировать ток и превратить его в электричество напряжения или, вернее, в некоторую более высокую форму, соединяющую свойство тока со свойством напряжения. Это осуществлено в катушке Румкорфа. Она дает индукционное электричество, имеющее эти свойства.
* * *
Недурным образчиком диалектики природы является то, как, согласно современной теории, отталкивание одноименных магнитных полюсов объясняется притяжением одноименных электрических токов (Гатри, стр. 264).
* * *
Электрохимия. При изложении действия электрической искры на процесс химического разложения и новообразования Видеман заявляет, что это касается, скорее, химии[601]. А химики в этом же случае заявляют, что это касается уже более физики. Таким образом, и те и другие заявляют о своей некомпетентности в месте соприкосновения науки о молекулах и науки об атомах, между тем как именно здесь надо ожидать наибольших результатов.
* * *
Трение и удар порождают внутреннее движение соответствующих тел, молекулярное движение, дифференцирующееся, в зависимости от обстоятельств, на теплоту, электричество и т. д. Однако это движение – только временное: cessante causa cessat effectus[602]. На известной ступени все они превращаются в перманентное молекулярное изменение – химическое.
Химия
Представление о фактической химически однородной материи, при всей своей древности, вполне соответствует широко распространенному еще вплоть до Лавуазье детскому взгляду, будто химическое сродство двух тел основывается на том, что каждое из них содержит в себе общее им обоим третье тело (Копп, «Развитие», стр. 105)[603].
* * *
О том, как старые, удобные, приспособленные к прежней обычной практике методы переносятся в другие отрасли знания, где они оказываются тормозом: в химии – процентное вычисление состава тел, которое являлось самым подходящим методом для того, чтобы замаскировать – и которое действительно достаточно долго маскировало – закон постоянства состава и кратных отношений у соединений.
* * *
Новая эпоха начинается в химии с атомистики (следовательно, не Лавуазье, а Дальтон – отец современной химии), а в физике, соответственно этому, – с молекулярной теории. (В другой форме, которая, однако, по существу выражает лишь другую сторону этого процесса, – с открытия взаимного превращения форм движения.) Новая атомистика отличается от всех прежних тем, что она (если не говорить об ослах) не утверждает, будто материя только дискретна, а признаёт, что дискретные части различных ступеней (атомы эфира, химические атомы, массы, небесные тела) являются различными узловыми точками, которые обусловливают различные качественные формы существования всеобщей материи вплоть до такой формы, где отсутствует тяжесть и где имеется только отталкивание.
* * *
Превращение количества в качество: самый простой пример – кислород и озон, где 2:3 вызывает совершенно иные свойства, вплоть до запаха. Другие аллотропические тела тоже объясняются в химии лишь различным количеством атомов в молекулах.
* * *
Значение названий. В органической химии значение какого-нибудь тела, а, следовательно, также и название его, не зависит уже просто от его состава, а обусловлено скорее его положением в том ряду, к которому оно принадлежит. Поэтому, если мы находим, что какое-нибудь тело принадлежит к какому-нибудь подобному ряду, то его старое название становится препятствием для понимания и должно быть заменено названием, указывающим этот ряд (парафины и т. д.).
Биология
Реакция. Механическая, физическая реакция (alias теплота и т. д.) исчерпывает себя с каждым актом реакции. Химическая реакция изменяет состав реагирующего тела и возобновляется лишь тогда, когда прибавляется новое количество его. Только органическое тело реагирует самостоятельно – разумеется, в пределах его возможностей (сон) и при предпосылке притока пищи, – но эта притекающая пища действует лишь после того, как она ассимилирована, а не непосредственным образом, как на низших ступенях, так что здесь органическое тело обладает самостоятельной силой реагирования; новая реакция должна быть опосредствована им.
* * *
Жизнь и смерть. Уже и теперь не считают научной ту физиологию, которая не рассматривает смерть как существенный момент жизни (примечание: Гегель, «Энциклопедия», ч. I, стр. 152–153)[604], которая не понимает, что отрицание жизни по существу содержится в самой жизни, так что жизнь всегда мыслится в соотношении со своим необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше, – смертью. Диалектическое понимание жизни именно к этому и сводится. Но кто однажды понял это, для того покончены всякие разговоры о бессмертии души. Смерть есть либо разложение органического тела, ничего не оставляющего после себя, кроме химических составных частей, образовывавших его субстанцию, либо умершее тело оставляет после себя некий жизненный принцип, нечто более или менее тождественное с душой, принцип, который переживает все живые организмы, а не только человека. Таким образом, здесь достаточно простого уяснения себе, при помощи диалектики, природы жизни и смерти, чтобы устранить древнее суеверие. Жить значит умирать,
* * *
Generatio aequivoca[605]. Все произведенные до сих пор исследования сводятся к следующему; в жидкостях, содержащих разлагающиеся органические вещества и открытых доступу воздуха, возникают низшие организмы; протисты, грибы, инфузории. Откуда они появляются? Возникли ли они путем generatio aequivoca или же из зародышей, занесенных из воздуха? Таким образом, исследование ограничивается совершенно узкой областью – вопросом о плазмогонии[606].
Предположение, что новые живые организмы могут возникнуть из разложения других организмов, относится по существу к той эпохе, когда признавали неизменность видов. Тогда казалось необходимым допускать возникновение всех, даже наиболее сложных, организмов путем первичного зарождения из неживых веществ, и если не хотели прибегать к творческому акту, то легко приходили к тому взгляду, что процесс этот легче объяснить при допущении такого образующего материала, который происходит уже из органического мира; чтобы какое-нибудь млекопитающее могло возникнуть химическим путем прямо из неорганической материи, этого уж никто не думал.
Но подобное допущение идет решительно вразрез с современным состоянием науки. Химия своим анализом процесса разложения мертвых органических тел доказывает, что этот процесс при каждом дальнейшем шаге с необходимостью дает всё более мертвые, всё более близкие к неорганическому миру продукты, которые становятся всё менее и менее пригодными для использования их в органическом мире, и что этому процессу можно придать другое направление и добиться использования этих продуктов разложения только в том случае, если они своевременно попадут в пригодный для этого, уже существующий организм. Как раз самый существенный носитель образования клеток, белок, разлагается раньше всего, и до сих пор его еще не удалось вновь синтезировать.
Более того. Те организмы, о первичном зарождении которых из органических жидкостей идет речь в этих исследованиях, представляют собой хотя и сравнительно низкие, но уже существенным образом дифференцированные организмы, каковы бактерии, дрожжевые грибки и т. д., обнаруживающие процесс жизни, состоящий из различных фаз, отчасти же (каковы инфузории) снабженные довольно развитыми органами. Все они, по меньшей мере, одноклеточные. Но с тех пор как нам стали известны бесструктурные монеры, становится нелепостью пытаться объяснить возникновение хотя бы одной-единственной клетки прямо из мертвой материи, а не из бесструктурного живого белка, и воображать, что можно принудить природу при помощи небольшого количества вонючей воды сделать в 24 часа то, на что ей потребовались тысячелетия.
Опыты Пастера[607] в этом отношении бесполезны: тем, кто верит в возможность самозарождения, он никогда не докажет одними этими опытами невозможность его. Но они важны, ибо проливают много света на эти организмы, их жизнь, их зародыши и т. д.
Мориц Вагнер. «Спорные вопросы естествознания», I
(Аугсбургская «Allgemeine Zeitung», Приложение от 6, 7 и 8 октября 1874 г.)[608]
Мнение Либиха, высказанное им Вагнеру в последние годы своей жизни (в 1868 г.):
«Стоит нам только допустить, что жизнь так же стара, так же вечна, как сама материя, и весь спор о происхождении жизни кажется мне решенным при этом простом допущении. Действительно, почему нельзя представить себе, что органическая жизнь так же изначальна, как углерод и его соединения» (!) «или вообще как вся несотворимая и неуничтожимая материя и как силы, вечно связанные с движением вещества в мировом пространстве?»
Далее Либих сказал (Вагнер полагает, что в ноябре 1868 г.): и он тоже считает «приемлемой» гипотезу, что органическая жизнь могла быть «занесена» на нашу планету из мирового пространства.
Гельмгольц (Предисловие к «Руководству по теоретической физике» Томсона, немецкое издание, 2-я часть):
«Если все наши попытки создать организмы из безжизненного вещества терпят неудачу, то мы, кажется мне, поступим совершенно правильно, задав себе вопрос: возникла ли вообще когда-нибудь жизнь, не так же ли стара она, как материя, и не переносятся ли ее зародыши с одного небесного тела на другое, развиваясь повсюду там, где они нашли для себя благоприятную почву?»[609]
Вагнер:
«Тот факт, что материя неразрушима и вечна, что она… никакой силой не может быть превращена в ничто, достаточен для химика, чтобы считать ее также и несотворимой… Но, согласно господствующему теперь воззрению» (?), «жизнь рассматривается только как свойство, присущее определенным простым элементам, из которых состоят самые низшие организмы, – свойство, которое, разумеется, должно быть столь же древним, т. е. столь же изначальным, как сами эти основные вещества и их соединения» (!!). «В этом смысле можно говорить также о жизненной силе, как это делает Либих («Письма о химии», 4-е издание), – а именно как о «формообразующем принципе, действующем в физических силах и посредством их»[610], т. е. не вне материи. Эта жизненная сила, рассматриваемая как свойство материи, обнаруживается, однако… только при соответствующих условиях, которые извечно существовали в бесчисленных пунктах бесконечного мирового пространства, но должны были довольно часто в различные периоды времени менять свое место». Таким образом, на жидкой некогда Земле или на теперешнем Солнце невозможна никакая жизнь, но раскаленные небесные тела имеют атмосферы, простирающиеся на огромные расстояния и, согласно новейшим воззрениям, состоящие из тех же самых веществ, которые в состоянии крайнего разрежения наполняют мировое пространство и притягиваются небесными телами. Вращающаяся туманность, из которой развилась солнечная система и которая простиралась за орбиту Нептуна, содержала «также и всю воду» (!) «в парообразном состоянии в богато насыщенной углекислотой» (!) «атмосфере до огромных высот и, следовательно, содержала и основные вещества для существования» (?) «самых низших органических зародышей»; в ней господствовали «в самых различных областях самые различные температуры, и поэтому вполне правомерно допущение, что где-нибудь в ней всегда имелись и необходимые для органической жизни условия. Поэтому атмосферы небесных тел, а также вращающихся космических туманностей, можно рассматривать как постоянные хранилища живой формы, как вечные рассадники органических зародышей». – Мельчайшие живые протисты вместе со своими невидимыми зародышами заполняют в огромных количествах атмосферу около экватора в Кордильерах до 16 000 футов высоты. Перти говорит, что они «почти вездесущи». Их нет только там, где их убивает сильный жар. Поэтому существование такого рода организмов и зародышей (вибриониды и т. д.) мыслимо «и в атмосфере всех небесных тел, где только имеются соответствующие условия».
«Согласно Кону, бактерии… так ничтожно малы, что на один кубический миллиметр их приходится 633 миллиона и что 636 миллиардов их весят только один грамм. Микрококки даже еще меньше», и, может быть, и они еще не самые малые. Но уже они имеют весьма разнообразную форму: «вибриониды… то шаровидны, то яйцевидны, то палочкообразны, то винтообразны» (следовательно, форма у них играет уже значительную роль). «До сих пор еще не было приведено ни одного убедительного возражения против вполне правомерной гипотезы, что из таких или подобных наипростейших» (!!) «нейтральных первосуществ, колеблющихся между животными и растениями… могли и должны были за огромные периоды времени развиться на основе индивидуальной изменчивости и способности унаследования потомством новоприобретенных признаков – при изменении физических условий на небесных телах и при пространственном обособлении возникающих индивидуальных вариаций – все многообразные более высокоорганизованные представители обоих царств природы».
Стоит отметить факты, показывающие, каким дилетантом был Либих в столь близкой к химии науке, как биология.
Дарвина он прочел лишь в 1861 г., а появившиеся после Дарвина важные работы по биологии, палеонтологии и геологии – еще гораздо позже. Ламарка он «никогда не читал». «Точно так же ему остались совершенно неизвестными появившиеся уже до 1859 г. важные палеонтологические специальные исследования Л. фон Буха, Д’Орбиньи, Мюнстера, Клипштейна, Хауэра, Квенштедта об ископаемых головоногих, проливающие столько света на генетическую связь различных созданий. Все названные исследователи… были вынуждены силой фактов, почти против своей воли прийти», – и это еще до появления книги Дарвина, – «к ламарковской гипотезе о происхождении живых существ». «Таким образом, теория развития уже незаметно пустила корни во взглядах тех исследователей, которые более основательно занимались сравнительным изучением ископаемых организмов». Л. фон Бух уже в 1832 г. в работе «Об аммонитах и их разделении на семейства» и в 1848 г. в прочитанном в Берлинской академии докладе «со всей определенностью ввел в науку об окаменелостях» (!) «ламарковскую идею о типическом сродстве органических форм как признаке их общего происхождения»; опираясь на свое исследование об аммонитах, он высказал в 1848 г. тезис, «что исчезновение старых и появление новых форм не является следствием полного уничтожения органических созданий, но что образование новых видов из более старых форм является, весьма вероятно, только следствием изменившихся условий жизни».
* * *
Критические замечания. Вышеприведенная гипотеза о «вечной жизни» и о занесении извне ее зародышей предполагает:
1) вечность белка,
К пункту 1-му. – Утверждение Либиха, будто соединения углерода столь же вечны, как и сам углерод, сомнительно, если не ложно.
a) Является ли углерод чем-то простым? Если нет, то он, как таковой, не вечен.
b) Соединения углерода вечны в том смысле, что при одинаковых условиях смешения, температуры, давления, электрического напряжения и т. д. они постоянно воспроизводятся. Но до сих пор никому еще не приходило в голову утверждать, что, например, хотя бы только простейшие соединения углерода, СО2 или СН4, вечны в том смысле, будто они существуют во все времена и более или менее повсеместно, а не порождают себя постоянно заново из своих элементов и не разлагаются постоянно снова на те же элементы. Если живой белок вечен в том смысле, в каком вечны остальные соединения углерода, то он не только должен постоянно разлагаться на свои элементы, что, как известно, и происходит фактически, но должен также постоянно порождать себя из этих элементов заново и без содействия уже готового белка, а это прямо противоположно тому результату, к которому приходит Либих.
с) Белок – самое неустойчивое из всех известных нам соединений углерода. Он распадается, лишь только он теряет способность выполнять свойственные ему функции, которые мы называем жизнью, и в его природе заложено то, что эта неспособность, раньше или позже, наступает. И вот об этом-то соединении нам говорят, что оно вечно, что оно способно переносить в мировом пространстве все изменения температуры и давления, недостаток пищи и воздуха и т. д., между тем как уже его верхняя температурная граница так низка – ниже 100 °C! Условия существования белка бесконечно сложнее, чем условия существования всякого другого известного нам соединения углерода, ибо здесь мы имеем дело не только с новыми физическими и химическими свойствами, но и с функциями питания и дыхания, которые требуют среды, узко ограниченной в физическом и химическом отношении, – и вот эта-то среда должна была, дескать, сохраняться от века при всевозможных происходивших в различные времена переменах! Либих «предпочитает из двух гипотез ceteris paribus[611] наипростейшую». Но нечто может выглядеть очень простым и тем не менее быть весьма запутанным. – Допущение бесчисленных непрерывных рядов от века происходящих друг от друга живых белковых тел, причем при всех обстоятельствах всегда остается надлежащий ассортимент их, есть головоломнейшее из всех возможных допущений. – Кроме того, атмосферы небесных тел и в особенности туманностей были первоначально раскаленными, и, следовательно, здесь совершенно не было места для белковых тел. Таким образом, в конце концов мировое пространство должно быть великим резервуаром жизни, – резервуаром, где нет ни воздуха, ни пищи и где царит такая температура, при которой наверняка никакой белок не может ни функционировать, ни сохраняться!
К пункту 2-му. – Вибрионы, микрококки и т. д., о которых идет здесь речь, являются уже довольно дифференцированными существами; это – комочки белка, выделившие из себя оболочку, однако без ядра. Между тем способный к развитию ряд белковых тел образует сперва ядро и становится клеткой; дальнейшим шагом вперед является затем оболочка клетки (Amoeba sphaerococcus). Таким образом, рассматриваемые здесь организмы относятся к такому ряду, который, судя по аналогии со всем до сих пор нам известным, бесплодно упирается в тупик и не может принадлежать к числу родоначальников более высокоразвитых организмов.
То, что Гельмгольц говорит о бесплодности всех попыток искусственно создать жизнь, звучит прямо-таки по-детски. Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка[612].
Если когда-нибудь удастся составить химическим путем белковые тела, то они, несомненно, обнаружат явления жизни и будут совершать обмен веществ, как бы слабы и недолговечны они ни были. Но, разумеется, подобные тела должны в лучшем случае обладать формой самых грубых монер – вероятно даже еще гораздо более низкими формами – и, конечно, не формой таких организмов, которые успели уже дифференцироваться благодаря тысячелетнему развитию, обособили оболочку от внутреннего содержимого и приняли определенную, передающуюся по наследству структуру. Но до тех пор, пока о химическом составе белка мы знаем не более, чем теперь, – следовательно, когда мы еще не смеем думать об искусственном создании белка, вероятно, в ближайшие сто лет, – смешно жаловаться, что все наши попытки и т. д. «потерпели неудачу»!
Против формулированного выше утверждения, что обмен веществ является деятельностью, характерной для белковых тел, можно возразить указанием на рост «искусственных клеток» Траубе (См. примечание[613]). Но здесь происходит только поглощение жидкости, без всякого изменения, благодаря эндосмосу, между тем как обмен веществ состоит в поглощении веществ, химический состав которых изменяется, которые ассимилируются организмом и остатки которых выделяются вместе с порожденными в процессе жизни продуктами разложения самого организма[614]. Значение «клеток» Траубе состоит в том, что они показывают, что эндосмос и рост представляют собой два явления, которые могут быть получены также и в неорганической природе и без всякого углерода.
Впервые возникшие комочки белка должны были обладать способностью питаться кислородом, углекислотой, аммиаком и некоторыми из растворенных в окружающей их воде солей. Органических средств питания еще не было, так как они ведь не могли поедать друг друга. Это доказывает, как высоко уже стоят над ними современные, даже безъядерные монеры, которые питаются диатомеями и т. д., т. е. предполагают существование целого ряда дифференцированных организмов.
* * *
Диалектика природы – references[615].
«Nature» № 294 и следующие. Олмен об инфузориях[616]. Одноклеточность, важно.
Кролл о ледниковых периодах и геологическом времени[617].
«Nature» № 326. Тиндаль о generatio[618],[619]. Специфическое гниение и опыты с брожением.
* * *
Протасты. 1. Бесклеточные начинают свое развитие с простого белкового комочка, вытягивающего и втягивающего в той или иной форме псевдоподии, – с монеры. Современные монеры, несомненно, очень отличны от первоначальных, так как они в значительной мере питаются органической материей, проглатывают диатомеи и инфузории (т. е. тела, которые стоят выше их самих и возникли лишь позже) и, как показывает таблица I у Геккеля[620], имеют историю развития, проходя через форму бесклеточных жгутиковых спор. – Уже здесь налицо стремление к формированию, свойственное всем белковым телам. Это стремление к формированию выступает далее у бесклеточных фораминифер, которые выделяют из себя весьма художественные раковины (предвосхищают колонии? Кораллы и т. д.) и предвосхищают форму высших моллюсков так, как трубчатые водоросли (Siphoneae) предвосхищают ствол, стебель, корень и форму листа высших растений, являясь, однако, всего лишь простым бесструктурным белком. Поэтому надо отделять протамебу от амебы[621].
2. С одной стороны, образуется различие между кожей (ectosarc) и внутренним слоем (endosarc) у солнечника – Actinophrys sol (Николсон (Здесь и ниже Энгельс ссылается на книгу: Н. A. Nicholson. «A Manual of Zoology» (см. примечание[622]), стр. 49). Кожный слой дает начало псевдоподиям (у Protomyxa aurantiaca эта ступень является уже переходной ступенью, см. Геккель, таблица I). На этом пути развитие белка, по-видимому, не пошло далеко.
3. С другой стороны, в белке дифференцируются ядро и ядрышко – голые амебы. С этого момента начинается быстрое формообразование. Аналогичным образом обстоит дело с развитием молодой клетки в организме, ср. об этом у Вундта (в начале)[623]. У Amoeba sphaero-coccus, как и у Protomyxa, образование клеточной оболочки является лишь переходной фазой, но даже здесь уже наблюдается начало циркуляции сокращающегося пузырька[624]. Вскоре мы встречаем либо склеенную из песка скорлупу (Difflugia, Николсон, стр. 47), как у червей и у личинок насекомых, либо действительно выделенную животным раковину. Наконец:
4. Клетка с постоянной клеточной оболочкой. В зависимости от твердости клеточной оболочки отсюда должно было развиться, по Геккелю (стр. 382), либо растение, либо, при мягкой оболочке, животное (? в такой общей форме этого, конечно, нельзя утверждать). Вместе с клеточной оболочкой появляется определенная и в то же время пластическая форма. Здесь опять-таки различие между простой клеточной оболочкой и выделенной раковиной. Но (в отличие от пункта 3) вместе с этой клеточной оболочкой и этой раковиной прекращается выпускание псевдоподий. Повторение прежних форм (жгутиковые) и многообразие форм. Переходную ступень образуют лабиринтовые (Labyrinthuleae) (Геккель, стр. 385), которые выпускают наружу свои псевдоподии и ползают в этой сети, изменяя в известных пределах свою нормально веретенообразную форму. – Грегарины предвосхищают образ жизни высших паразитов: некоторые представляют собой уже не отдельные клетки, а цепи клеток (Геккель, стр. 451), но эти цепи содержат только две-три клетки – слабый зачаток. Наивысшее развитие одноклеточных организмов в инфузориях, поскольку последние действительно одноклеточны. Здесь имеет место значительная дифференциация (см. у Николсона). Снова колонии и зоофиты (Зоофиты – см. примечание[625]) (Epistylis). Точно так же у одноклеточных растений имеет место высокое развитие формы (Desmidiaceae, Геккель, стр. 410)[626].
5. Дальнейшим шагом вперед является соединение нескольких клеток уже не в колонию, а в одно тело. Сперва каталлакты Геккеля, Magosphaera planula (Геккель, стр. 384), где соединение клеток является только фазой развития. Но и здесь уже нет больше псевдоподий (Геккель не говорит точно, не являются ли они переходной ступенью). С другой стороны, радиолярии, – тоже недифференцированные кучи клеток, – наоборот, сохранили псевдоподии и в необычайной степени развили геометрическую правильность раковины, которая играет некоторую роль уже у чисто бесклеточных корненожек, – белок окружает себя, так сказать, своей кристаллической формой.
6. Magosphaera planula образует переход к настоящей Planula и Gastrula и т. д. Дальнейшее смотри у Геккеля (стр. 452 и следующие)[627].
* * *
Батибий[628]. Камни в его теле являются доказательством того, что уже первичная форма белка, не обладающая еще никакой дифференцированностью формы, носит в себе зародыш и способность к образованию скелета.
* * *
Индивид. И это понятие превратилось в совершенно относительное. Кормус, колония, ленточный глист, а с другой стороны, клетка и метамера как индивиды в известном смысле («Антропогения» и «Морфология»)[629].
* * *
Вся органическая природа является одним сплошным доказательством тождества или неразрывности формы и содержания.
Морфологические и физиологические явления, форма и функция обусловливают взаимно друг друга. Дифференциация формы (клетки) обусловливает дифференциацию вещества на мускулы, кожу, кости, эпителий и т. д., а дифференциация вещества обусловливает, в свою очередь, дифференцированную форму.
* * *
Повторение морфологических форм на всех ступенях развития: клеточные формы (обе главные уже в Gastrula) – образование метамер на известной ступени: Annulosa, Arthropoda, Vertebrata[630]. – В головастиках амфибий повторяется первобытная форма личинки асцидии. – Различные формы сумчатых, повторяющиеся у плацентных (даже если брать только живущих еще в настоящее время сумчатых).
* * *
По отношению ко всей истории развития организмов надо принять закон ускорения пропорционально квадрату расстояния во времени от исходного пункта. Ср. у Геккеля в «Естественной истории творения» и «Антропогении» – органические формы, соответствующие различным геологическим периодам. Чем выше, тем быстрее идет дело.
* * *
Показать, что теория Дарвина является практическим доказательством гегелевской концепции о внутренней связи между необходимостью и случайностью.
* * *
Борьба за существование. Прежде всего необходимо строго ограничить ее борьбой, происходящей от перенаселения в мире растений и животных, – борьбой, действительно имеющей место на известных ступенях развития растительного царства и на низших ступенях развития животного царства. Но необходимо строго отграничивать от этого те условия, при которых виды изменяются – старые вымирают, а их место занимают новые, более развитые – без наличия такого перенаселения: например, при переселении растений и животных в новые места, где новые климатические, почвенные и прочие условия вызывают изменение. Если здесь приспособляющиеся индивиды выживают и благодаря все возрастающему приспособлению преобразуются далее в новый вид, между тем как другие, более стабильные индивиды погибают и в конце концов вымирают вместе с несовершенными промежуточными формами, то это может происходить – и фактически происходит – без всякого мальтузианства; а если даже допустить, что последнее и играет здесь какую-нибудь роль, то оно ничего не изменяет в процессе и может самое большее только ускорить его. – То же самое при постепенном изменении географических, климатических и прочих условий в какой-нибудь данной местности (высыхание Центральной Азии, например). При этом безразлично, давит ли здесь друг на друга или не давит животное или растительное население: вызванный изменением географических и прочих условий процесс развития организмов происходит и в том и в другом случае. – То же самое при половом отборе, где мальтузианство также не играет совершенно никакой роли.