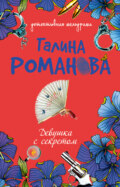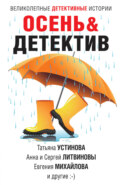Галина Романова
Любвеобильный джек-пот
Глава 4
Мишаня был верен самому себе. Позвонил с первого этажа и предупредил, что оставил ключи дома. И, не дожидаясь, пока его поднимет лифт, принялся страдать прямо в трубку мобильного.
– Лия, детка, ну вот что ты со мной сделала?! – Это была первая ключевая фраза плача бывшего супруга.
– Что такое, дорогой? – не спросить она не могла, это было бы сочтено равнодушием, а в этом ее уже сегодня обвиняли.
– Жил бы я с тобой и жил, в радости и в горе, и пока смерть не разлучила бы нас… – Это была вторая ключевая фраза Мишани, далее обычно следовали импровизации. – А теперь мне приходится таскать к себе в дом всякий сброд! И эти вонючки, представь себе, считают своим долгом диктовать мне условия! Просить денег на обучение! И еще… Ты представить себе даже не можешь… Они требуют отдыха за границей!
Лия тут же отключила слух. У нее это получалось, и это было здорово. Мишаня стонет, а она отключается. Он жалуется, а она не слышит. Он призывает к сочувствию, она молчаливо кивает. Да ей и сказать ему было нечего. Прав на возгласы типа «а что я тебе говорила…» или «надо было слушать меня раньше» она не имела никаких. Она его оставила, не он ее. И виноватой считала тоже себя, не его. И главное, изменить ничего не могла, хотя он просил.
Мишаня вошел в раскрытую для него дверь. Тут же отключил телефон и небрежным заученным жестом опустил его в карман нового светлого плаща. Плащ шел ему необыкновенно. Потом он неприязненно покосился на пару тапочек, что Лия пододвинула к нему поближе. И через минуту с брезгливой гримасой переобулся. Тут же сбросил ей на руки плащ, кашне и, поддергивая повыше к локтям рукава тончайшего шерстяного пуловера, поспешил на кухню. Стало быть, голодный. Лия вздохнула, пристраивая его плащ на плечики. Придется хлопотать с ужином, а ей, если честно, не хотелось. Планировала отдохнуть, позвонить подруге и постараться откреститься от предстоящего торжества. Уж лучше она с утра завтра опять на дачу вернется.
А еще ей очень хотелось успокоиться. Очень! То состояние, в котором она пребывала несколько минут назад, топая и визжа на Кариковых, было истерически неразумным и требовало немедленного самоанализа. А этот ее мысленный плевок в сторону соседской двери!.. Это же вообще черт знает что такое! Так она, пожалуй, и на людей начнет кидаться. И это с ее-то многолетней практикой, педагогической и психологической подготовкой, с ее умением держать ситуацию под контролем.
Сорвалась… Взорвалась… А чего он приперся-то, кто бы сказал?! Чего ему вообще от нее было нужно?!
– Лия, детка, да ты меня не слушаешь вовсе?!
Мишаня уже успел подвязаться ее передником и взять в руки нож для резки сыра. Все остальное требовалось от нее. Ну, там, к примеру, нажарить мяса. Или приготовить рагу овощное. Сошла бы и запеченная птица. Ему же плевать было, что она не может и не хочет сегодня. Это же не он, а она его бросила…
– Извини, дорогой. Тут понимаешь… Снова эти Кариковы… Я, наверное, буду вынуждена переехать.
– Да ты в своем уме?! – ахнул бывший муж и тут же уронил нож на пол, залез кулаками в карманы ее передника и снова повторил: – Ты с ума сошла? Где еще в городе я найду для тебя приличное жилье, если, конечно же, ты не надумала вернуться ко мне?
– Нет!
Это вырвалось у нее слишком поспешно, и Мишаня тут же оскорбленно замолк. А Лия принялась суетиться, бегать от стола к плите и обратно. Что-то резать, поджаривать и говорить, говорить, говорить без умолку.
– Нет, дорогой, возвращаться я не стану. Сам знаешь, про разбитую вазу и все такое… Просто жить тут стало невыносимо. И еще этот угрюмый сосед. Это просто наказание какое-то. Представляешь, пришел ко мне сегодня и…
– Кто пришел?! Димка пришел?
– Ты его знаешь? – Лия удивленно заморгала, уставившись на огромный помидор в руках и совершенно позабыв, что собиралась с ним сделать. Потом подняла глаза на бывшего мужа и осторожно, будто боясь спугнуть, будто говорила с только что пойманным беспризорником, поинтересовалась: – Откуда ты знаешь этого Гольцова? Ты никогда мне не говорил, что вы знакомы.
– А это было важным для тебя, хм-м, странно, я и не подумал. – Мишаня вернулся к столу, уселся поудобнее и, внимательно исследуя свои ногти, проговорил: – Димка Гольцов знаком мне по бизнесу. Мы пересекались. Нормальный был мужик, талантливый в вопросах добывания денег, а потом…
– А потом? – Помидор она все же порезала и сдвинула с деревянной доски в шипящую маслом сковородку.
К бывшему мужу она повернулась спиной, стараясь, чтобы он не уловил ее внезапного интереса.
А интерес, конечно же, возник. Еще бы ему не возникнуть после всего, что случилось сегодня.
Странный угрюмый тип живет в квартире напротив. Почти ни с кем не общается. Женщин к себе не водит. Мужчин, кстати, тоже. Никого у него нет. Никаких привязанностей, кроме желания уязвлять ранимых соседок и втравливать их в чудовищные истории. И тут вдруг оказывается, что у парня имеется талант. Да не какой-нибудь, а талант зарабатывания денег. Лия, конечно же, не предполагала, что этот Гольцов – нищий. Прекрасно знала, сколько стоит трехкомнатная квартира в их доме, а Гольцов жил именно в такой. Но чтобы он был так крут и обеспечен… Нет, не производил он на нее подобного впечатления, хоть умри, не производил.
– А потом с ним произошла какая-то чудовищная история, – медленно проговорил Мишаня. Оставил в покое свои ногти и уставился теперь на ее ноги. – А чего это ты, Лия, без обуви? Ты же не любишь ходить босиком и…
– Мишаня, погоди. Ты сказал, что с Гольцовым произошла какая-то история, так?
Поджаренные помидорные дольки она смахнула деревянной лопаточкой на тарелку, где дожидался своего часа полуфабрикат рыбного филе. Теперь все это нужно было присыпать тертым сыром и на несколько минут в гриль. Причем без лишней суеты и напряженности, чтобы Мишаня, упаси господь, не заметил ее чрезмерной озабоченности. Не объяснять же ему, что она не так давно возненавидела своего соседа и желает теперь узнать о своем враге как можно больше.
Мишаня, расскажи она ему всю правду, начнет лечить, учить, советовать, доведет ее до обморока своим менторским тоном и массой примеров из жизни знаменитостей.
– Сейчас рыбку поджарим… Откроем бутылку вина. Вино станем пить, дорогой? – Про вино она спросила, чтобы окончательно усыпить его бдительность, но Мишаня, как назло, вдруг сделался задумчив и серьезен. – К рыбе полагается белое… О, черт, белого, как назло, нет. Что станем делать?
– Выпьем и красного, не умрем, – проговорил он с легким замешательством, а потом… – Знаешь, Лия, думаю, тебе и правда нужно бы сменить место жительства.
– Да? А что так? Кто представляет для меня большую опасность: Кариковы или Гольцов? Что там с ним не так, а, дорогой?
Она нагнулась к стеклу духового шкафа и сосредоточилась на том, как покрывается румяной корочкой рыбное филе. Сейчас, вот сейчас Мишаня созреет и выложит ей все сам. И ей ничего, ну абсолютно ничего не нужно будет ему рассказывать.
Ее расчет оказался абсолютно верным. Пускай не сразу, пускай не в тот же миг, а спустя лишь полчаса, он все ей рассказал. Под бокал красного вина, под рыбное филе в сырно-помидорной заливке, Мишаня рассказал ей про крах Дмитрия Игоревича Гольцова.
История эта, на ее взгляд, не была банальной, но и не такой, чтобы считаться жизненным крахом. В ее практике случалось и похуже, и ничего, люди выживали и даже пытались потом что-то строить заново.
– И что же, все потом так уж и отвернулись от него? – Лия поставила на стол недопитый бокал с вином и тронула бывшего мужа за рукав тонкого пуловера, – тот в своем рассказе постоянно делал паузы, путался и то и дело возвращался к самому началу.
– Да, отвернулись. Димка тут как раз жениться собирался на дочери одного из влиятельных людей. – Мишаня назвал известную фамилию в их городе. – Так помолвку расторгли. В бизнесе тоже перестали доверять, а если тебе не доверяют, кто станет заключать с тобой какие-то договорные обязательства! Сейчас не время красных пиджаков. Рука, которую ты пожимаешь, заключая сделку, должна быть чистой! Чистой, понимаешь?!
– Да, наверное…
Рассказывать своему бывшему мужу о своих соображениях на этот счет она поостереглась. Пускай пребывает в своей уверенности, а уж она как-нибудь в своей.
– А его руки перестали быть чистыми, Лия! На них сделалось огромное грязное пятно, которое не смыть! – воскликнул Мишаня, как ей показалось, с огорчением.
– Но ты же сказал, что его вроде бы оправдали, – осторожно вставила она, подложила ему еще рыбы и пододвинула ближе блюдо с салатом. – Что это была вроде бы случайность, и он был ни при чем.
– Да! Да, все так и было, но… Это вот самое «но» незримо носилось и носится в воздухе. Никто не захотел иметь с ним дела после всего этого. Он же побывал там!.. – И Мишаня отчего-то потыкал указательным пальцем воздух над своей головой. – Кто доверит ему после этого?! Он мог там опуститься. Сломаться, в конце концов. Его просто-напросто могли завербовать. Понятно тебе?
Она осторожно кивнула, соглашаясь, хотя и не была с ним согласна.
То, что Гольцов попал в нелепую дурацкую ситуацию по своей доверчивости и наивности, она не верила. Не мальчик же, понимал, кто, что и зачем.
То, что его могли очень ловко и удачно подставить, было почти очевидным. Парень был умным, талантливым и достаточно влиятельным на тот момент.
В совершенно стерильные, чистые руки, заключающие сделки, о которых ей с чувством тут заявлял Мишаня, она тоже не верила. Там, где крутятся большие деньги, всегда существовали и будут существовать бои без правил.
Другой вопрос… Другой вопрос, если Гольцова нужно было устранить, не устраняя. То есть убрать с арены действий, оставив при этом в живых. Посадят, нет ли, тут вопрос спорный. А вот что на прежнее место Гольцову не подняться, это стопроцентно.
– Не-еет. – Мишаня даже пальцем ей погрозил, когда Лия изложила ему свои доводы. – Ты неправильно мыслишь, дорогая! Совершенно искаженно! Оно и понятно, столько лет проработать с преступниками… Конечно, по-другому ты мыслить не можешь, но все было не так! Не так!
Она не стала спорить, тут же отключила слух и принялась мыть посуду.
Как там было с Гольцовым в его прежней сытой и беспроблемной жизни, ей стало уже неинтересно. Почти неинтересно… Больше ее интересовало то, как будет в его теперешней. Как он собирается сосуществовать бок о бок с ними со всеми: с ней, с Кариковыми? Оставит все, как есть? Или… Нет, ей все равно непонятно, зачем он к ней приходил? Совершенно нелогичный, глупый поступок. Даже для обиженного жизнью мужчины глупый. Выяснять, нет?..
Она на мгновение отвлеклась, прислушиваясь к тому, о чем бубнит за ее спиной захмелевший Мишаня. Там было все по-прежнему: бесполезные опустошающие подробности его теперешних романов, обиды на ее неприспособленность к семейной жизни и планы на ближайшие несколько недель. Слушать не стоило, и Лия снова сосредоточилась на мыслях о Гольцове.
Зачем все же он приходил?
Глава 5
Он совсем не понял, с чего это вдруг проснулся посреди ночи. Такого не бывало никогда прежде. Если уж мучается бессонницей, так с самого вечера. С того самого момента, как уляжется на широченную панцирную койку. Таращит глаза в не беленный со смерти жены потолок и все думает, думает, а спать не спит. Ну а уж коли доведется уснуть сразу, то до самого утра глаз не размыкает. До того момента, как корове нужно выходить.
Филипп Иванович осторожно повернулся на бок. Может, помирать он собрался, оттого и проснулся? Может, старая с косой к нему наведалась, да в бок, прежде чем забрать, ткнула. Чтобы он осознал, так сказать, перед самой своей кончиной, что все – пора, собирайся, и так зажился, старый…
Нет, не болело ничего. Сердце пускай по-стариковски, но все еще молотило. Кашель не подступал, перехватывая горло. И в голове было ясно, не давило ни в затылке, ни в висках.
Чего же тогда глаза-то вытаращил посреди ночи?! До коровы еще часа три, не меньше. Он еще лет десять назад научился безошибочно угадывать время без часов. С тех пор ни разу его и не перепутал. Чего тогда не спится? Странно как-то…
Может, за Лийку душа разболелась? Или приснилось что плохое про нее? Да нет, вроде ничего не снилось. Хотя душа за нее всегда болит. Ноет и ноет, проклятая. За жизнь ее не сложившуюся, за маету одинокую. Да за красоту ее невостребованную. И изменить-то он ничего не в силах. Пригрозит так полушутя, полусерьезно, что в Дом престарелых уйдет, да и только…
С чего же проснулся?..
Филипп Иванович пролежал без сна еще минут двадцать, а потом не выдержал и слез с кровати. Чаю захотелось среди ночи, что за блажь? И не столько чаю, сколько Лийкиных ватрушек. Вот ведь и готовит баба, пальцы скушаешь, а поди же ты, все одна. Он хоть и журит ее временами, но понимает же как никто, что находка она, а не баба. Кто бы еще понял, ох…
Нашарив обрезанные по щиколотку старые валенки, Филипп Иванович вынырнул из-за занавески, что отгораживала его кровать от большой комнаты, и по стеночке на ощупь двинулся к выключателю. Но до выключателя он не добрел, остановился с чего-то и прислушался. Прислушался и похолодел.
Вот что, оказывается, его разбудило-то! Не бессонница, нет. И не старуха с косой, встречи с которой он заждался. Нет, нет и нет. Что-то происходило за стенами его дома. И даже не за стенами, а за одной стеной, что граничила с соседним домом, где Марфа Игумнова жила. И то, что происходило там сейчас, было незнакомым и пугающим.
Никогда, будучи в твердом уме и здоровой памяти, не голосила так соседка посреди ночи. Никогда! Сдержанной была и на язык, и на чувства. Сына даже когда хоронила два года назад, слезы ее никто не видел. Стояла над гробом, будто каменная. А чего же сейчас орет, будто режут ее?
Ах ты, господи ты, боже же мой!!! А ведь, поди, и правда режут!!! Банда-то… Про банду он совсем стариковским своим разумом позабыл. А они, эти преступники малолетние, уже двух старушек, по слухам, убили и пожитки их сожгли, и пытали их перед тем, как убить. Потому, может, и воет Марфа, что пытают ее?! Воет так, что сатане страшно, чего про живого человека говорить. Воет, стонет, а на помощь не зовет…
А пошел бы он на помощь-то?! Пошел или нет?!
Филипп Иванович вдруг безвольно съежился и съехал по стене, больно стукнувшись сухим задом об пол. И тут же закрыл руками уши, и зажмурился, и головой замотал. И слезы вдруг закипели, защипали в глубоких морщинах старых выцветших глаз. И стыдно-то как стало, ох, господи!!! Так стыдно, что жить невмоготу. Лучше бы уж сдохнуть ему было прямо сейчас, чем слушать, как Марфу убивают.
А может… Может, и не убивают вовсе, а?! Может, зуб у нее болит, оттого и воет она?! Глянуть бы… Хоть одним глазом, что стыдливо зажмурил.
Великих сил стоило Филиппу Ивановичу подняться с пола. Словно все болячки, что бережно хранило тщедушное старое тело, разом пробудились и набросились на него. И в голове заныло и затюкало. И сердце зашлось так, что, казалось, вот-вот еще разок-другой подпрыгнет и остановится точно. Ноги сделались чужими и ватными и поднимать его все никак не хотели. В коленках скрипело, в щиколотках будто по гвоздю кто вогнал, а пятки огнем горели, словно скипидаром смазанные. Наконец вышло. Поднялся он. И даже до окна добрел, и времени, казалось, час прошел. А Марфа все не унималась.
Осторожно тронув выцветшую ситцевую шторку, Филипп Иванович выглянул из окна на улицу. Ничегошеньки не было видно. Темнота кромешная. То звезды таращились битую неделю так, что спать от их света невозможно было, хоть окно заколачивай. А то ни зги не видать. Темнота да крик этот, рвущий душу на части.
Филипп Иванович подумал минуты три и решительно потянул с гвоздя у притолоки старенький ватник. На улицу он выходить не станет, нет. Боязно очень, нечего бога гневить отговорками. Он выйдет в сенцы и уже оттуда, с крохотного окошка, что слева от двери, посмотрит на Марфин дом. С этого самого оконца ее двор хорошо видно. И двор, и калитку, и крыльцо. Что-нибудь, да рассмотрит.
Не было видно почти ничего. Мельтешение низкорослых теней, да и только. Странно, но с улицы крик Марфы Игумновой был почти не слышен, из сенцев, где Филипп Иванович прильнул носом к стеклу, так и вообще почти ни звука. Ему пришлось даже дверь в хату приоткрыть, чтобы ничего не пропустить. Видимо, общая стена их домов играла такую акустическую шутку, раз он услышал.
Сколько он так стоял и смотрел, он так и не вспомнил потом. То во времени разбирался, не путаясь, а тут, поди же ты… И когда вдруг разом все стихло, объяснить потом не смог. Вой оборвался на высокой ноте, и тишина наступила такая, что в ушах заныло.
Филипп Иванович еще теснее прильнул носом к стеклу. То нещадно отпотевало, и приходилось то и дело его протирать. А это мешало сосредоточиться и напрячь слух и давно ослабевшее зрение. Мелькает кто-то по двору, это точно, что мелькает. Но вот кто?! Может, это у него в глазах рябь такая полосуется от страха. А может, и правда, кто и есть. Чего же Марфа-то не орет больше?! Жива она или нет?!
Он снова и снова вглядывался, вслушивался, протирал стекло и льнул к нему потным лицом. Все оставалось по-прежнему. И потом вдруг в какой-то момент и взметнулось к небу это страшное огненное пламя. Филипп Иванович даже вздрогнул от неожиданности и от стекла отскочил. Задел ногой пустой подойник, и как забыл, что оставил его там – у двери. И от дикого грохота, с которым покатилось по полу пустое оцинкованное ведро, присел, вжав голову в плечи.
Все!!! Он пропал!!! Сейчас эти злодеи непременно ворвутся к нему в дом и тогда… Тогда он уж точно больше ничего не узнает и не увидит. И умирать станет страшно, как Марфа Игумнова за стенкой. Орать, может, и не будет так, как она, но мучиться станет. И даже не это так его заботило, хоть и заставляло трястись и лязгать зубами, сколько то, как все это на его ненаглядной Лийке отразится.
Она же не переживет! Убиваться станет и винить себя, что уехала, бросила его одного. Что не обезопасила, что не предприняла ничего для того, чтобы его оградить, спрятать от беды. Плакать станет, уж точно. И еще чего доброго совсем на себе крест поставит. И думать больше не будет ни о каком замужестве. И это из-за него-то! Из-за старого бесполезного пня, что дрожит в собственном доме, испугавшись смерти. Ему ли смерти бояться, когда она уже давно на его пороге ноги обивает? Э-эх, дурень…
Филипп Иванович рывком распахнул приоткрытую дверь в избу и без опасения щелкнул выключателем. Лампочка на шестьдесят тускло засветила внутри пластмассового шара розового с белым. Сейчас он найдет смешную игрушку, что Лия ему подарила ко дню рождения. И позвонит. Позвонит в милицию и сообщит о страшном крике соседки Марфы Игумновой и о большом пламени, что взметнулось в небо посреди ночи тоже сообщит. И бояться не станет. Чего ему бояться-то на рубеже своей жизни?! Чего? Лийка вот, правда, неприкаянной останется…
Милиция отозвалась сразу. Да так слышно было здорово. Филипп Иванович даже в первое мгновение трубку от уха отнял и посмотрел на нее недоуменно, оттуда слышно-то или нет. Оттуда…
И парень толковым оказался. Не зевал, не плевался и не отсылал его куда подальше. Все быстро узнал, записал и велел не высовываться, пока милиция не приедет. Потом в ухе, в трубке то есть, коротко и тонко запищало. И ему пришлось долго искать ту самую крохотную кнопку, на которую стоило нажать, чтобы этот противный комариный писк прекратился. Нашел и возрадовался. Надо же, он еще и ничего, соображает. Потом подержал какое-то время телефон в руке, раздумывая, звонить Лийке или нет. Вроде и не сообщать нельзя, мало ли что. Вдруг и в ее дом залезли тоже и погромили там все.
А сообщать вроде бы и грешно. Она же минувшим вечером должна была на день рождения к подруге пойти. Вдруг веселье за полночь перевалило? Вдруг ей там повезло, и она сейчас не одна, а с кавалером? А он станет киснуть и жалиться? Нет, не станет. Пускай дочка отдыхает без печалей и тревог. Он как-нибудь один справится. Вон и милиция скоро подъехать обещала.
Милицию Филипп Иванович прождал полтора часа. Полтора часа прошло с тех пор, как на окраине деревни послышался едва различимый звук работающего автомобильного мотора. Воспрянув духом после разговора с толковым дежурным, он постепенно начал терять былую уверенность, и к моменту их приезда снова дрожал осиновым листом. И свет снова выключил. Нет, неправда. Свет он выключил почти сразу после звонка. И снова в сенцы пошел. И стал там опять в темное окошко подглядывать. А ну как в свете костра разглядеть что-нибудь удастся. Это же уже информация…
Информации к моменту прибытия оперативников набралось – кот наплакал. Костер быстро прогорел, и в свете его ничего, кроме прежних теней, видно не было. Преступник хоть и был мал ростом и возрастом, но хитер был, слов нет, хитер. К костру близко не подходил и разговор на повышенных тонах не вел. Ничего… И на старуху случалась проруха. Где-нибудь да прокололись эти стервецы, если, конечно же, они это были. Когда в дверь его дома осторожно постучали, Филипп Иванович был почти уверен, что это милиция…