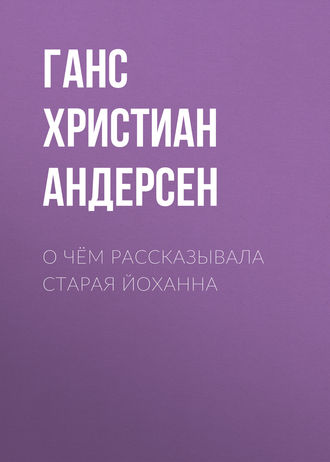
Ганс Христиан Андерсен
О чём рассказывала старая Йоханна
Ветер шумит в ветвях старой ивы.
Сдаётся, что внемлешь песне; поёт её ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Йоханну из богадельни; она всё знает, она, ведь, родилась тут в окрестности.
Много лет тому назад, когда мимо ивы ещё проходила большая столбовая дорога, ива была уже большим могучим деревом. Стояла она, где и теперь стоит, близ пруда, перед выбеленным домиком портного. Пруд этот в те времена был так велик, что к нему пригоняли на водопой скотину, а в тёплые летние дни в нём полоскались голые деревенские ребятишки. Под самым деревом стоял тогда большой камень, изображавший верстовой столб; теперь он свалился и оброс побегами ежевики.
Новую большую дорогу провели по ту сторону богатой крестьянской усадьбы, а старая стала просёлочною, пруд же превратился в подёрнутую зелёною плесенью лужу. Бухнется в неё лягушка – зелень разойдётся, и покажется грязная, чёрная вода. По краям её росли и растут осока, тростник и жёлтые лилии.
Домишко портного покосился от старости; крыша превратилась в рассадник мха и дикого чеснока. Голубятня обветшала, и в ней свил себе гнездо скворец, под крышей же налепили себе гнёзд ласточки, словно домик был приютом счастья.
Когда-то оно так и было; теперь же в нём тишина и запустение. Живёт в нём, или вернее прозябает, «дурачок Расмус», как его прозвали. Он родился в этом доме, играл тут ребёнком, прыгал по полю и через изгородь, полоскался в пруде и карабкался на старую иву.
Она и теперь ещё подымает к небу свои роскошные, красивые, большие ветви, как и тогда. Но буря слегка погнула её ствол, время проделало в нём трещину, ветер занёс в неё землю, и из неё сами собою выросли трава, зелень и даже маленькая рябинка.
Ласточки возвращаются сюда каждую весну, начинают летать вокруг дерева и над крышей и чинить свои старые гнёзда; Расмус же махнул рукою на своё гнездо, никогда не чинил его. «К чему? Что толку?» вот какая была у него поговорка, унаследованная от отца.
И он оставался в своём гнезде, а ласточки улетали, но на следующую весну возвращались опять – верные птички! Скворец посвистывал, улетал, опять возвращался, и опять насвистывал свою песенку. Когда-то и Расмус свистал с ним взапуски; теперь он и свистать и петь разучился.
Ветер шумел в ветвях старой ивы, шумит и посейчас; сдаётся, что внемлешь песне; поёт её ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Йоханну из богадельни; она всё знает, может порассказать о том, что было здесь в старину, она – живая хроника.
Дом был ещё нов и крепок, когда в него перебрались на житьё деревенский портной Ивар Эльсе с женою Марен, люди честные, работящие. Старуха Йоханна была в то время ещё девчонкою; отец её, выделывавший деревянные башмаки, считался чуть ли не последним бедняком в околотке. Много перепало девочке славных кусков хлеба с маслом от доброй Марен, – у этой-то не было недостатка в провизии. Она пользовалась большою благосклонностью помещицы, вечно смеялась, вечно была весела, никогда не вешала носа, болтала без умолку, но, работая языком, не покладала и рук. Иголка в её руках двигалась так же быстро, как язычок во рту; кроме того, она смотрела и за хозяйством, и за детьми, а их была без малого дюжина – целых одиннадцать; двенадцатый так и не явился.
– У бедняков вечно полно гнездо птенцов! – ворчал помещик. – Топить бы их, как котят, оставляя лишь одного или парочку из тех, что покрепче, так беды-то было бы меньше!
– Спаси Боже! – говорила жена портного. – Дети – благословение Божие, радость в доме! За каждого лишнего ребёнка прочтёшь лишний раз «Отче Наш» – вот и всё! А если и туго приходится и трудно кормить столько ртов, так стоит приналечь маленько на работу и выйдешь из беды честь-честью! Господь не забудет нас, коли мы Его не забываем!
Помещица одобряла Марен, ласково кивала ей головой и часто трепала её по щеке. А было время, что она даже целовала Марен, но это тогда ещё, когда сама была маленькою девочкой, а Марен – её нянькой. Обе очень любили друг друга, и добрые отношения между ними не порывались.
Каждый год, к Рождеству, в доме портного появлялся запас провизии на зиму: бочка муки, свиная туша, два гуся, бочонок масла, сыр и яблоки. Всё это шло с помещичьего двора и помогало пополнить кладовую. Ивар Эльсе глядел тогда веселее, но скоро опять затягивал свой вечный припев: «Что толку?»
В домике портного было чисто, уютно; на окнах занавески, на подоконниках цветы: гвоздики да бальзамины. На стене, в рамке, висела азбука, вышитая Марен, а рядом стихотворение, тоже её собственной работы; она умела подбирать рифмы и почти гордилась тем, что её фамилия Эльсе (Ölse) являлась единственным словом, рифмовавшим со словом Pölse (колбаса).
– Всё-таки преимущество перед другими! – говаривала она, смеясь.
Она всегда была в духе, никогда не говорила, как муж: «Что толку!» У неё была своя поговорка: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Так она и делала, и весь дом держался ею. Детишки росли здоровыми, подрастали, покидали родное гнездо, становились сами на ноги и вели себя хорошо. Самый меньшой из них, Расмус, ребёнком был просто красавчик, так что один из лучших живописцев в городе даже взял его раз моделью, но нарисовал совсем голеньким, как мать родила! Картинка эта висела теперь в королевском дворце; помещица видела её и сейчас признала маленького Расмуса, даром что он был без платья.







