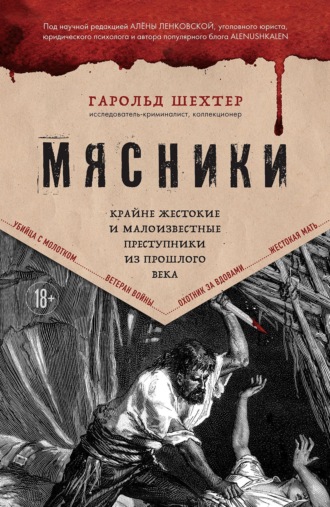
Гарольд Шехтер
Мясники. Крайне жестокие и малоизвестные преступники из прошлого века
13
Двое последних присяжных были отобраны вскоре после возобновления процесса в четверг утром, 26 апреля. Поклявшись «хорошо и по-настоящему судить… заключенного на скамье подсудимых», 12 человек заняли свои места в ложе присяжных[106]. Мгновением позже помощник окружного прокурора Чарльз Нейлор Манн поднялся, чтобы изложить версию государственного обвинения.
Наряду с юридическими познаниями, Манн был известен своим страстным интересом к драме. Будучи ведущим специалистом по истории театра в Филадельфии, он «часто писал статьи на драматические темы в газеты и владел библиотекой книг по драматургии, считавшейся лучшей в стране»[107]. Его глубокое знание драматических приемов сослужило ему хорошую службу в зале суда, где, как свидетельствует его вступительная речь, он применял их с исключительным мастерством.
Он начал с того, что напомнил присяжным, что, хотя Пробсту было предъявлено восемь обвинений в убийстве первой степени, сейчас его судят только за убийство Кристофера Диринга – «зверское убийство», которое было совершено, когда город еще не оправился от «темного кровавого деяния», совершенного Кристианом Бергером. «Едва общественное сознание оправилось от потрясения, вызванного зверским убийством в Джермантауне, – заявил Манн, – как некий негодяй, жестокое чудовище переступил порог скромного жилища в уединенном районе с ужасной целью, убил целую семью, в результате чего все домочадцы: отец и мать, четверо их детей, бедный парень, работавший в поле, и гость семьи, включая самого младенца в колыбели, – все погибли».
Местом убийства, продолжал Манн, был «скромный дом» в «одиноком и безвестном районе Первого округа города». Там «в полном умиротворении» проживал Кристофер Диринг со своей семьей: «его жена, Джулия Диринг; Джон и Томас, два его сына, восьми и шести лет; его дочь Энни, около четырех лет; и младенец, Эмили Диринг, около 14 месяцев, занимавшая маленькую колыбель в теплой и уютной кухне, где ее периодически укачивала любящая мать, напевая убаюкивающую песню, чтобы она погрузилась в сладкую дрему».
Помимо молодого фермера Корнелиуса Кэри, в доме проживал еще один человек – а именно заключенный на скамье подсудимых. Без гроша в кармане и «без крыши над головой», он явился на ферму, «сославшись на нужду и бедность», и был нанят Кристофером Дирингом «скорее из милосердия, чем из необходимости в его услугах». Уволенный через некоторое время из-за сильного отвращения, которое он вызывал у «женской части» семьи, он был снова принят через месяц добросердечным «хозяином дома», который «относился к нему без предрассудков [и] щедро его обеспечивал». «И как же Кристоферу Дирингу отплатили за его щедрость? – воскликнул Манн, бросив злобный взгляд в сторону Пробста. – Ударом, столь внезапным, столь смертоносным, что мы вынуждены остановиться и спросить себя, может ли в груди человека, нанесшего его, жить хоть одно человеческое чувство!»
Повернувшись к присяжным, Манн кратко изложил суть преступления, начав с поездки Кристофера Диринга в город, целью которой была встреча с партнером Теодором Митчеллом, и родственницей Элизабет Долан, которая, «к несчастью для нее… выбрала именно эту субботу для одного из своих визитов». Он рассказал о том, что в следующую среду Джон Эверетт обнаружил животных в крайне запущенном состоянии на ферме Дирингов и «ужасное и тошнотворное зрелище» в амбаре – растерзанные трупы Джулии Диринг и ее детей, причем самый маленький лежал на груди матери. «В самом деле, джентльмены, – воскликнул Манн голосом, дрожащим от негодования, – ни одно злодеяние не разожгло народную ярость так сильно, как бессмысленная расправа над этим младенцем. Неужели в сердце этого негодяя совсем не было жалости? Неужели он не содрогнулся, когда сознательно взял этого чистого невинного младенца из колыбели и, улыбаясь ему в лицо, вышиб ему мозги?»
Что касается мотивов, продолжает Манн, то обчищенные карманы жертв и разграбленный дом не оставляют никаких сомнений в том, что эта немыслимая резня была совершена не иначе как из жадности. Помимо того что убийца лишил Кристофера Диринга и Элизабет Долан имущества, которое было при них – часов, денег, «револьверов с пороховницей, табакерки, одежды и бритв», – он «залез в каждый уголок, перевернул ящики стола, кровати, вырвал страницы из книг… Он вынес безделушки и украшения жены (Диринга), аналогичным образом распорядившись с вещами, принадлежавшими мисс Долан». Даже детские копилки «были разбиты и опустошены». «Короче говоря, – сказал Манн, – убийца перерыл весь дом, унеся с собой все, что только попалось ему под руку»[108].
Далее прокурор перешел к обсуждению ареста. Хотя трое офицеров, задержавших Пробста, были отмечены мэром за их «смекалку, оперативность и старательность»[109], Манн, описывая поимку Пробста, приписывает ее не столько их собственному опыту и способностям, сколько действиям всевидящего провидения. «Около девяти часов вечера [в четверг] в районе улиц Двадцать третьей и Маркет, – рассказывал он, – офицеры Дорси, Уэлдон и Аткинсон, не имея иного света и ориентиров, кроме данных Богом инстинктов, позволяющих распознать убийство, увидели человека, которого они, как по Божественному побуждению, были вынуждены арестовать. Они взяли его под стражу, а поскольку он давал много противоречивых показаний, его отвезли в участок Шестого округа и тщательно обыскали. При нем нашли два бумажника и табакерку. Этот человек – Антон Пробст, заключенный. Мы докажем, что все найденные у него вещи, вне всяких сомнений, были украдены у членов семьи Диринг».
В заключение Манн напомнил присяжным о беспрецедентном масштабе дела, которое они рассматривают, – дела, не имеющего «аналогов в каталоге убийств». «Убийства массового, беспорядочного характера, – заявил он, – во время сильных народных волнений, вихрей разбушевавшихся страстей, с жестокими наклонностями людей, обезумевших от честолюбия, фанатизма или неуправляемого рвения, иногда случались. Но даже среди них… мы не найдем подобного случая уничтожения целой семьи, выбранной в качестве жертвы для удовлетворения прихоти одного-единственного ума».
«Господа, – заключил он, – именно с таким редким и страшным преступлением вам предстоит сейчас иметь дело. Я призываю вас к тому, чтобы при расследовании и рассмотрении этого дела вы прониклись духом справедливости, присущим суду присяжных, и продемонстрировали непоколебимую решимость не оставить безнаказанным подобное преступление – преступление, для которого у нас нет даже подходящего названия»[110].
Бодро изложив свою версию, Манн принялся поочередно вызывать свидетелей, начиная с доктора Шэпли, который подробно рассказал о результатах вскрытия. Несмотря на холодную клиническую манеру, в которой он описывал жуткие травмы, нанесенные жертвам, – а может быть, и благодаря ей – его показания произвели на слушателей огромное впечатление. Вслед за Шэпли выступили несколько соседей Дирингов – Джон Гулд, Роберт Уайлс и Абрахам Эверетт, – которые рассказали о своих тревожных находках на ферме: о голодающем скоте, разграбленном доме, человеческой ноге, торчащей из стога сена в амбаре. Главный детектив Бенджамин Франклин описал, как были обнаружены тела, а офицер Доусон Митчелл рассказал, что нашел труп Корнелиуса Кэри, погребенный в глубине сеновала[111].
После перерыва на обед, во время которого Пробста отвели в соседний ресторан, где он не притронулся к предложенному ему ростбифу с овощами, вместо этого съев большой кусок торта с заварным кремом, процесс продолжился и свои показания дали Джейн Гринвелл, Теодор Митчелл и Маргарет Уилсон – трое людей, общавшихся с Кристофером Дирингом в последнее утро его жизни[112]. Последним свидетелем дня стала Лавиния Уитмен, проститутка, с которой Пробст лег в постель через несколько часов после убийства Дирингов. Один из зрителей в зале суда был поражен ее поведением на суде. «Какой бы порочной ни была эта особа, – писал он, – она все же сохранила в своем женском сердце достаточно благочестия и доброты, чтобы содрогнуться… при одном только виде чудовища Пробста». Со своей стороны, Пробст, который в течение всего дня сохранял совершенно безразличный вид, казалось, позабавился ее показаниями, хихикая, когда она рассказывала о тех грошах, которые он заплатил ей на следующее утро[113].
Суд удалился в 18:00. Снаружи здания отряд из 150 полицейских сдерживал огромную толпу и расчищал путь между выходом и ожидающим тюремным фургоном. Через пять минут Пробст в сопровождении шефа Рагглса вышел из здания и поспешил к повозке, в то время как толпа вновь осыпала его «оглушительными воплями, шипением, криками» и проклятьями, которые «возносились до самых небес»[114].
14
Продолжая тщательно представлять доказательства против обвиняемого, окружной прокурор Манн начал третий день процесса с вызова свидетелей, которые общались с Пробстом в период между убийствами и его арестом: салунщиков Фредерика Штрауба и Кристиана Море, трактирщика Уильяма Лекфельдта и ювелира Чарльза Олльгира, который купил украденные часы и цепочку Кристофера Диринга. Хотя их показания не оставили сомнений в виновности Пробста, наибольшее эмоциональное впечатление на слушателей произвели два последних свидетеля обвинения[115].
Первым из них была пожилая мать Элизабет Долан, которая опознала различные предметы, найденные у Пробста, – саквояж и бумажник, часы и цепочку, а также различные безделушки – как вещи ее дочери.
«Когда, – спросил Манн, – вы в последний раз видели свою дочь живой?»
«В семь часов утра в субботу, 7 апреля».
«Куда она направлялась?»
«К мистеру Дирингу».
«На каком транспорте?»
«На пароходе», – ответила мисс Долан.
«Из какого места?»
«Из Берлингтон-Сити, Нью-Джерси».
«Когда вы видели ее в следующий раз?» – спросил Манн.
«Больше я ее не видела, – ответила миссис Долан прерывающимся голосом, – пока не увидела ее в холодильном ящике»[116].
Еще более впечатляющими были показания последнего свидетеля обвинения, 10-летнего Уильяма Диринга – «бедного маленького сироты Вилли», как его называли в прессе[117]. Крепкого пухлого паренька – «на вид фермерского мальчика» – пришлось поднимать на стул в свидетельской ложе, и он говорил таким «тихим, невнятным детским голосом», что его ответы пришлось повторять секретарю суда[118].
Отвечая на вопросы Манна, он объяснил, что покинул дом пасхальным утром, чтобы навестить деда «за Шуилкиллом», оставив отца, мать, четырех братьев и сестер, а также Корнелиуса Кэри, который также жил в доме.
«Кто-нибудь еще жил там?» – спросил Манн.
«Да, сэр, – ответил Вилли, указывая на заключенного на скамье подсудимых. – Этот человек».
Когда ему показали различные предметы, найденные у Пробста во время ареста – золотые часы и цепочку, два пистолета, табакерку, – мальчик без колебаний назвал их вещами своего отца. Он сохранил впечатляющее самообладание даже под перекрестным допросом Джона П. О'Нила, одного из двух адвокатов Пробста.
«Вилли, – начал О'Нил, – откуда ты знаешь, что это часы твоего отца?»
«Я часто приносил их ему», – ответил мальчик.
«Как часто ты держал их в руках?»
«Почти каждое утро».
«Ты уверен, что это те самые часы?»
«Да, сэр».
«Когда ты говоришь, что уверен, что это те самые часы, ты хочешь сказать, что это те самые часы, которые были у твоего отца, или что они похожи на них?»
«Да, сэр, – ответил Вилли. – Это те самые часы»[119].
Как только мальчик отошел от трибуны, окружной прокурор Манн встал и объявил, что обвинение закончило. Теперь защите предстояло вызвать своих свидетелей. Так полагало большинство присутствующих в зале суда. Поэтому для них стало неожиданностью, когда адвокат Пробста Джон А. Вулберт поднялся на ноги и объявил: «Да будет угодно вашей чести, у нас нет никаких показаний от имени заключенного. Мы прекращаем выступление от имени заключенного».
Затем последовали четыре заключительные речи, первую из которых дал помощник окружного прокурора Томас Брэдфорд Дуайт. Он начал с упреждающего опровержения ожидаемого аргумента защиты о том, что психическое состояние Пробста пострадало из-за его военного опыта – «его знакомства с потоками крови на войне».
«Я хочу опровергнуть эту идею, – заявил Дуайт, – и сказать, что эффект войны в целом, а тем более войны, недавно завершившейся в этой стране, заключается не в лишении человека сострадания и превращении его в дикаря. Жестокий от природы человек[120], никак не пытающийся подавить в себе эти инстинкты, будет становиться все более кровожадным с каждой новой кровавой бойней, пережитой им. С другой стороны, человек с нормальными чувствами после каждой битвы будет все меньше желать причинять страдания другим и все больше заботиться о жизни и благополучии своих сотоварищей».
Дуайт приступил к методичному обзору доказательств, указывающих на «сознательный, намеренный и умышленный» характер «ужасного» преступления Пробста. В витиеватых, трогающих сердце выражениях, дополненных цитатой из «Сельского кладбища» Томаса Грея, он описал ужасные последствия расправы.
«Дело сделано, господа. Мать уложили в этом тесном склепе вместе с младенцем, покоящемся, как при жизни, на ее груди. Грудь ее верного мужа и защитника больше не вздымается. Их друг рядом с ними спит сном, который не знает пробуждения. Радостная болтовня детей затихла навсегда, а одинокий паренек похоронен в сене, которое, возможно, собственными руками косил в летние дни. И ни в одном глазу больше не вспыхнет света, ничей голос больше не ответит на вопрос или приветствие.
Ни утренний душистый ветерок,
Ни птичий гомон, ни метель, ни дождь,
Ни звонкий крик петуший, ни рожок
Уж не поднимут их с подземных лож.
Погребенные вместе, словно убитые на поле боя, члены этой семьи будут покоиться с миром до судного дня».
Предвидя доводы защиты о том, что у Пробста был сообщник и поэтому его нельзя обвинять во всех убийствах, Дуайт заявил, что два факта опровергают подобное утверждение. Если бы у Пробста был сообщник, то, несомненно, добыча была бы поделена между ними. «Мы утверждаем, что [заключенный] действовал один, потому что раздела краденого не было, – сказал Дуайт. – Пробст заполучил все». Более того, убийства были похожи друг на друга. «Каждая голова пробита как будто одним и тем же оружием, – заявил он, – каждое горло перерублено одним и тем же топором». Если бы некоторые жертвы были убиты «одним способом, а остальные – другим, то первым и, возможно, неизменным выводом было бы: „Здесь поработали двое“. Но он не оставил нам места для таких заключений».
Признав, что обвинение построило свою версию на косвенных уликах, Дуайт подчеркнул, что такие «доказательства» не менее надежны, чем свидетельства очевидцев. «Косвенным уликам можно доверять так же безоговорочно, как и живому наблюдателю, – сказал Дуайт. – Он может ошибаться. Он может извратить истину. Небрежность в наблюдениях, сильное волнение во время предполагаемого преступления или предвзятое отношение к обвиняемому могут повлиять на показания и сделать их бесполезными». Тем не менее подавляющее число вещественных доказательств, представленных обвинением, не вызывают никаких сомнений. Все они «указывают только на один вывод и ни на какой другой – что заключенный виновен!»[121].
15
После выступления Дуайта, которое продолжалось до 17:00, суд удалился на перерыв. Процесс возобновился в 10:00 на следующее утро, в субботу, 28 апреля. Ожидаемая кульминация процесса привлекла «многих видных членов коллегии адвокатов», а также обычных искателей сенсаций. Были заняты не только все сидячие места, но и «все свободные места для стояния». Зал суда был настолько переполнен, что «невозможно было пройти… сквозь плотную толпу зрителей»[122].
Джон А. Вулберт начал процесс с часовой речи в защиту подсудимого. Как и предполагало обвинение, он настаивал на том, что улики против Пробста носят исключительно косвенный характер. Он признал, что подсудимый вполне мог быть вором. «Если бы это был процесс по делу о краже, у обвинения могли бы быть доводы, – признал он. – Судя по тому, что вещи были найдены у этого человека… они могли бы обвинить его в воровстве на основании этих доказательств». Однако никаких веских доказательств того, что Пробст был убийцей, не было. «Действительно, из дома были взяты всякие безделушки, но это не доказывает убийства… Часы мистера Диринга, конечно, у него. Но разве это доказывает убийство?»
Кроме того, было трудно поверить, что преступление подобного масштаба мог совершить человек, действовавший в одиночку. «Посмотрите на эти восемь тел, – воскликнул Вулберт, – и скажите, мог ли один человек сделать это – убить их всех». Утверждая, что жертвы, вероятно, были убиты во дворе, а затем спрятаны в амбаре, он заявлял, что состояние их одежды доказывает причастность двух людей: «Если бы это сделал один человек и перенес тела со двора, остались бы следы волочения по грязи. На одежде женщины нет никаких следов, указывающих на то, что ее тащили по грязной земле к амбару… Тела лежат в амбаре, без всякой грязи. Мог ли один человек положить их туда? Как вы думаете, это возможно? Он мог бы взять взрослых за плечи, и тогда бы их обувь волочилась по земле и покрылась грязью. Но на них нет никакой грязи, и это убеждает меня в том, что тела в амбар должны были нести два человека».
В конце он бесстрастным тоном повторил свой прежний аргумент. «Руководствуйтесь только вещественными доказательствами! – взывал он. – Не приносите поспешно и без необходимости в жертву жизнь другого человека [и] не предполагайте, что он виновен, на основании исключительно косвенных улик! […] Я могу лишь попросить вас внимательно изучить доказательства и сделать паузу, прежде чем отправлять его обратно к создателю»[123].
За Вулбертом последовал его коллега Джон О'Нил. Он произнес одну из тех вычурных речей, которыми восхищали людей ораторы того времени. «Я выступаю не для того, чтобы оправдать убийство или пропагандировать насилие, – начал он. – Я говорю, чтобы выполнить долг, возложенный на меня этим уважаемым судом… Мы назначены пройти с этим заключенным через страшные муки этого дела, как часовые закона, и охранять его, подобно бдительному дракону дочерей Геспера, чтобы свобода и жизнь, золотые яблоки этого храма, не были отняты у него во время суда».
Напомнив присяжным об их священной клятве вершить строгое правосудие, он призвал их не обращать внимания на «неистовство толпы», требующей смерти заключенного. «Горе тому дню, – воскликнул он, когда вердикт будет вынесен присяжными под стоны и шипение толпы, которая в своей беззаконной страсти распнет правосудие или обожествит преступление! Эта толпа превратит этот храм в амфитеатр и отдаст свою жертву, как во времена языческого Рима, на растерзание диким зверям! […] Как бы ни был взволнован внешний мир, какими бы гневными и бурными ни были его волнения, когда звучит голос этого суда, он должен быть подобен голосу из раковины Тритона, заставляющему моря вновь искать свои берега, а воды – свои привычные русла.
При всей своей высокопарной риторике аргументы О'Нила по сути были теми же, что и у Вулберта. Он заявил, что версия обвинения строится исключительно «на так называемых косвенных уликах; то есть они просят на основании обстоятельств дела прийти к однозначному заключению, что подсудимый виновен в этом убийстве. Итак, каковы же эти обстоятельства?» Он признал, что «все предметы, идентифицированные как принадлежащие Дирингу и мисс Долан, были найдены у заключенного». Однако этот неоспоримый факт свидетельствовал о «простом воровстве», а не о массовом убийстве. «Чудовищно с точки зрения закона, – воскликнул О'Нил, – чудовищно с точки зрения разума предполагать, что заключенный, поскольку у него были эти вещи, получил их, совершив убийство, что он завладел ими, обокрав мертвых. Так вот, есть ли в деле что-нибудь, что позволило бы вам сказать, когда эти вещи были им получены? Я утверждаю, что они были получены до убийства».
Аргумент обвинения о том, что «Антон Пробст совершил это убийство… и совершил его в одиночку», был построен на столь же шатких основаниях. «Рассмотрим обстоятельства, – призвал присяжных О'Нил. – Диринг – сильный, крепкий мужчина; его жена – мать большого семейства; мисс Долан – уже взрослая дама; парнишка в поле; маленькие дети, резвящиеся на весеннем утреннем ветерке! Вероятно ли, спрашиваю я, что он убил их и убил в одиночку? Возможно ли, чтобы он задумал такое чудовищное деяние в поле зрения дома, стоящего на востоке, и почти на глазах у людей, идущих на рынок?»
Его действия после смерти Дирингов также «не позволяют предположить, что он совершил убийство»: «Бегство и сокрытие всегда были и остаются признаками преступления. Бежал ли он? Скрывался ли он? Он был окружен служителями закона. Разве он мог не бежать? Он был здесь чужаком, его почти никто не знал, кроме семьи Дирингов. У него есть дом далеко за морем… Разве он не отправился бы туда? Да, господа, в тот субботний вечер, если бы он совершил это убийство, вместо того чтобы приехать в город, он отправился бы в ближайший порт, сел бы на борт первого же судна с увесистым якорем и к следующему четвергу, когда его арестовали, он был бы далеко за пределами досягаемости закона».
В заключение он произнес пафосную речь, в которой снова сослался на греческую мифологию: «Я разделяю с вами, господа, ужас, который вы испытываете [от этого преступления]; его природа, его жертвы, его отвратительные детали никогда не будут забыты. Ферма Диринга навсегда останется на языке этого мира местом совершения самого чудовищного преступления в истории. Я бы вместе с вами, господа, освятил ее вечной памятью, сделал бы местом, куда приходят девы и матери, и чтобы слезы, оплакивающие мертвых, подобно слезам Гелиад, превращались в янтарь, падая на землю. Я бы отпел заупокойную молитву, печальную и тихую, под музыку, сладкую, словно ноты соловья, днями напролет поющему над могилой убитого юноши».
Тем не менее возмездие за столь зверское преступление может быть достигнуто только «осуждением истинного преступника. Этого можно добиться исключительно на основании имеющихся в деле доказательств». Обвинение не смогло выстроить цепочку неопровержимых доказательств, оно представило лишь «разрозненные звенья».
«Господа присяжные, – воскликнул О'Нил, – возможно, я больше никогда не обращусь к вам здесь, но мы встретимся снова и вынесем еще одно решение по этому делу. Да, господа, за облаками и после смерти мы встретимся, судья и присяжные, заключенный и адвокат, и я умоляю вас, чтобы вы, как велел суд, „Люди добрые и честные, встали вместе и выслушали доказательства“!»[124]
Последним к присяжным обратился главный обвинитель Манн. Те, кто ожидал особенно красноречивого заключительного слова от эрудированного и высокообразованного адвоката, не были разочарованы. Голосом, дрожащим от негодования, он заявил о своей неспособности сохранять профессиональную отрешенность при изложении аргументов. «Обстоятельства, связанные с этим делом, настолько беспрецедентны по жестокости, настолько беспримерны по ужасу, что я не могу думать о них, не могу говорить о них спокойно».
Несмотря на предположение, что его могут увлечь эмоции, речь Манна на самом деле была образцом ясности и риторической силы. Не останавливаясь на «душераздирающих деталях дела», он утверждал, что тщательное «рассмотрение всех доказательств по делу» привело к четырем неизбежным выводам, доказывающим вину заключенного «вне всяких сомнений». Во-первых, что злодеяние было делом рук «одного человека, не прибегавшего к помощи сообщников». Во-вторых, что убийца «не был чужаком в семье, а был тем, кто имел доступ в дом… тем, кто мог выманить женщин и детей из дома без подозрений с их стороны и находился в таких близких отношениях с семьей, что мог таким образом осуществить адские планы, задуманные его злым сердцем». В-третьих, «что это было сделано с целью грабежа и для того, чтобы унести все ценные вещи из дома мистера Диринга и личные вещи тех, кого он намеревался убить». И наконец, «что заключенный, находящийся в зале суда, был тем человеком, который унес награбленное, ради получения которого он совершил убийства».
Украшая свою речь отсылками к различным произведениям классической литературы, включая «Айвенго» сэра Вальтера Скотта, пьесу Филиппа Мэссинджера «Новый способ платить старые долги» и «Генриха IV» Шекспира, он посвятил следующие 90 минут изложению фактов с таким рвением, что у слушателей не осталось сомнений в том, что Пробст, как его описал Манн, действительно был «главным извергом всей земли», «жестоким монстром», «занимающим высшую ступень злодеяния».
«Такое преступление, как это, неизвестно уголовным анналам, – заключил он. – Нет слов, чтобы выразить его чудовищность. Мозг выкручивает, а сердце ноет от боли, когда осознаешь его; и я уверен, господа, что вы облегчите жизнь не только обществу, но и этому суду, признав виновным этого человека в преступлении, в котором была доказана его вина. Без этого вердикта человеческое правосудие станет насмешкой, а суд присяжных – иллюзией и обманом. Стоя здесь и выступая в защиту убитого отца, зарезанной матери, разрушенной семьи, опустевшего дома, возмущенной общины и правосудия, я чувствую, что имею право просить вас решительно и сурово исполнить свой долг, признав виновным этого заключенного, и таким приговором научить всех странствующих преступников, что земля Филадельфии – небезопасное место для совершения насилий и убийств!»[125]
Сразу после того, как Манн закончил свою речь в 13:30, судья обратился к присяжным, изложив им суть обвинения и напомнив, что они должны принимать решение на основании одних лишь доказательств, а не «под влиянием внешнего окружения, мнения толпы или искреннего негодования, которое вы можете испытывать по поводу ужасной жестокости этого убийства». Возвращаясь к вопросу, поднятому помощником окружного прокурора Дуайтом, он признал, что, поскольку очевидцев массового убийства не было, доказательства, в силу необходимости, были косвенными. Чтобы проиллюстрировать, что такие доказательства «столь же удовлетворительны и убедительны», как и «свидетельские показания», он кратко перечислил некоторые из наиболее сенсационных дел последних 20 лет, которые были «раскрыты на основании косвенных улик»[126]. Помимо убийства в Джермантауне, совершенного Кристианом Бергером, к ним относилось совершенное в 1848 году убийство миссис Кэтрин Радемахер, зверски зарезанной в своей спальне Чарльзом Лангфельдтом; убийство и расчленение в 1852 году молодого торговца Якоба Лемана польским иммигрантом Матиасом Скупински; а также шокирующее двойное убийство в 1852 году Оноры Шоу и Эллен Линч, двух сестер, зарезанных и забитых до смерти Артуром Спрингом[127].
Подытожив доказательства, представленные обвинением, и объяснив, как они «связывают заключенного на скамье подсудимых с убийством», Эллисон определил различные степени[128] убийства: непредумышленное убийство, если убийство совершено «сгоряча»; убийство второй степени, «если на человека напали с целью жестоко наказать, а не с намерением лишить жизни»; и убийство первой степени, если оно «совершено умышленно, преднамеренно и жестоко». Признав, что присяжные должны сами решить, к какой категории относится данное дело, он заявил, что «имеющиеся доказательства однозначно указывают на то, что оно было совершено с умыслом и преднамеренно»[129]. За несколько минут до 14:30 Эллисон закончил свое выступление и передал дело присяжным, которые немедленно удалились, чтобы приступить к обсуждению. Через 20 минут они вернулись с вердиктом, признав Антона Пробста виновным в убийстве первой степени[130].
Вынесение приговора было назначено на вторник. Пробста вывели из здания, где, как сообщала газета Philadelphia Inquirer, «для поддержания порядка находились 200 полицейских». Хотя разъяренная толпа подняла большой рев при виде Пробста, «никаких попыток совершить самосуд не было». Его погрузили в тюремный фургон и увезли. «Никогда еще в истории нашего города, – писала газета, – не было подобного народного негодования, направленного против какого-либо преступника… однако крайняя жестокость преступления и дьявольские обстоятельства его совершения, похоже, полностью убедили всех наших граждан в том, что есть люди настолько испорченные, что единственный способ восстановить справедливость – это поскорее отправить их к ответу за их грехи на Небесном суде»[131].




