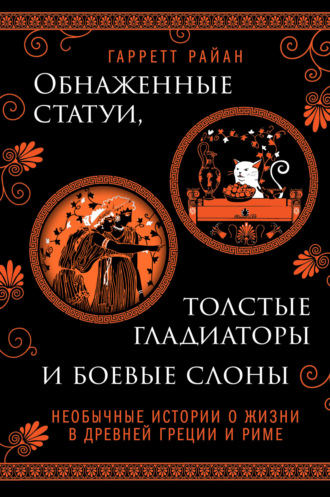
Гарретт Райан
Обнаженные статуи, толстые гладиаторы и боевые слоны. Необычные истории о жизни в Древней Греции и Риме
Часть II
Общество
9
Какой была продолжительность жизни?
Философу Хрисиппу было семьдесят три, когда он умер от смеха. Младший сын римского политика Катона Старшего родился, когда тому исполнилось восемьдесят. Эллинистический царь Антигон Одноглазый пал в бою в восемьдесят один год. Софокл, как говорят, умер от счастья и (или) подавился виноградом в девяностолетнем возрасте. Историк Иероним дожил до 104 лет, оставаясь, как уверяют, неутомимым любовником. Трагический поэт Алексий, принимая награду за свою последнюю пьесу, упал замертво на сцене в возрасте 106 лет. Нет сомнений, что некоторые греки и римляне доживали до глубокой старости, но столь же очевидно, что таких людей было мало[140].
Большинство греков и римлян уходили из жизни молодыми. Около половины всех детей умирали, так и не став подростками. Те, кто доживал до тридцатилетнего возраста, имели все шансы отпраздновать пятидесяти- или шестидесятилетие. Однако по-настоящему пожилые люди встречались редко[141]. Поскольку многие умирали в детстве, средняя продолжительность жизни, вероятно, составляла от двадцати до тридцати лет[142]. Не похоже, чтобы этот показатель со временем менялся, поскольку основные причины смерти оставались прежними: антисанитария, недоедание и болезни[143].
Древние врачи предполагали, что болезни возникают из-за неких сочетаний погодных изменений, поднимающихся из болот испарений, дисбаланса тканевых жидкостей, а также божественного возмездия. Медики понимали, что некоторые заболевания заразны, и смутно подозревали, что в воздухе живут микроскопические существа, переносящие болезни, однако так и не разработали даже подобия микробной теории. Соответственно, они оказались не готовы к профилактике и лечению болезней.

Пожилой римлянин. Портретный бюст I века, хранящийся в Метрополитен-музее. Является общественным достоянием
Античные греки страдали (среди прочих болезней) от свинки, малярии, дифтерии, дизентерии, полиомиелита, гепатита, туберкулеза и брюшного тифа. Кроме того, римлянам пришлось столкнуться с проказой, которая была завезена из Египта в эпоху Августа; бубонной чумой, начавшей распространяться по восточным провинциям примерно в то же время[144]; и оспой, впервые забравшей множество жизней в период правления Марка Аврелия. Столетие спустя внезапно появилась загадочная Киприанова чума, являвшаяся, возможно, разновидностью лихорадки Эбола, – она убила десятки тысяч людей и исчезла. При обычных обстоятельствах самыми распространенными смертельными болезнями у взрослых греков и римлян были, вероятно, брюшной тиф, туберкулез и (в низменных районах) малярия. Среди детей еще более смертоносными оказались дизентерия и другие желудочно-кишечные заболевания[145].
Рассадниками инфекции становились города, особенно крупные. Перенаселенная метрополия Рима, где вовсю хозяйничала малярия, представляла собой, возможно, самое нездоровое место в целой империи, поскольку там требовался постоянный приток иммигрантов для поддержания численности населения[146]. Сельская местность считалась сравнительно безопасной, особенно районы, приподнятые над малярийными болотами. Один римский сенатор в своих письмах отмечал исключительное долголетие людей, живших на холмах вокруг его виллы, хотя и предполагал, что причиной тому были приятные горные бризы[147].
Несмотря на сокрушительный урон от болезней, численность населения Средиземноморья медленно, но неуклонно росла примерно с X века до нашей эры до II века нашей эры. Такой рост возможен только благодаря стабильно высокой рождаемости: на протяжении всей истории Греции и Рима женщины производили на свет в среднем пять или шесть детей (из которых до взрослого возраста доживали два или три).
Конечно, в периоды войн или голода население регионов сокращалось, но общая тенденция была восходящей.
Как и продолжительность жизни, фактическую численность населения в конкретном месте и в определенный момент можно посчитать лишь приблизительно. На территории античных Афин (по размеру примерно с Род-Айленд или Люксембург), вероятно, проживали около трехсот тысяч человек. Считается, что во времена правления Августа Римская империя, простиравшаяся по всему Средиземноморью, насчитывала около пятидесяти миллионов жителей. В последующие полтора столетия число подданных империи значительно выросло и, вероятно, в середине II века достигло наивысшего показателя – около шестидесяти миллионов человек, – возможно, составив пятую часть всего человечества.
Однако в периоды между смертоносными эпидемиями демографическая ситуация существенно не менялась: около половины всех детей умирали, не дожив до подросткового возраста, а средняя продолжительность жизни при рождении оставалась на уровне около двадцати лет. Только один из десяти доживал до шестидесяти, и только один из ста имел шансы отпраздновать восьмидесятилетие.
Несмотря на суровую действительность, греки и римляне все еще сохраняли надежду на долгую жизнь. Если не принимать во внимание простую удачу, то считалось, что шанс дожить до старости отчасти зависит от благоприятного климата, а также состояния здоровья. Особо подчеркивалась важность умеренной диеты: один греческий оратор объяснял свое долголетие тем, что никогда не употреблял жирную пищу или крепкие напитки[148]. Также должное отдавали необходимости регулярных физических упражнений. Во многих греческих городах существовали гимнастические залы, полностью или частично предназначенные для пожилых мужчин[149]. В античных Афинах даже проводился ежегодный «конкурс красоты», по результатам которого отбирались физически крепкие старики для участия в религиозной процессии. Считалось, что бодрые прогулки и игры в мяч поддерживают упругость стареющего тела, особенно если добавить к этому энергичный массаж. Один римский сенатор в возрасте 70–80 лет настаивал на пользе ежедневных прогулок нагишом[150].
У греков и римлян в ходу были свои стереотипы, связанные с пожилыми людьми. Например, о стариках говорили, что они медлительны, подозрительны, склонны предаваться воспоминаниям и попросту злобны и раздражительны. Однако такая критика уравновешивалась общим пониманием того, что возраст дает мудрость и пожилые люди достойны уважения[151]. В некоторых местах старики обладали реальным политическим влиянием. В Спарте, например, существовал совет старейшин, куда попадали после шестидесяти лет, он играл важную роль в правительстве. В римском сенате также было принято, чтобы старейшие члены выступали первыми. Римляне же наделяли стариков большой властью в обществе: по крайней мере теоретически, мужчина сохранял абсолютную юридическую власть над детьми и внуками до самой смерти[152].
Представители аристократии могли рассчитывать на что-то вроде современной пенсии. Например, престарелый правитель Диоклетиан после сложения императорских полномочий переехал на надежно защищенную виллу и занялся садоводством. Правда, большинство людей прекращали работать только тогда, когда верх брала физическая немощь. Это могло случиться не только в преклонном возрасте: судя по скелетным останкам, многие мужчины к тридцати годам уже страдали артритом. Тем, кто не мог содержать себя самостоятельно, приходилось полагаться на добрую волю родственников. В противном случае оставались попрошайничество или голодная смерть.
Большинство греков и римлян жили недолго. Однако, как мы уже видели, некоторые все же не вписывались в стандартные демографические рамки. На скромном надгробии римлянки, сохранившемся в нынешнем Ливане, увековечена память некой Руфиллы, «доброй и веселой женщины», прожившей сто лет.
Возможно, Руфилла действительно прожила целый век (древние эпитафии грешат округлениями), и мы можем надеяться, что она действительно была доброй и веселой. Однако за сто лет жизни, вероятно, стала свидетельницей смерти мужа (мужей), всех своих детей, почти всех внуков и половины или даже больше правнуков. Старость в античном мире, должно быть, несла с собой страшное одиночество[153].
10
Какого роста были греки и римляне?
В течение нескольких лет в III веке Римской империей правил гигант по имени Максимин. На огромных пальцах рук он мог носить женский браслет как кольцо, а ноги его были настолько велики, что сапог властителя стал туристической достопримечательностью. Он мог победить семерых мужчин в борцовском поединке, раздробить камни в кулаке и сбить лошадь с ног одним ударом. Если верить свидетельствам потрясенных современников Максимина, его рост превышал восемь футов[154][155].
Некоторые греки и римляне были еще выше. Араб ростом в девять футов участвовал в нескольких римских процессиях, а тела других гигантов были увековечены в камне и выставлены в садах императоров. Римляне также восхищались человеком с низким голосом, чей рост был меньше двух футов, и сплетничали о столь же миниатюрном придворном, женившемся на императорской вольноотпущеннице. Однако наши источники почти ничего не говорят о росте менее выдающихся личностей. Мы знаем, что рост императора Августа был чуть меньше пяти футов семи дюймов (1 м 70 см), но, чтобы казаться выше, он носил обувь на платформе. Говорят, в некоторые периоды новобранцев, поступавших в самые престижные подразделения легионов, принимали только в том случае, если их рост оказывался выше пяти футов восьми дюймов (1 м 72 см), а в идеале – не ниже пяти футов десяти дюймов (1 м 77 см)[156]. Однако чтобы получить представление о росте большинства греков и римлян, нам придется изучить их останки[157].
Скелеты хранят историю всей жизни человека. Зубы рассказывают о питании в детстве и о болезнях. Кости рук свидетельствуют о нагрузках и травмах во время работы. Длинные кости (особенно бедренные) позволяют определить рост. Останки, обнаруженные в эллингах Геркуланума – возможно, самые известные следы людей, живших в период Античности, – показывают, сколько всего могут поведать нам кости.

Император Максимин. Портретный бюст, в настоящее время хранится в Капитолийском музее. Фото Мари-Лан Нгуен, Wikimedia Commons
Как и соседний город Помпеи, Геркуланум был разрушен Везувием в 79 году. Большинству жителей удалось убежать в течение первых нескольких часов после начала извержения, но сотни людей остались, укрывшись в ряду каменных лодочных сараев у гавани. Смерть застала их там посреди ночи, когда над городом пронесся пирокластический поток[158]. Погребенные под шестидесятифутовым (восемнадцатиметровым) слоем вулканических обломков, тела оставались нетронутыми вплоть до наших дней, пока несколько десятилетий назад их не обнаружили. Останки укрывшихся в эллингах дают уникальное представление о жизни в Древнем Риме.

Некоторые из заживо погребенных в лодочных сараях жителей Геркуланума были зажиточными. Пястные кости, принадлежавшие мужчине в возрасте примерно за сорок, не сохранили следов повреждений в результате ручного труда, а плечи и предплечья свидетельствуют о его регулярных тренировках в банях. Другие жертвы были явно бедны, как, например, так называемый Кормчий, чьи кости оказались деформированы из-за недоедания в детском возрасте и в результате постоянной тяжелой работы на протяжении всей жизни. Респектабельную римскую матрону с идеальными зубами, прозванную Дамой с кольцом из-за украшений, которые на ней нашли, обнаружили рядом с двумя женщинами (голова одой из них покоилась в ореоле светлых волос), опознанных археологами как проститутки. На костях одного римского солдата сохранились остатки могучих мышц и боевые шрамы[159].
Одним из самых высоких людей, обнаруженных в эллинге, считают солдата ростом почти пять футов девять дюймов (1 м 75 см), а Кормчий ростом пять футов четыре дюйма (1 м 62 см) – один из самых низкорослых. Рост Дамы с кольцом не превышал пяти футов двух дюймов (1 м 57 см); две женщины, найденные рядом с ней, были пяти футов одного (1 м 54 см) и четырех (1 м 62 см) дюймов. Средний рост мужчин из лодочных сараев составлял пять футов шесть с половиной дюймов (1 м 68 см), а женщин – пять футов один дюйм (1 м 54 см). Эти цифры сопоставимы с данными из соседней Помпеи, где найденные кости свидетельствуют о среднем росте мужчин и женщин в пять футов пять с половиной дюймов (1 м 66 см) и пять футов один дюйм (1 м 54 см). Хотя многие другие жители Италии в римскую эпоху были ниже[160], рост античных греков, похоже, был примерно таким же; недавнее исследование скелетных данных показало, что средний рост мужчин составлял чуть меньше пяти футов семи дюймов (1 м 70 см), а средний рост женщин – пять футов один с половиной дюйма (1 м 56 см)[161].
Северные варвары были значительно выше. Когда, например, войска Юлия Цезаря покатили осадную башню к стенам одного галльского города, его жители с высоты осыпали врагов насмешками, поздравляя с тем, что враги сдвинули с места такую огромную конструкцию, несмотря на собственные крошечные размеры[162]. Разница в росте между средним римским легионером и обычным северянином составляла, вероятно, около двух или трех дюймов (5–7 см) – не драматическая, но все же существенная. Отчасти это объясняется генетикой, но в значительной степени разница связана с питанием. Северяне, особенно аристократы, регулярно употребляли в пищу молочные продукты и красное мясо. Большинству греков и римлян это было недоступно. Когда речь идет о росте, вы – то, что вы не едите[163].
11
Сколько они зарабатывали?
В то время экономические рычаги еще не изобрели, поэтому, когда римский император Диоклетиан и его соратники решили положить конец десятилетиям разбушевавшейся инфляции, их решение оказалось примитивным: контроль цен и ограничение заработной платы под страхом смерти. Согласно указу, рабочие на фермах и погонщики мулов могли получать максимум двадцать пять денариев (плюс питание) в день. Плотник или пекарь – пятьдесят. Художник, расписывающий стены, зарабатывал семьдесят пять, а искусный живописец – вдвое больше. Парикмахеру или банщику позволялось брать только два денария за стрижку или мытье. Однако адвокат мог выторговать себе за ведение дела тысячу. Хотя эти цифры имеют лишь слабое отношение к экономической реальности, они отражают строгую профессиональную иерархию и печальное развитие мира, в котором мало кто зарабатывал намного больше, чем ему требовалось для выживания.
Древняя экономика никогда не держалась полностью на реальных деньгах. В городах и военных лагерях наиболее распространены были монеты, причем в эпоху Римской империи их оборот оказался больше, чем до или после нее. Однако монеты всегда использовались наряду с бартером и кредитом[164]. В античный период самой распространенной из многих греческих монет являлась серебряная афинская драхма. Более крупная тетрадрахма (монета в четыре драхмы) чаще применялась в коммерческих сделках. Для повседневных покупок афиняне обычно использовали оболы – мелкие серебряные монеты достоинством в одну шестую часть драхмы[165]. На заре императорской эпохи самой ценной римской монетой считался золотой ауреус, которым выплачивали специальные премии солдатам. Каждый ауреус стоил двадцать пять серебряных денариев, составлявших реальную финансовую основу. Наконец, каждый денарий был эквивалентен четырем сестерциям – крупным медным монетам, служившим стандартной единицей расчета цен и заработной платы.
В Афинах в IV веке до нашей эры считалось, что для комфортной жизни гражданину и его семье необходим ежедневный доход в размере трех оболов (половина драхмы) – примерно 180 драхм в год[166]. Исходя из тех цен, что нам известны, семье из четырех человек в Риме второго века, вероятно, требовалось около 1,2 тысячи сестерциев для достижения того же уровня[167][168]. Хотя было бы не слишком корректно сопоставлять эти цифры с современной зарплатой среднего класса, более показательным оказалось бы сравнение их с доходами, описанными в исторических источниках.
Почти в самом низу пирамиды доходов, чуть выше рабов, находились неквалифицированные поденщики. В сельской местности этих людей обычно нанимали для помощи в сборе урожая. В городах (особенно в императорском Риме) больше всего их трудилось на крупных строительных объектах. Высоко их работа не оплачивалась нигде. В античных Афинах они обычно зарабатывали около драхмы в день – если вообще удавалось найти место. Заработная плата рабочих в римском мире, похоже, была близка к прожиточному минимуму: труженики в Помпеях получали от одного до четырех сестерциев (плюс еда) ежедневно. Те, кто владел каким-либо ремеслом, могли рассчитывать на большее. Например, во время работ в святилище недалеко от Афин квалифицированные трудяги зарабатывали до двух с половиной драхм в день – на драхму больше, чем их неквалифицированные коллеги. В римском мире ремесленники получали значительно больше рабочих[169]. Эдикт Диоклетиана о ценах, как мы заметили, предполагал, что пекарь будет зарабатывать в два раза больше, чем сельскохозяйственный рабочий, маляр – в три, а художник – в шесть раз больше[170].
В V веке до нашей эры гоплиты – тяжеловооруженные пехотинцы, а также гребцы на афинском флоте получали одну драхму в день – столько же, сколько и неквалифицированный рабочий[171]. С конца I по конец II века нашей эры римским легионерам платили 1,2 тысячи сестерциев в год[172]. Учитывая еще и приличную премию при увольнении (12 тысяч сестерциев), сумма заработанного ставила рядовых солдат примерно на одну ступень с квалифицированными ремесленниками. Офицеры получали гораздо больше. Зарплата обычного центуриона составляла восемнадцать тысяч сестерциев в год, главного центуриона легиона – семьдесят две тысячи, а командующиего генерала – двести тысяч сестерциев в год – столько же, сколько 167 легионеров[173].

Заработки адвокатов периода Античности, как и их нынешних коллег, варьировались от ничтожных до головокружительных. Афиняне, хотя и должны были сами представлять себя в суде, часто платили искусным ораторам за составление речей. По крайней мере, несколько таких авторов получали солидное вознаграждение; один подсудимый пообещал восемнадцать тысяч драхм (столько хватило бы, чтобы кормить сто семей целый год) тем, кто поддержит его во время процесса. Римским юристам запрещалось взимать плату за услуги вплоть до императорской эпохи, и даже когда запрет отменили, их гонорары не должны были превышать десяти тысяч сестерциев (примерно в восемь раз больше годового жалованья легионера). Однако, похоже, всегда существовал обычай благодарить юристов дорогими подарками. Цицерон, например, получил от одного из клиентов «заем» в два миллиона сестерциев, который так и не счел нужным вернуть[174][175].
Большим уважением в Древней Греции пользовались врачи. Их труд, очевидно, оплачивался высоко. Один доктор мог позволить себе пожертвовать шесть тысяч драхм Афинам, а другой, говорят, зарабатывал двенадцать тысяч драхм ежегодно (афинская семья, как вы помните, могла прожить год на 180 драхм). Хотя многие римские врачи были вольноотпущенниками невысокого статуса, некоторые из них баснословно разбогатели. Личный медик императоров Калигулы и Клавдия получал годовое жалованье в пятьсот тысяч сестерциев (столько же, сколько 416 легионеров) – впрочем, он любил напоминать работодателям, что, практикуя частным образом, мог бы заработать гораздо больше. Тут он не лукавил: другой римский знаменитый врач, известный тем, что пропагандировал ледяные ванны, брал с одного пациента двести тысяч сестерциев за лечение[176].
Что касается учителей, то большинство из них тогда, как и сейчас, получали мизерную зарплату. Однако, как и в юриспруденции и медицине, избранные педагоги, обслуживавшие богатых и знаменитых, зарабатывали огромные деньги. Ведущие афинские ораторы брали с учеников за курсы ораторского искусства от тысячи до десяти тысяч драхм – и это в то время, когда большинство людей довольствовались одной-двумя драхмами в день. Профессора риторики в римском мире еще искуснее обводили вокруг пальца родителей-аристократов: рассказывают, что один из них заработал четыреста тысяч сестерциев в год – столько же, сколько 333 легионера[177]. В Риме, Афинах и других крупных городах несколько самых выдающихся преподавателей возглавляли имеющие постоянный доход кафедры риторики и философии, что примерно соответствует постоянной профессорской должности в наше время, и поэтому имели дополнительные зарплаты до ста тысяч сестерциев[178].
Работа актеров в Древних Афинах оплачивалась не очень высоко, в основном потому, что большинство из них были рабами[179]. Однако некоторые из их римских коллег разбогатели не хуже любого знаменитого врача или профессора. Один известный актер-мим зарабатывал двести тысяч сестерциев в год, а великий комик Росций – еще больше. Хотя римским драматургам редко удавалось сколотить состояние на своих сценариях, император Август даровал миллион сестерциев удачливому автору некой трагедии, тепло принятой публикой. Другой император выдал по двести тысяч каждому из пары особенно эмоциональных актеров-лириков. Знаменитым гладиаторам в отставке могли заплатить почти столько же за показательное выступление на арене. Однако самыми богатыми из всех римских артистов считались возницы Большого цирка. Одному из них за долгую и напряженную карьеру удалось выиграть 1462 скачки и почти тридцать шесть миллионов сестерциев. Его призовых хватило бы на выплату годового жалованья почти тридцати тысячам легионеров, а в наши дни он вошел бы в списки миллиардеров[180].
Самые богатые греки и римляне работали сами на себя. И в Афинах, и в Риме идеалом аристократии называли жизнь на государственной службе и культурный досуг, который незаметно поддерживался поступлениями от деятельности крупных поместий. Хотя содержание сельхозугодий не приносило особой прибыли, поскольку доход в среднем составлял шесть процентов в год, в Древнем мире возделываемые земли считались самым надежным и соответствующим высокому статусу капиталовложением. Тем не менее немногие аристократы довольствовались исключительно продажей урожая. Римские магнаты часто инвестировали деньги в городскую недвижимость. Сказочно богатый сенатор Красс владел бригадами рабов, обученных на пожарных и строителей. Всякий раз, когда в Риме вспыхивал пожар, он спешил на место происшествия, покупал горящие здания по бросовой цене, а затем посылал слуг тушить пожар и восстанавливать здания для сдачи в аренду. Предприятия, где трудились рабы, были еще одним излюбленным видом инвестиций элиты: Красс, например, выучил некоторых на писцов, серебряных дел мастеров и официантов для работы по найму. Хотя прямое участие в торговле им запрещалось, аристократы могли торговать через доверенных лиц и подчиненных. Наконец, важным источником дохода, особенно для римской элиты, считались проценты от ссуд. Крупные суммы выдавались в долг по разным ставкам: до 4 % для друзей и до 60 % на рискованные предприятия[181][182].
Так во сколько же оценивалось благосостояние одного процента афинян и римлян? В любой момент античного периода несколько сотен афинян обладали тремя талантами (восемнадцать тысяч драхм) и более. Самое крупное из известных афинских состояний составляло двести талантов (1,2 миллиона драхм) – на эти деньги можно было содержать более 6600 семей в течение года. Правда, даже такая фантастическая сумма меркла на фоне богатства римской элиты. В императорскую эпоху личное состояние сенаторов должно было составлять не менее одного миллиона сестерциев (зарплата 833 легионеров), но большинство из них становились значительно богаче. Цицерон, чей капитал равнялся примерно тринадцати миллионам сестерциев, вероятно, занимал среднее положение в рейтинге сенаторских богачей. Наш приятель – пожарный Красс, один из самых богатых сенаторов – обладал имуществом в двести миллионов. Нам известно о двух римлянах, живших в I веке, чье состояние оценивалось в четыреста миллионов, этого было достаточно для выплаты годового жалованья 330 тысячам легионеров. Великие полководцы поздней Римской республики оказались еще богаче: Помпей после одного из своих триумфов распределил 384 миллиона сестерциев между солдатами и офицерами, а затем подарил государству еще двести миллионов[183].
Самыми богатыми из всех, конечно же, являлись римские императоры. Даже если представить себе разницу между владениями правителей и государственной казной, тот факт, что лично им принадлежал Египет (наряду с сотнями огромных поместий по всей Италии и провинциям), говорит об умопомрачительных масштабах их состояния. Некоторые властители буквально чахли над златом. Калигула любил возлежать на грудах золотых монет, а Нерон однажды свалил в кучу десять миллионов сестерциев, чтобы посмотреть, как это выглядит. За время тринадцатилетнего правления он потратил на одни только подарки невообразимые 2,2 миллиарда сестерциев, что равнялось годовому жалованью более чем 1 833 000 легионеров средней империи[184][185].
Как и невероятно богатые люди в любом месте и в любое время, самые состоятельные греки и римляне подходили к тратам творчески. Римская знать вкладывала огромные суммы в покупку мебели: Цицерон выложил пятьсот тысяч сестерциев за буфет из цитрусового дерева, а один из его друзей спустил вдвое больше на стол. Некоторые предметы антиквариата стоили столь же невообразимо дорого; один разборчивый римлянин заплатил за статуэтку работы греческого мастера миллион сестерциев[186]. Еще большие суммы выкладывались за виллы и дома. Цицерон отдал 3,5 миллиона сестерциев за особняк с видом на Форум, а один из его современников расстался с 15 миллионами за соседнее здание[187]. Всех этих эпатажных покупателей превзошла супруга Калигулы, появившаяся на банкете в изумрудах и жемчугах стоимостью 40 миллионов сестерциев. Однако самая впечатляющая покупка в античной истории произошла полтора века спустя, когда за взятку в 250 миллионов сестерциев был приобретен трон Римской империи. Однако, учитывая, что покупателя через два месяца убили, эту покупку придется считать неудачной инвестицией[188].


