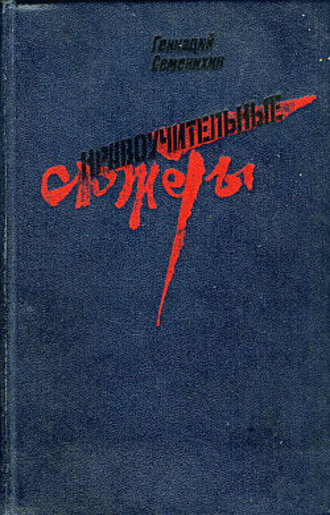
Геннадий Александрович Семенихин
Послесловие к подвигу
16
На конечной остановке Федор вышел из старенького желтого трамвайчика, расписанного готическими буквами. Лозунги призывали немцев любить фюрера, ожидать скорой победы и отдавать все возможное героям Восточного фронта. В этот послеобеденный час погода резко испортилась, над серыми домами и лабиринтами узко сплетающихся улочек висело низкое небо, ронявшее капли дождя. В самом центре городка на чахлой башенке мок облезлый железный петух, видимо относившийся к памятникам старины. Большие часы с заржавелыми стрелками на ратуше медленно отсчитали три удара.
Федор куда глаза глядят брел по центральной части города и думал: «Черт побери, кажется, мне наконец улыбнулась судьба за долгие месяцы плена. Но ведь если я сделаю это, они же вытопчут мое имя, сотрут всякое воспоминание обо мне в порошок, и никто из моих родных и близких – ни Лина, ни отец с матерью, ни Витька Балашов никогда не узнают о последних минутах жизни майора Красной Армии Федора Васильевича Нырко». Он остановился и сам себя строго спросил: «А для чего тебе это, собственно говоря, нужно? Тщеславие? Стремление, чтобы тебе отгрохали где-нибудь мемориальную доску? – И тотчас же ответил: —Нет. А честь командирская? Разве она не требует, чтобы о тебе, сыне земли советской, все знали? Разве не так? Какое же в этом тщеславие? Ведь если надо, готов я навечно остаться в звании неизвестного солдата. И все-таки как будет тоскливо оттого, что никто из близких тебе людей может никогда не узнать о том, что произойдет скоро. Если бы он имел возможность кому-нибудь довериться! Но разве легко сейчас, когда у немцев уже остыла боль от поражения под Москвой и они готовятся к новому броску на восток, мечтая о выходе на Волгу, найти в этом тыловом городе единомышленника?» Вот на перекрестке стоят два почтенных поседевших чиновника в черных шляпах и черных плащах. У одного зонтик, и он что-то им чертит на асфальте. Зонтик, словно карандаш в руках полководца, намечающего на карте направление главного удара. Жесты у них широкие, уверенные. Они говорят громко, а голоса пропитаны радостью. Задержав шаг, Федор прислушался. Обладатель зонтика гортанным голосом восклицал: «О! Это колоссально! Провидение фюрера – это счастье немецкой нации, Теперь бросок к Волге отрежет юг Советской России от ее центральной части». Его себеседник, видимо далекий от столь высоких категорий, бубнил о посылке, которую ему прислал именно из тех районов племянник Отто. «Сало! – восклицал он. – Роскошное сало. Это нечто необыкновенное». Федор с тоской подумал: «Откройся одному из таких и через пятнадцать минут будешь в гестапо».
А вот быстро шагает, почти бежит, пожилая, очень худая женщина в ветхом пальто с грустным изможденным лицом. В руках корзинка, а в ней, по всей вероятности, скудный паек на большую полуголодную семью, где только старики и дети, потому что молодых сыновей давно уже забрал вермахт, погнал завоевывать жизненное пространство. Поделись с такой, и она в ужасе бросится, не оглядываясь, бежать, лишь бы поскорее исчезнуть из глаз опасного собеседника.
Незаметно для себя Федор свернул с площади, зашагал по гулкой мостовой вниз и оказался на набережной Эльбы. Ветер здесь был сильнее, дул порывами. У причала на вспененной волне покачивались веселенькие лодки и два черных моторных баркаса. Набережная была пустынна, лишь напротив причала стоял в старенькой короткой курточке из водоотталкивающей ткани парнишка лет двенадцати – четырнадцати и грустно глядел на противоположный берег. Нырко на всякий случай огляделся по сторонам, не послал ли за ним полковник Хольц соглядатая. Но на всей набережной не было больше никого. Подошедшему человеку в облачении немецкого офицера парнишка нисколько не удивился.
– Гутен таг, – приветствовал его Федор.
– Таг, – не оборачиваясь, ответил он.
– А почему ты пропустил слово «добрый»? – осведомился летчик.
– А потому что день этот для меня вовсе не добрый. Какой же он добрый, если дома жрать нечего?
– Разве отец перестал тебе посылать с Восточного фронта гостинцы? – язвительно осведомился Федор.
У мальчишки страдальчески искривилось лицо.
– Зачем вы об отце? – испуганно всхлипнул он. – Мой отец ни в чем не виноват. Его оправдали и освободили из концлагеря «Заксенхаузен»… а потом… потом он умер от туберкулеза.
– Прости, – растерялся Нырко, – я не мог и предполагать. Вот, оказывается, как. Мне тебя очень жалко.
Пристально вглядываясь в бедно одетого паренька, Федор с горечью подумал: «Вот ведь какие встречи возможны на фашистской земле. Значит, верно, что не все немцы кричат как оглашенные „хайль Гитлер“, Такому, кажется, можно довериться. Тем более что лучшего варианта может не оказаться».
– Да, парень, судя по всему, ты действительно родным племянником рейхсмаршалу авиации Герингу не доводишься. Да и министру пропаганды Геббельсу тоже. На-ка лучше, прими от меня, – и, порывшись, вынул из кармана три бумажки по десять марок.
– Это мне? – задохнулся от удивления мальчишка.
– Тебе, тебе, – быстро подтвердил Федор, – а теперь внимательно слушай, потому что у нас мало времени. Не исключено, что ты когда-нибудь после войны попадешь в Москву или какой-либо другой русский город, тогда подойти к первому человеку, который покажется тебе заслуживающим доверия, попроси его разыскать летчика Балашова и скажи ему, что майор Нырко ушел из жизни несломленным. У меня один шанс из тысячи, но больше довериться некому. Ты сможешь прийти на это место послезавтра и постоять от двенадцати до часу?
– Смогу, – твердо ответил мальчик.
– И еще одно, – спокойным приказным тоном договорил Нырко. – Сейчас я уйду и в двух шагах от тебя положу на асфальт вот эту трубку. Возьми ее, но не сразу, а минуты через две после моего ухода, и если доведется тебе когда-нибудь увидеть летчика Балашова, передай ему.
17
Два «Мессершмитта-109», окрашенные в грязно-зеленый цвет, стояли на аэродроме рядом. На фюзеляже одного из них был нарисован желтый скрюченный удав, на другом – ничего. Машина с удавом принадлежала оберлейтенанту Золлингу, вторая была закреплена за майором Нырко. Утро было ясное и тихое. После вчерашнего нудного, мелко моросящего дождя небо сияло голубизной, блестки солнца играли на фонарях самолетов, на жгуче-зеленой низкой траве только-только просохли последние капли росы.
Приближаясь к самолетной стоянке, Федор определил, в какую сторону ему придется взлетать. Когда его самолет побежит по широкой бетонированной полосе, синеватый гребешок леса, ограничивающий аэродром с юга, останется слева, а справа будет Эльба и городок, где побывал он вчера. Затем, задержав взгляд на «мессершмиттах», Федор не к месту подумал о том, что на земле они вовсе не кажутся такими тонкими, как на воздухе. Под Москвой, когда он еще был в боевом строю, их называли не иначе, как «худыми», «осами», «тонкими». Под легким летным кобинезоном с многочисленными застежками-«молниями» он чувствовал свое тело упругим, налитым силой. Было легко и спокойно от сознания принятого решения, и если он о чем лишь и жалел, то только том, что полетит на «мессершмитте» без боекомплекта. У коричневого трехэтажного здания, где помещались штабы учебных подразделений, а на самом верхнем этаже командный пункт, на широких бетонных плитах с десяток солдат, вооруженных метлами, наводили чистоту. Красная пожарная машина стояла рядом и должна была, по-видимому, потом полить эти плиты. «Рановато ты приехала, – усмехнулся Федор, – несколько позднее в тебе появится иная необходимость». Федор перебирал в памяти свои воздушные бои. С различным настроением начинал он их на фронте. Иногда спокойно и даже лениво, как бы желая усыпить противника, иногда стремительно, а иной раз и с такой необузданной яростью, что не мог обойтись без досадных, а порою опасных для жизни просчетов. Сейчас им владела тихая спокойная радость и отрешенность от всего окружающего. Он думал теперь только о том, как взлетит, наберет высоту, как сделает первый разворот. По старой привычке планшетку с заложенной под целлулоид картой района полета он не стал надевать через плечо, как это делали летчики, а нес в руке, намотав на ладонь ремешок.
На стоянке озабоченно суетились авиамеханики, а обер-лейтенант Золлинг грозил им красным кулаком.
– Скоты негодные, – выругался он, ответив на приветствие. – Нырко, вы знаете, что произошло?
– Никак нет, – почтительно вытягиваясь, произнес Федор.
– На вашей машине выбивает масло, а они только сейчас спохватились. И это когда до вашего взлета меньше часа осталось! Если узнает об этом командир, разразится страшный скандал и мне несдобровать! Чего доброго, опять на Восточный фронт погонят. Послушайте, Нырко, – просительно заглянул ему в лицо Золлинг, – выручите из беды на этот раз. Я, разумеется, не имею права этого делать, но, как говорится, из двух бед выбирай наименьшую. Слетайте на моем самолете.
Федор даже вздрогнул от волнения. Не сразу взяв себя в руки, спросил:
– Но ведь он же у вас с боекомплектом и, стало быть, тяжелее в пилотировании.
Золлинг взял его за локоть, почтительно отвел в сторону, так, чтобы не слышали механики, заговорил:
– Это верно, что тяжелее, но, мой дорогой Федор, такой ас, как вы, и в этом случае справится с пилотажем. Ведь вы прекрасно знаете, они же умышленно оставляют вашу машину без боекомплекта, все боятся, что вы попытаетесь улизнуть к своим. Чудаки! Куда же отсюда можно улететь на «мессершмитте» с его радиусом действия. Фантастика. – Он внимательно поглядел на притихшего Нырко и, щуря и без того узкие глаза, спросил: – Ну так что? Идет?
– Чего не сделаешь ради дружбы, Вилли! – с напускной ворчливостью произнес Нырко. – По рукам!
– О-ля-ля! – воскликнул торжествующе обер-лейтенант. – Летите, а за мной дело не станет, В знак благодарности выставлю вечером коньяк.
– Нет, Вилли, – возразил с взволнованной приподнятостью Нырко. – Уж если кому и положено сегодня выставлять коньяк, так это мне. Скажу по большому секрету, полковник Хольц сообщил, что мне сегодня после этого праздника присвоят офицерское звание. И знаете что? Меня, возможно, уволокут на какой-нибудь банкет, а чтобы слово свое я сдержал, вот вам марки для расплаты. Закажите бутылку и, если даже меня с вами вечером не будет, выпейте за мое здоровье!
Золлинг с удовольствием принял от Нырко пачку смятых марок и сунул в свой карман. Он посмотрел на солдатские ботинки Федора из эрзац-кожи и, желая быть еще добрее, сказал:
– Между прочим, господин Федор, я узнал от верного человека, что во вторник в нашем магазине для офицеров-летчиков будут продаваться итальянские ботинки из настоящей кожи. Постараюсь добыть и для вас. Говорят, элегантные и такие крепкие, что до самой смерти хватит.
Федор вдруг звонко рассмеялся.
– Спасибо, Вилли, вы настоящий друг. Но мне и этих ботинок до самой смерти хватит.
Обер-лейтенант не успел ничего ответить. Оба увидели, как поперек всего летного поля к ним несется бежевый «мерседес-бенц». Шофер лихо затормозил у самой самолетной стоянки. Распахнулась дверца, из машины молодцевато выпрыгнул высокий худой Хольц в хорошо пригнанной парадной форме, Дружески схватил майора Нырко за плечи и крепко встряхнул:
– Я рад, что у вас такой чудесный бравый вид, господин Нырко. Надеюсь, что с завтрашнего дня я буду говорить вам уже не господин Нырко, а капитан Нырко. Высокие гости уже прибыли. Вы видели, как заполнена трибуна?
Федор обратил свой взгляд на здание штаба, увидел, как развевается над тентом большой флаг со свастикой, как в белых халатиках снуют официанты с подносами, на которых бутылки с лимонадом и пивом, увидел густо заполненные ряды скамеек, потом опустил глаза ниже, отметил с десяток синих, коричневых и черных «оппелей», «хорхов» и «мерседесов» у входа в штаб, замерших на тех самых бетонных плитах, с которых совсем недавно фашистские солдаты сметали пыль.
– Вижу, – ответил он громко.
– Вот и хорошо, – отозвался Хольц. – Я надеюсь, вы покажете сегодня пилотаж, достойныйтакого аса, как вы!
– Покажу, дорогой Вернер, – фамильярно произнес Нырко. Хольц внимательно вгляделся в его успевшее загореть лицо, остался доволен сверкающими глазами, А Федор закончил: – Обязательно покажу самый лучший пилотаж в своей жизни. А вечером выпьем коньяк по этому поводу!
Вернер прикоснулся пальцами к козырьку своей форменной фуражки с высокой тульей, так, словно это была шляпа.
– О! – воскликнул он одобрительно. – Я вижу, в вас опять просыпается настоящий эпикуреец. Имейте в виду, выруливаете после второй зеленой ракеты, взлет после третьей. Все команды, разумеется, будут продублированы и по радио. Желаю успеха! Хайль фюрер! – И он высоко выбросил вперед правую руку.
– Хайль фюрер! – первый раз в своей жизни гаркнул майор Нырко и тоже выбросил вперед правую руку. Хлопнула бежевая дверца, и «мерседес» умчался.
18
Тонкий винт «мессершмитта» на малых оборотах молотил синеватый воздух. С конца взлетной полосы Нырко тревожно поглядывал на трибуну, заполненную приехавшими на праздник средними и высокими чинами фашистских люфтваффе. Все происходило по плану. Уже взметнулись над летным полем и рассыпались в вышине две сигнальные ракеты, после которых надо было выруливать на старт. Сейчас он ожидал третью, но ожидал беспокойно, ощущая, как нарастает волнение. «Летчики самые наблюдательные люди, – думал Нырко. – Черт бы побрал этого тупицу Золлинга, который, чтобы хоть чем-нибудь походить на подлинного аса, нарисовал на фюзеляже своего самолета этого рахитика-питона. Все знают, что на моей машине его нет. Вот и выходит – с одной стороны, такой неожиданный подарок в виде „мессершмитта“ с боекомплектом, а с другой – опасность, что эту подмену обнаружат и немедленно прикажут прекратить взлет». От сильного напряжения пот выступил на загорелом обветренном его лбу. Минутная стрелка на циферблате самолетных часов будто бы омертвела. Без трех минут десять, без двух и вот, наконец, без одной. Вздох облегчения приподнял под брезентовыми привязными ремнями его широкие плечи.
– Ахтунг, ахтунг, – услышал он в наушниках и увидел, что третья, последняя из всех сигнальных ракет разорвалась над этой чужой для него землей, которую он, простой открытый парень Федор Нырко, рожденный русской матерью и воспитанный далекой отсюда Советской Россией, мечтал теперь поскорее покинуть. Плиты взлетной полосы все быстрее и быстрее помчались навстречу и уже слились в единую серую ленту, бросившуюся под покрышки самолетного шасси, и даже тонкий звон чужого мотора показался ему в эти мгновения предвестником избавления. Сделав первый разворот, он заложил крутой вираж и повел машину над сверкающей от солнца поверхностью Эльбы, глазами отыскивая то место на набережной, куда обещал прийти вчерашний парень. Увидев его зябкую одинокую фигурку, Нырко покачал свою машину с крыла на крыло и помахал, приветствуя рукой в кожаной краге. Потом, сделав новый разворот, опять промчался над парнем и набрал высоту как раз в тот момент, когда вдалеке от него, но точно на линии маршрута распылились три зенитных разрыва. И сразу же в наушниках он услышал суровый повелительный голос, назвавший позывной его самолета:
– Немедленно прекратить полет. Немедленно на посадку! – потребовал невидимый отсюда руководитель полетов, и Федор удивился тому спокойствию, с каким он отметил: «Значит, обнаружили подмену машин и станут сейчас охотиться».
Чтобы выиграть хотя бы какое-то время, он с подчеркнутой исполнительностью ответил по передатчику:
– Вас понял. Команду выполняю. «Мессершмитт» с желтым скрюченным питоном на борту стремительно набрал высоту, но, вместо того чтобы зайти на полосу, метнулся в сторону леса, снизился над самыми верхушками темных остроголовых елей и поперек аэродрома на бреющем ринулся точно к трибуне, заполненной гостями. В смотровом стекле, расчерченном сеткой прицела, Федор видел фантастически быстро вырастающие очертания верхнего этажа и сооруженной над ним трибуны, фашистский флаг, полоскавшийся на ветру, фигурки оцепеневших людей, еще не верящих в случившееся. На той дистанции, что считалась наилучшей для поражения наземных целей с «Мессершмитта-109», он нажал на гашетки, и желтые трассы бичами ударили по трибуне, сметая на своем пути все живое. Вспыхнул легкий матерчатый тент, и охваченная паникой толпа оказалась как бы раздетой. Коротки мгновения атаки, но и тогда успевает врезаться в память раз и навсегда картина разгрома. Федор увидел, как падают одни и в ужасе мечутся по крыше штаба другие, за ревом мотора он не смог только услышать стоны и крики. Чуть потянув на себя ручку, он словно бы перепрыгнул здание и снова развернулся для атаки. Голубое небо было уже густо запятнано разрывами, но поразить его самолет на высоте бреющего полета было не так просто. Радиостанция еще работала, в наушниках потрескивал эфир. Ни страха, ни оцепенения Федор не ощущал, одну только захватывающую радость атаки, рождавшуюся, когда летчик был в состоянии видеть ее разрушительные последствия.
– Слушайте все радиостанции мира! – закричал Федор. – Я первый летчик Страны Советов, который бьет фашистов в их глубоком тылу на их территории!
Снова верхний этаж штабного здания стремительно набегал на нос, и видел теперь Федор упавший вниз тент, сбитый его снарядами фашистский флаг и между поваленными скамейками бессильно распростертые тела. И он еще раз ударил из всех огневых точек по тем, кто остался в живых. Бил до тех пор, пока не оборвались трассы. Набирая высоту, проносясь через целый клубок зенитных разрывов, Федор понял, что боеприпасов уже нет и осталось последнее, то, ради чего затевал он весь этот полет. Километрах в двух от здания штаба, на восточной окраине аэродрома, заваленного сломанными ветками хвои, возвышалось над землей приземистое здание бомбового склада. Федор выровнял на высоте «мессершмитт» и, совместив нос с центром бетонного колпака бомбохранилища, отдал ручку от себя. Он пикировал с самым крутым углом. Ветер свистел за фонарем кабины, словно прощался навсегда с летчиком. Близкий разрыв зенитного снаряда встряхнул машину, вздыбил обшивку на правом крыле, и тотчас же побежали по нему ровные султанчики огня. «Апофеоз борьбы – это самопожертвование! – подумал Федор. – Меня никто не осудит. Я ухожу с чистой душой и незапятнанной совестью!»
Хвост огня и дыма широким конусом тянулся за его истребителем. «Это меня зажгло, – устало прошептал майор пересохшими губами. – Впрочем, быть может, это и лучше, ведь бомбы наверняка взорвутся, если я упаду на них таким факелом».
Контуры леса, казавшиеся с высоты не так уж широко очерченными, все расширялись и расширялись, щетинились острыми верхушками сосен и елей. Оцепеневшие от напряжения глаза Федора отчетливо видели теперь каждую тропку и маленькие фигурки часовых, торопливо разбегавшихся от входа. Пальцы майора Нырко все сильнее и сильнее сжимали рукоятку ручки управления, будто в это усилие стремились вложить все нервное напряжение и всю отчаянную решимость летчика. Неожиданно белый столб пламени, чистого, ясного, встал перед глазами Федора, и он подумал: неужели такая бывает смерть. Из белого пламени явственно надвинулось на него широкое лицо интенданта Птицына с решительно сомкнутыми бровями и донесся его суровый голос: «Бейте фашистов, Федор Васильевич, едят меня мухи с комарами!»
Погибший Сережа Плотников и живой Виктор Балашов стояли в обнимку и, печально кивая головами, произносили вместе: «Ты молодец, Федор, надо только так!»
Мать держалась обеими руками за острые доски частокола, боясь от горя упасть, всеми силами боролась с рыданиями.
«Ты иначе не мог, сыночек! Ты всегда до конца был честным!» – шептала она.
Потом он увидел Лину, ее сведенные болью и ожесточением глаза, и в них тоже ни единой слезинки. Голос ее был таким же мягким и нежным, как и тогда, когда она говорила о любви.
«Правильно, Федя!» – шепотом произнесла она, и белый свет внезапно погас.
Оглушительного взрыва, потрясшего землю на десятки километров окрест, бывший командир сорок третьего истребительного авиационного полка, майор Федор Васильевич Нырко так и не услыхал…







