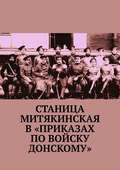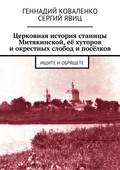Геннадий Коваленко
Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района. Книга 2
После чего Чернецов приказал своим бойцам сдать оружие. Сдавшихся партизан-карателей стали ночью конвоировать в Каменск. Чернецову, как раненому была выделена лошадь. Подтёлков и Голубов при этом ускакали в станицу Каменскую, запретив конвоирам заниматься самосудом. Ночью, Чернецов и его люди попытались бежать. Опять же, предоставим слово очевидцу – Н. Я. Жданову:
«Чернецов нагнулся с коня и что-то шепнул идущим вблизи партизанам. Когда ЖД эшелон поравнялся с партизанами, Чернецов, ударив одного из своих конвоиров кулаком в лицо, громко закричал: „Ура, партизаны!…“ Все партизаны с криками бросились на конвой, одни хватали коней за уздечки, другие за стремена, старясь стащить всадника, третьи швыряли грязью в лицо конвоирам. Конвой растерялся и, очевидно, предполагая, что эшелон может быть партизанским, мотнулся в сторону. Партизаны тоже бросились во все стороны, некоторые бросились бежать к поезду, но из вагонов по ним начали стрелять. Получилось так, как будто Чернецов скомандовал: „спасайся, кто может!…“ По-видимому, он, отлично зная, что это был поезд с красными, воспользовался случаем, чтобы попытаться спасти хоть часть партизан от самосуда. Терять было нечего… Опомнившийся конвой бросился за разбежавшимися партизанами. Часть их была прикончена. Куда поскакал Чернецов и что с ним стало, никто из уцелевших и позже добравшихся до Каменской, сказать не мог».
В ходе ночного преследования, Чернецов был убит Пантелем Пузановым, казаком хутора Свинарёва, двоюродным братом упомянутого выше Н. Я. Жданова. Правда, он утверждал, что указанный хутор принадлежал Митякинской станице, но в юрте ст. Митякинской нет такого хутора. Хутор Свинарёв есть в юрте ст. Усть-Белокалитвенской. Хотя возможно речь идёт о небольшом хуторе ст. Митякинской в несколько дворов, исчезнувшем с лица земли в годы Гражданской войны. Кстати, Пантелей Пузанов, убивший Чернецова, принадлежал к богатой казачьей семье. Н. Я. Жданов так описывает этот инцидент:
«Когда Голубов и Подтелков, увидав приближающийся эшелон и, поговорив между собой, поскакали к Каменской, то Подтелков, именно Подтелков, а не Голубов, сказал: «Пузанов, останетесь за старшего, ведите их на церковную площадь и там нас ожидайте, вся ответственность на вас…». Пузанов был в прекрасном офицерском полушубке, с плечевыми ремнями, как во время войны носили офицеры, на боку наган, на прекрасном коне, с винтовкой. Когда партизаны после окрика Чернецова бросились разбегаться, то Пузанову, как старшему, был нужен главным образом Чернецов, а не партизаны, и он бросился за ним и быстро догнал его, приблизительно в 200-ах саженях от места, откуда начали разбегаться партизаны. Пешком от конвоя партизанам удирать было легче: при надобности можно было лечь в пахоту, а темнота была такая, что конный, проехав рядом, все равно ничего бы не увидел, лишь бы конь не наступил. Чернецов же был на коне, который шлепал по грязи и по этим шлепкам Пузанов и догнал Чернецова. Догнав, рубанул его шашкой. Чернецов упал с коня. Пузанов остановился и, смутно видя, что Чернецов еще шевелится, соскочил с коня и, не желая производить шум выстрелом, ударил стволом винтовки в глаз. А затем, захватив коня, отвел его своему отцу, не осмотрев карманы и не взяв документы убитого».
Подробности о всём случившемся с Чернецовым, можно найти во втором донесении генерал-майора Усачёва, которое точной даты не имеет:
«Походному атаману. Отходя от Глубокой 21 января, около 15 ч., полковник Чернецов с 30 дружинниками был захвачен казачьими частями 27-го полка, 44-го и Атаманского под командой войскового старшины Голубова Николая. Полковник Чернецов ранен в ногу. Войсковой старшина Голубов прислал ко мне делегацию с просьбой прекратить кровопролитие, гарантируя жизнь полковнику Чернецову и дружинникам. Я посылаю делегацию с ультиматумом немедленно освободить пленных. Действия с моей стороны пока прекращены. Усачев».
Через делегацию, упоминаемую в предшествующем донесении, генерал Усачев обратился к командиру полка и полковому комитету 27-го полка. Командиру полка генерал писал:
«Полковнику Седову, 1918 г., 21 января (22 ч.), Каменская. Прошу вас употребить все усилия озаботиться о полковнике Чернецове и его людях, предоставив им медицинскую помощь, продовольствие и койки. Я надеюсь, что он немедленно будет доставлен вами в спокойном вагоне на ст. Каменскую. Прошу сообщить казакам, что против казаков никто не помышляет вести войну. Правительство просит казаков отрешиться от наветов большевиков и защитить Дон, который сам хочет устраивать жизнь без помощи посторонних. Генерал-майор Усачев».
В том же роде было обращение и к полковому комитету 27-го полка:
«Полковому комитету 27-го казачьего полка, 1918 г., 21 января, 23 ч., Каменская: Прошу вас, как казаков, приложить все усилия озаботиться о казаке полковнике Чернецове и его людях, предоставив медицинскую помощь, продовольствие, покой. Я надеюсь, что он немедленно будет доставлен в спокойном вагоне на ст. Каменскую.
Прошу сообщить казакам, что против казаков никто и не помышлял войну. Правительство просит казаков отрешиться от наветов большевиков и защитить Дон, который сам хочет устраивать свою жизнь без помощи посторонних, красногвардейцев. Ввиду появления казаков на ст. Глубокая, – я прекращаю действия, но прошу казаков занять Глубокую и обеспечить ее от захвата красногвардейцами. Генерал-майор Усачев».
В тот же день, 21 января, генерал Усачев сделал в штабе походного атамана третье сообщение. В «полевой книжке» имеется выдержка из «разговора со штабом походного атамана от 21 января, в 24 ч.». «Разговор» велся с дежурным офицером прапорщиком Терезниковым, по-видимому, по железнодорожному телефону. В выдержке находим новые детали о катастрофе с Чернецовым:
«Полковник Чернецов с 120 человек предпринял обход с севера на ст. Глубокую, чтобы захватить эту станцию, и задача почти увенчалась успехом, но, благодаря подошедшим подкреплениям большевиков со стороны Миллерово, стал отходить в направлении на х. Гусев и Каменскую и, не доходя 7 верст до Каменской, был окружен конными частями, указанными в телеграмме, под командою В. С. Голубова. Произошел бой, и полковник Чернецов был захвачен раненным с 30 дружинниками в плен, а остальные дружинники были частью убиты, частью рассеяны; оставшиеся присоединяются к ст. Каменской. Пока еще не установлено, сколько таковых. А остальные дружинники находятся в ст. Каменской, которые с утра защищали ст. Каменскую, а двинутый отряд полк. Чернецова под командою есаула Лазарева был двинут по железной дороге на Глубокую, результатом чего ко мне явилась делегация и принесла записку за подписями полк. Чернецова и войскового старшины Голубова следующего содержания».
Последнее письмо Чернецова. Написано оно карандашом, беспорядочно, торопливо на листке, вырванном из записной книжки:
«1918 г., 21 января, я, Чернецов, вместе с отрядом взят в плен. Во избежание совершенно ненужного кровопролития, прошу вас не наступать. От самосуда мы гарантированы словом всего отряда и войскового старшины Голубова. Полковник Чернецов».
Под подписью Чернецова имеется и подпись Голубова, сделанная характерным мелким почерком Голубова:
«Войсковой старшина Н. Голубов, 1918 г., 21 января».
С запиской Чернецова к генералу Усачеву приезжал в качестве делегата урядник Выряков 27-го полка. Делегация, посланная генералом Усачевым, придя на станцию Глубокую, никого не застала. Казаки с Голубовым ушли на Миллерово, а Глубокая занята была партизанским отрядом полковника Миронова. Обращение генерала Усачева к полковнику Седову и полковому комитету не были доставлены по адресу».
В одном из своих последних приказов разгневанный Каледин назвал разгром отряда Чернецова мятежом. «Наши казачьи полки, – заявил атаман в крайнем раздражении, – подняли мятеж и в союзе с вторгнувшимися в Донецкий округ бандами Красной гвардии и солдатами напали на отряд полковника Чернецова, направленный против красноармейцев, и частью его уничтожили, после чего большинство полков, участников этого подлого и гнусного дела рассеялись по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущество» (журн. «Донская летопись», 1923, №2, с. 156).
После этого отряд Н. М. Голубова в составе 10 и 27 ДКП начал наступление на Новочеркасск, практически не встречая сопротивления. Войсковой атаман А. Н. Каледин сложил с себя полномочия и, не видя смысла в дальнейшей борьбе, застрелился. В эти дни трагически закончилась жизнь бывшего командира 10 ДКП Фарафонова. Группа казаков 10 полка, в числе которых были казаки, неоднократно получавшие взыскания от командира полка, встретив его на улице станицы Каменской, повздорили с ним. В ходе и во время ссоры застрелили полковника Фарафонова.
На следующий день после занятия казаками фронтовиками Новочеркасска, в него вошли отряды красной гвардии и матросов, которые начали аресты и расстрелы офицеров. Но, как писал очевидец: «он (город) потерял много больше, если бы жители и их дома не находили защиту у голубовцев».
Казаки 10 и 27 полка не дали большевикам расстрелять офицеров содержащихся на гауптвахте. Были убиты только взятые в первый день атаман Назаров и шесть бывших с ним генералов и штаб-офицеров. После чего казаки вывели на улицы города усиленные патрули и прекратили бесчинства в городе. Через несколько дней отряды красной гвардии покинули город.
Впоследствии, когда 10 (23) марта в Новочеркасске председатель Исполкома Медведев и «Совет пяти» решили начать новую компанию по ликвидации офицеров и объявили их регистрацию. Казаки 6-го пешего батальона, 10-го Донского и частично 27-го Донского полков и вся артиллерия голубовского отряда, которые, кстати сказать, скрывали в своих рядах многих офицеров и партизан, потребовали прекратить регистрацию. Поскольку власти медлили с ответом, казаки навели на здание Исполкома заряженные орудия. Наиболее одиозные фигуры из числа новочеркасских большевиков вообще покинули город. Отныне власть в Новочеркасске трудно было назвать «советской».

Атаман Назаров А. М.
Однако вскоре, в результате необдуманных действий ВРК Донской области и их предвзятого отношения к казакам, большая часть их отшатнулась от советской власти и поддержала белое движение. В результате чего было сформировано несколько казачьих полков из казаков станиц Гундоровской, Луганской и Митякинской и был образован Гундоровско-Митякинский оборонительный район. Начальником обороны Гундоровско-Митякинского района был назначен войсковой старшина Адриан Гусельщиков, с 4 апреля по 26 мая 1918 года. Впоследствии он стал командиром Гундоровского Георгиевского полка, с 26 мая по 1 октября 1918 года. Но всё это было впереди.
Одним из первых очагов сопротивления в Митякинском юрте советской власти был в районе Тарасовкие. В районе хутора Атаманского, Митякинской станицы восставших казаков возглавил сотник Т. Д. Попов, чей отряд дислоцировался в балке Моховатка. Чтобы вооружить своих казаков, сотник Попов разоружает три рудника, лежащие в юрте Гундоровской станицы. В его руках оказалось 140 винтовок и 3000 патронов. Данное оружие было роздано казакам своего отряда. После чего отряд начал вести борьбу против Советов. Вскоре, восставшие казаки Попова, узнав о готовящемся восстании в Гундоровской подходят утром 16 апреля 1918 года к станице Гундоровской и присоединяются к гундоровцам.
(см. Дело Рудакова Н. И. №202 74. НКВД. 1937 год).
18 марта 1918 года в ст. Луганской вспыхивает восстание казаков, недовольных советской властью. Впрочем это выступление обошлось без большой крови, были ликвидированы только органы советской власти.
А 23 марта красные захватили Ростов, и на Дону была провозглашена Донская Советская республика. Вскоре в станице Митякинской атаманское правление было отменено. А символом советской власти, в станице, становится Совет. По всех хуторах Митякинской станицы начались обыски, аресты и расстрелы участников белого движения. По крайней мере так указывается в воспоминаниях митякинцев.
Были арестованы и расстреляны Волокитин Алексей Александрович, как бывший царский офицер, Удовенко (Вдовенко) С. В., Фильчуков Николай Сергеевич, Макеев Илья из хутора Н. Дубы, а так же Миронов П. Я.
К принудительным работам сроком на три года был приговорён Изварин Николай Николаевич из хутора Плотина, Митякинской станицы. После зачисток и расстрелов начался передел казачьих земель в нашем крае. Это сразу же опять затрагивает интересы казачества станицы и её хуторов. что вызывает резкое недовольство казаков.
В апреле 1918 года в Луганск был отправлен поезд с очередной партией задержанных белоказаков и кадетов, активно выступавших против новой власти. Среди них находились известные вожди контрреволюции: генерал Краснянский, полковник Секретев, кадет Коваленко, 34 офицера Марковского полка и другие.
Таких сторонников белого движения красногвардейцы в станице Каменской задерживали часто и после допроса группами направляли в распоряжение Донревкома. Вскоре, однако, стало известно, что Ростовский ВРК, даже не расследовав причин ареста, отпускает их на все четыре стороны. Когда об этом узнали в Каменском ВРК, вновь арестовав прежде уже задержанных белогвардейцев, в Ростов была отправлена телеграмма с требованием разъяснений. На что Ростовский ревком ответил путаным, туманным письмом «о нежелании искусственно обострять отношения в среде казачества и нарушать казачье братство».
Отправлять арестованных в Ростов теперь не имело смысла, и по решению командования их стали препровождать поездами в Луганск. Там имелась крепкая партийная организация во главе с К. Е. Ворошиловым, сильный отряд Красной гвардии из рабочих шахтеров.
Когда состав с арестованными белогвардейцами миновал железнодорожный мост, неожиданно раздался сильный взрыв. Напуганные взрывом на полотне (который кстати, никакого вреда рельсам не причинил), неопытные бойцы открыли беспорядочную стрельбу. В суматохе генералу Краснянскому удалось через окно вагона выпрыгнуть и скрыться. Зарослями, оврагами добрался он до станиц Михайловской, Гундоровской и сразу же приступил к организации отряда для освобождения остальных орестованных.
Белоказаки, предупрежденные заранее о движении эшелона, еще раз организовали налет на него в районе между станциями Ольховка и Луганск, на станции Кондрашевская разобрали полотно, захватили охрану. Восставшие освободили арестованных и те быстро разошлись по близлежащим хуторам и станицам. Красногвардейцев же обезоружили и заперли в сарай. Сутки не давали ни воды, ни хлеба.
В одной из своих работ, луганский краевед Владимир Федичев приводит выдержку из доклада полковника Янова Г. П. в войсковой штаб, где описывается отот эпизод другой стороны противостояния: «Казаки станицы Луганской первые на Дону подняли антибольшевистское восстание и свергли у себя советскую власть. 8 марта 1918 года, в районе Кондрашевской платформы они разобрал ж.д. путь в сторону Луганска на 4—5 км., остановили большевистский поезд и отбили 34 арестованных офицеров, которых красные этапировали в луганскую ЧЕКа. Казаки атаковали поезд, вооружившись припрятанным оружием, было слышно как работал пулемёт. Освобождённых офицеров с заботой расселили в самой станице и х. Валуйском. Привезли и тела убитых в том бою, это были местные казаки Зенцев Иаким Иванович (60 лет), Титов Иван Родионович (34 года) и сотник 10-го Донского казачьего полка Михайлов Иван Иванович (по др. сведениям-хорунжий 24-го ДКП). Среди освобождённых офицеров были: полный Георгиевский кавалер, сотник Брыков Александр Иванович, хорунжий Лесников Андрей Иванович, известный генерал Секретев А. С.. С этого момента казачье восстание прокатилось цепочкой по станицам Донецкого округа, Хомутовской, Суворовской станицам и приняло организованный вид».
Как только эта весть дошла достаницы Каменской, командование сразу же выслало вооруженный отряд и бронеавтомобиль. Подойдя к станице Луганской и окружив ее, командир послал ультиматум мятежникам. «Если не выдадите живыми всех красногвардейцев и освобожденных белогвардейцев – снесем станицу с лица земли. Срок – один час».
Казаки луганцы особо не горели желанием воевать. Поэтому наиболее дальновидные старики-бородачи на всякий случай решили белогвардейцев пока не отпускать. Их кормили, поили, но все же… посадили под замок.
Получив ультиматум, казаки после долгих споров освободили красногвардейцев и тут же попросили себе помилования «за задержку контрреволюционеров». Арестованных офицеров и кадетов снова посадили в вагоны и отправили в Луганск. Правда, полковнику Секретеву удалось сбежать. И он впоследствии стал одним из руководителей мятежа на Дону.
Были среди восставших митякинцы? С большой долей вероятности можно утверждать – были, но кто и в каком количестве это на сегодняшний день не известно. Документы этого восстания хранятся в где-то в украинских архивах.
В станице Митякинской скрывалось около 100 офицеров из Марковского полка. Только 9 апреля, регулярным частям Красной армии, восстание удалось подавить. Все, кто был арестован, были отправлены в город Луганск и по пути следования, в поле, все были убиты. (А. В. Венков. История Донского казачества. Ростов-на-Дону. 2001г.).
Но этим данным противоречат воспоминания офицера-марковца В. Е. Павлова. Приведём здесь отрывок из книги Павлова В. Е. «Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917—1920 годов». Т. 1. Париж, 1962 Г., о событиях в ст. Митякинской. Из них следует, что в ст. Митякинской, восстания как такового не было, как и его подавления. В многотысячную станицу вошел крохотный отряд матросов в 40 человек, которому ни кто не оказал ни какого сопротивления.
«Станица Митякинская. Большевистская власть в ней еще не пустила глубокие корни. Сорок офицеров, помимо казачьих, осторожно встречаются и обсуждают свое положение. Просвета не видно. Проходят недели… Уже апрель. Вдруг слух: наступают немцы. Больно защемило сердце: результат революции налицо. И вот в эти дни тяжелых переживаний в руки офицеров попадает обращение к русским людям, призывающее их вступить в русский отряд для борьбы за Родину против всех ее врагов. Подписано обращение «Полковник Дроздовский». Откуда оно взялось? Где этот отряд? – никто не знал. Собравшиеся офицеры, прочитав обращение, похмурились и разошлись, не приняв решения. Лишь двое: поручик Незнамов и прапорщик Зверев решили узнать, где этот таинственный отряд, и присоединиться к нему.
Немцы уже близко. Большевистские комиссары оставили станицу. Положение между двух огней: «внешним» и «внутренним» врагами. Казаки решили дать отпор большевикам, если те вернутся в станицу. 40 офицеров присоединились к казакам. В соседней станице Луганской то же решение. Там было до 100 офицеров—неказаков. Но никакого отпора большевикам дано не было. Когда к станице Митякинской подошел отряд матросов в 40 человек с двумя пулеметами, то штабс—капитан, старший среди офицеров—неказаков, увидев, что казаки вдруг отказались оказать сопротивление, решил «сдаться народной власти». Он и несколько офицеров сдались и были взяты с собой матросами, а остальные укрылись в станице.
Где-то стороной прошли немцы, а дня через два в станицу дошел слух: отряд полковника Дроздовского в Ростове, донцы подняли восстание против большевиков… Поручик Незнамов и прапорщик Зверев решают идти искать отряд: для них одинаково неприемлемы и немцы, и большевики. На их предложение присоединиться к ним из офицеров никто не откликнулся, а из казаков лишь два старика. Через несколько дней эти 4 человека прибыли в Новочеркасск, освобожденный от большевиков. В бюро записи в Добровольческую армию они и еще 10 офицеров получили назначение в Офицерский полк, стоявший тогда в станице Егорлыцкой».
Ещё одним очагом напряжённости в Донецком округе являлась станица Гундоровская. Отрядам красноармейцев удалось перехватить две подводы с оружием для гундоровцев. Становились известны факты антисоветской агитации. Это вызвало обеспокоенность у каменского РВК. В штабе думали направить туда для выяснения обстановки и несения гарнизонной службы красногвардейский отряд. Но член окружного исполкома казак Алешин – делегат от Гундоровской – горячо убеждал командование:
– Подобная мера обострит обстановку. Надо поговорить с казаками по душам. Сам поеду и уговорю не восставать против Советской власти. Их сбивают с толку офицеры.
Члены окрисполкома поддержали это предложение. Для разговоров «по душам» послали комиссию. С Алешиным поехал член окрисполкома Черноморов – делегат от станицы Митякинской. В Гундоровской они собрали сход на площади. Однако разговора не получилось. После оскорблений представители РВК были сброшены с трибуны и их место заняли офицеры, призвавшие к свержению советской власти. Кто-то ударил в церковный колокол. Над кипящей площадью поплыл тревожный гул набата. И все, кто стояли тут, бросились по улицам, выхватывая на ходу из плетней колья, отыскивая припрятанные винтовки, шашки, наганы. Гундоровская восстала.
В связи с этим Каменский РВК принял решение подавить востание. И в ночь на 17 апреля Каменский красногвардейский батальон уже шагал ускоренным маршем на станицу. Штаб приказал немедленно восстановить там порядок, выловить и наказать виновных. С рассветом подошли к хутору Малая Каменка.
В хуторе узнали, к гундоровским мятежникам ночью пришло подкрепление. Казаки Митякинской станицы тоже восстали и направили в 300—400 человек в станицу Гундоровскую. Здесь речь очевидно идёт о б отряде сотника Попова, вошедшего в станицу 16 апреля. Утром красноармейский батальон подошёл к Гундоровской и окопался.
Командир батальона Прилуцкий послал парламентера с требованием сдаться без боя и сложить оружие. Гундоровцам нужно было выиграть время для перегруппировки сил, получения подкреплений из дальних хуторов и формирования сотен. Казаки прислали своего представителя для ведения переговоров и выяснения условий капитуляции. Начался обмен посланиями, длившиеся около двух часов. Вскоре на позиции приехали Щаденко, Бувин, Литвинов. Разыскав Прилуцкого и узнав, в чем дело, Щаденко выразил недовольство положением вещей и передал гундоровцам ультиматум: сложить оружие через пол часа. Но ответа так и не получил.
В связи с тем, что белоказаки не собирались сдаваться, по станице был открыт огонь шрапнелью, завязался бой. В то время, когда основные силы красных отражали атаку гундоровцев, их конница переправилась через речку Больше-Каменку и вышла у хутора Больше-Каменка в тыл их цепям. Возникла паника и часть бойцов батальона стала беспорядочно отступать. Однако это бегство вскоре удалось остановить и восстановить положение. Ожесточённый бой с переменным успехом шёл до самого вечера. После чего противники отошли на исходные позиции: красные в Каменскую, а белые в Гундоровскую.
Только при помощи артиллерии бронепоезда, который подошёл из Каменска, отряд Романовского К. Э., 19 апреля отбивают Гундоровскую станицу. В станицу вступает отряд красных под командованием Щаденко. Его бойцы две трети станицы Гундоровской выжгли (?), многие её жители, активно учавствовавшие в Белом движении были расстреляны, так по крайней мере утверждают сторонники белого движения. Но документальных фактов подтверждающих это нет.
Из воспоминаний Толмачёва И. П. «В донских степях» о сожжении станицы ни чего не говорится. Вполне вероятно, что во время боёв сгорело несколько казачьих подворий, но ни как ни две трети станицы. Эксцессы с самовольными расстрелами были, как и провокации с другой стороны, как в случае с гундоровским священником, которого мнимые красноармейцы заставили плясать до бесчувствия и ограбившие церковь. Приведём отрывок из книги Толмачёва:
«В штабе обыскали его. Из карманов и сумки высыпали на стол награбленное церковное серебро. В это время в помещение ввели тех, что щеголяли в бескозырках, хотя на флоте никогда не служили. На допросе они все выложили начистоту. На эту «операцию» их надоумил атаман станицы Гундоровской Маркин. Перед ними поставили задачу: настроить население станицы против Красной гвардии.
Колокольным звоном собрали жителей на площадь. Рассказали о подлых проделках атамана. Потом зачитали приговор военного трибунала: провокаторам – расстрел! Последние слова приговора потонули в мощном гуле одобрения. Тут же, на площади, его привели в исполнение».
Повстанцы Попова и часть гундоровских казаков под командой войскового старшины Гусельщикова переправились на пароме на левый берег Донца, где объединились с подоспевшими казаками из Митякинской и организовали штаб обороны во главе с войсковым старшиной А. К. Гуселыциковым. Осознавая неравенство сил (хотя повстанцы и мобилизовали всех казаков станицы до 70 лет), они направили гонцов за помощью на территорию Украины к гайдамакам и к походному атаману П. Х. Попову. Попов назначил Гуселыцикова начальником обороны Гундоровско-Митякинского района.
Гайдамаков гундоровцы не нашли, но зато встретили немцев, к которым и обратились за помощью. Им такое обращение было как нельзя на руку и немецкие части двинулись на станцию Изварино, куда гундоровцы 20 апреля (3 мая) тоже выслали сотню казаков. В боях 20—22 апреля (3—5 мая) казаки с помощью немецкой кавалерии и артиллерии, наступавших вдоль Северо-Донецкой железной дороги, вытеснили большевиков из юрта Гундоровской станицы. Но впоследствии, это обращение казаков станиц Гундоровской и Митякинской, бывшее на руку Белому движению, при изменении политической обстановки на Дону, позволило атаману Краснову обвинить казаков двух этих станиц, в самовольном призыве немцев на территорию Дона.
А когда в мае 1919 года, Митякинскую станицу занял Лейб-Гвардии казачий полк полковника Позднеева (впоследствии генерал-майора), отряд восставших казаков Попова, примкнул к ним.
(Н. Рутич. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии. М., 2002г.)
Вначале была сформирована Гундоровская дружина, впоследствии ставшая основой для 23 Гундоровского Георгиевского полка. Командир – Гусельщиков, войсковой старшина. Начальник штаба Коноводов Иван Никитич, есаул, помощник начальника обороны Гундоровско-Митякинского района, в полку с 04.04.1918 по 26.05.1918. 2. Мазанкин Степан, есаул (№513 от 14.07.1918). 3. Пискунов Дмитрий Степанович, командир взвода 5-й сотни, подъесаул (№406 от 27.02.1919). 4. Шевцов Анатолий, есаул Гундоровского отряда (№885 от 04.09.1918). 21 апреля (4 мая) 1918 г. бой у разъезда Плешаковского.
Митякинский отряд возглавил Кустов, сотник. Начальник штаба – Манакин Виктор Константинович, полковник. 29 апреля 1918 г. он был расформирован, власть передана станичному атаману. Впоследствии в ст. Митякинской был сформирован 96 Митякинский пеший полк и 96 конноартиллерийская батарея. В станице Луганской так же был сформирован Луганский пеший полк и Лугано-Митякинский пеший полк, впоследствии разгромленный РККА в августе 1919 года и влившийся в Луганский пеший полк. В его сосотав входило 674 казака. Из низ 576 пеших, при 16 пулемётах. По другим данным при 18 пулемётах.
Тем временем 18 февраля 1918 года, когда германские войска, нарушив статьи Брестского мира, вторглись по всему фронту от Балтийского моря до Карпат. На юге правое крыло группы армий генерал-полковника А. фон Линзингена наступала из района Ковеля на Киев, Полтаву, Харьков, Ростов-на-Дону; с севера их прикрывала армейская группа генерала Гранау, двигавшаяся вдоль ж/д линии – Пинск-Гомель-Брянск. Части Добровольческой армии и отряды красной гвардии, не смотря на то, что были непримиримыми врагами, в этой ситуации стали союзниками, стремясь сдержать германское наступление. А вот донские казаки полковника Бармина участвовали вместе с немцами в штурме города.
Положение армии Антонова-Овсиенко осложнилось в связи с наступлением немцев на Харьков, Старобельск и Луганск. Завязалось кровопролитное сражение за Острую Могилу в районе Луганска. В результате этих боёв, Красная армия вынуждена была форсировать Донец и перейти на левый его берег.
Стратегическое положение красных войск резко ухудшается. И без того слабая их оперативная связь, оказалась нарушенной из-за разлива Донца и действий казачьих отрядов.
На ухудшения положения Красной армии отразился и тот факт, что перед переправившимися частями возникла линия обороны от станицы Митякинской до Гундоровской. Эта линия обороны была построена по всем правилам ведения войны; с её окопами, блиндажами и ходами сообщения.
Командовал этой линией обороны генерал-лейтенант А. К. Гусельщиков. Активную поддержку ему оказывали казаки Митякинской станицы. В станице была проведена мобилизация казаков до 70 лет, и они заняли окопы данной линии укрепления. Впоследствии атаман Краснов назначил командующим линией обороны генерала Коновалова.

Генерал-лейтенант А. К. Гусельщиков
«2-ю Донскую казачью дивизию при 8 конных орудиях и одном броневом поезде я сосредоточиваю в районе Луганска для упорной обороны этого направления. Я мобилизую старых казаков Гундоровской, Митякинской и Луганской станиц и в каждой из этих станиц ставлю по 200 таких казаков при двух пулеметах – это составит на всем Луганском фронте около 4 тысяч человек при 8 орудиях. Руководство этим районом я вверяю генерал-майору Коновалову, опытному и решительному офицеру генерального штаба.» П. Н. Краснов» Всевеликое Войско Донское.
Линия обороны Гусельщикова была на острие наступления 8-й армии красных, перед которыми была поставлена задача овладеть городом Миллерово и соединиться с войсками красных, которые продвигались из Воронежа.
Возле станицы Митякинской разгорелись ожесточённые бои. Отдельные населённые пункты переходили из рук в руки. В тылу красных действовали отдельные отряды казаков. Одним из таких отрядов командовал сотник из хутора Атаманского Попов.
Учитывая сложившуюся обстановку на линии обороны Митякинская-Гундоровская, советское правительство оказывает помощь своей 8-й армии. В район Каменска и Митякинской стягивается пехота красных с большим количеством артиллерии и аэропланами, а в районе Каменска появляются 2 бронепоезда РККА. В ожесточённых боях, части Добровольческой армии Покровского свою задачу не выполнили и вынуждены были начать отступление и станицы Митякинскую и Гундоровскую вошли части РККА.
В ноябре 1918 года резко изменилось международное положение. После ноябрьской революции Германия и её союзники потерпели поражение в Первой мировой войне. В соответствии с секретным протоколом к Компьенскому перемирию от 11 ноября 1918 года, германские войска должны были оставаться на территории России до прибытия войск Антанты, однако, по договорённости с германским командованием территории, с которых выводились германские войска, начала занимать Красная Армия.