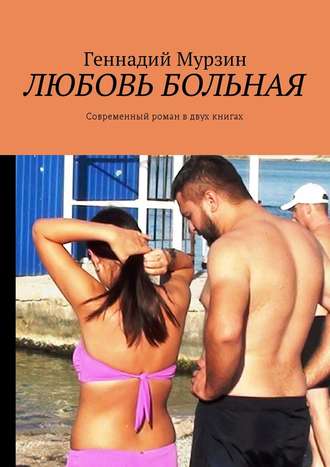
Геннадий Мурзин
Любовь больная. Современный роман в двух книгах
Редактор Геннадий Мурзин
Корректор Геннадий Мурзин
Фотограф Сергей Мурзин
Фотограф Геннадий Мурзин
© Геннадий Мурзин, 2018
© Сергей Мурзин, фотографии, 2018
© Геннадий Мурзин, фотографии, 2018
ISBN 978-5-4490-5014-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Геннадий Иванович Мурзин (на фото) – профессионально занимается журналистским и литературным творчеством без малого шестьдесят лет. Отзывы о книге можно оставлять либо на авторской странице издательства, либо направлять по электронной почте – gim41@mail.ru.

Пролог
Эпистолярный жанр, признаюсь честно, – мне не слишком люб. Скажу больше: сам я писал и пишу письма только в самых крайних случаях. Даже матери. Даже детям. Даже внукам. Это – (упаси Боже!) не попытка самооправдания или мольба о снисхождении, а всего-то констатация факта.
Когда сажусь за стол и берусь за письмо, то сразу возникает так много вопросов: зачем; кому это надо; о чем писать, а о чем не стоит; есть ли у меня новости, достойные моей эпистолы; нельзя ли обойтись вообще без этого равнодушно-формального послания, коли чувства глубоко-глубоко запрятаны и спят мертвецки на дне человеческой души? Поразмыслив хорошенько, обычно откладываю в сторону ручку и забываю об эпистолярной затее надолго, если не навсегда.
Это – что касается меня лично. Но, читатель, я восторженно читаю литераторов, которые смело и умело выбирают для своего произведения эпистолярную форму изложения. Читаю, и, говоря по чести, завидую таким авторам, у которых эта форма дает впечатляющий эффект.
Эпистолы, с которыми хочу познакомить тебя, читатель, попали ко мне случайно. Нет, я их не крал у автора. Нет, я не рылся в чужих сундуках и шкатулках..
…Лет шесть тому назад подал свой голос вечно молчаливо стоящий на столе телефон. Излишне торопливо дотянулся и снял трубку.
– Да… Слушаю…
И услышал в ответ:
– Привет, коллега!
Давно не разговаривал с ним по телефону, но не узнать его невозможно.
– Здравствуйте, Григорий Ильич! – с неприкрытой радостью откликнулся я.
В трубке загремел смех.
– Что случилось, коллега, а?..
– Ничего… Все в порядке…
– Не совсем, судя по тебе, «все в порядке», если вдруг на «вы» и с отчеством. Чужими, хочешь сказать, стали, да?
– Я… без задней мысли, Гриш…
– Так-то, как ни крути, намного лучше – привычнее.
– Я подумал: давно не общаемся и ты… возможно… изменился и моя фамильярность может тебя покоробить.
– Не оправдывайся! Зачем?.. Кстати, тебя не удивил мой звонок?
Я признался:
– Удивил… Столько времени не подавал признаков жизни и тут…
Григорий Ильич вновь рассмеялся.
– Так ведь и ты ничем не лучше: залег в своей берлоге и – ни гу-гу. Стало быть, счет-то равный – ноль-ноль, – он, сделав паузу, продолжил. – Своим звонком не помешал ли? Если что, скажи и я перезвоню позже.
– Глупости! Не можешь ты мне помешать!..
– Чем, дружище, занимаешься на данный конкретный момент?
– Если честно, пустяками, Гриш.
– Тогда… Извини меня, я нагряну к тебе…
Я прервал.
– Извинения неуместны.
– Тут готов поспорить: знаю, как тебе всегда были неприятны непрошенные гости.
– Хочешь спора? Изволь, Гриш: тебе ли не знать, что двери моей «берлоги» для тебя – всегда настежь.
– Были настежь, а сейчас…
– Были, есть и, уверяю, будут.
– Раз так, то сейчас же еду. Да… Вопросец уточняющий, дружище, имеется: ничего, если я с прицепом, а?
– Это ведь, Гриш, смотря потому, что за прицеп…
– Стандартный, очень стандартный.
– Нельзя ли поточнее?
– Например, в виде бутылочки армянского, конфет и хорошей ветчины.
– Прицеп приличный, – я тоже рассмеялся в трубку, – но будет еще лучше, если содержимое этого самого прицепа чуть-чуть поменяешь: вместо армянского, бутылочку нашей, русской.
– Изменение принимается.
Григорий Ильич положил трубку.
Не прошло и получаса, как Маврин уже был у меня. Оглядели друг друга и, похоже, оба остались довольны. Да, постарели и это бросается в глаза: даже на головах, как я люблю выражаться издавна, полторы волосинки в три ряда, причем и даже они белы-белёхоньки.
Выпили по одной рюмочке. Тост был традиционный: «За встречу!»
На правах принимающей стороны, наполнил рюмки снова. Но опрокидывать сразу не стали. На какое-то время, увлёкшись воспоминаниями, о желанном содержимом рюмок забыли. Выражаясь точнее, он говорил, а я слушал. Я понял: Маврину надо выговориться, но более благодарного слушателя, чем я, он подыскать не смог. Вот и…
Григорий Ильич спохватился, что говорит всё о себе да о себе, поэтому решил «перевести стрелки» на хозяина.
– Слышал, что «господин сочинитель» по-прежнему пописывает, а читатели почитывают. Не отходишь от традиций: хлестко пишешь. Видел твою публицистику в областной газете. Дрожь пробирала, когда читал статью «Взрывы, потрясшие мегаполис»…
Я пояснил:
– К двадцатилетию со дня той трагедии написал.
Маврин кивнул.
– Я так и понял… Страшная история, но удивительно правдивая… Как и все, что ты создаешь. Объемная статья… И странно, что опубликовали.
– Наполовину сократили, – сказал я.
– Жаль, но… Все равно звучит убийственно. Да… Кто-то мне говорил, что литературными текстами начал баловаться.
– Есть, Гриш, и такой грех на моей совести.
– Всё скромничаешь, дружище? Насколько мне известно, кое-что даже публикуешь…
– В Интернете, – спешно уточнил я.
– Не скажи, не скажи… Случайно мне попал на глаза недавно сборник рассказов, изданный в Москве, и на открытии твоя вещичка. По нынешним временам – факт, говорящий о многом.
– Случается, что и вытягиваю счастливый билетик… – приняв мяч, я тотчас же постарался вернуть его на половину поля партнера. – А ты, Гриш?..
– Завязал… Туго завязал… Навсегда…
– Напрасно. Заживо хоронить способности – не стоит.
– Увы! Мой творческий костерок потух и угольки, покрывшись пеплом, давно остыли.
– А мог бы еще поддать жару, взбудоражить заиленное нынешнее болотце, затянутое сверху гнилой вязкостной серо-зеленой пленкой.
– Наверное, мог, но не хочу.
– Жаль… Обидно… Такой талант на глазах гибнет.
– А вот тут ты, – Григорий Ильич расхохотался, – явно сморозил нечто, не имеющее никакого отношения ко мне.
Я посмотрел на Григория и, выразив на лице недоумение, пожал плечами.
– А что смешного нашел в моих словах?
– Не смеши, коллега, и смеяться тогда не буду. Где ты откопал «талант»? Покажи и я с удовольствием полюбуюсь. Самому интересно посмотреть на этакую диковинку. Столько лет прожил и не подозревал…
– Извини, Гриш, но ты лжешь… Даже самому себе.
– А смысл?
– И сам не вижу смысла, но факт… Равных тебе не было. Я, Гриш, если честно, завидовал.
– Чему?! Тому, как, вонзив клыки, рвали на куски и те, кто сверху: и те, кто снизу; и те, что слева; и те, что справа? И это, скажешь, предмет для зависти?
– Не спорю: жрали (извини за это слово), точнее – пробовали сожрать, но, не сумев ничего с тобой сделать, подавились.
– Ну да…
– Прошли годы. Ты сидишь передо мной и хохочешь каждые пять минут – живёхонек ведь.
– Слава Богу…
– А их, твоих пожирателей, давно уж нет и память о них стерлась. Пусть земля им будет пухом, – я взял рюмку, – и за это не грех выпить.
Опорожнив, Маврин далеко отставил от себя рюмку.
– Хороша все-таки, сволочь!..
– Если в меру.
– Мера у каждого своя и определить… Не будем об этом, – последовала короткая пауза, после которой Маврин вновь заговорил. – Признаюсь тебе: до таланта не дотянул…
– Это рисовка.
– Позволь, коллега, мне поделиться своим мнением на сей счет. Имею я право хотя бы на собственное мнение?
– Извини… Не вопрос…
– Журналист я – средней руки. Мог бы признать себя и за гения, но это откровенная была бы неправда. С горечью, допустим, вспоминаю тот факт, что все мои попытки овладеть даже жанром фельетона так и не увенчались успехом. Не получилось из меня фельетониста, а я ведь так хотел…
– «Даже»!? – возмущенно переспросил я – Да на Урале пальцев одной руки хватит, чтобы перечесть советских фельетонистов, а нынешних – не знаю ни одного. О чем ты говоришь?
– Говорю о том, коллега, что у меня не получалось, но у других, действительно талантливых… Читал и всякий раз восхищался.
– А я, Гриш, глядя на тебя, тоже восхищался и, прости, завидовал. Был грех, признаюсь.
– Прощаю, охотно прощаю, – произнес с улыбкой Маврин, но улыбка эта вовсе не выглядела радостной или оптимистичной. – Повторяю: журналист я – средних способностей. И подобных мне в советское время было великое множество.
– Согласен: много… бесчестных лизоблюдов, заглядывавших в рот номенклатуре и ждавших очередной команды. Ты к ним не имел никакого касательства. Ты вечно бился…
– …Как тупой баран в наглухо запертые ворота, – съязвил Маврин. Покачав головой, тут же добавил. – Правы были те, кто жили по принципу: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.
Я начал сердиться.
– Не мели! Ну, зачем повторяешь глупости?
– И не глупости. Упрямство – первейший признак ограниченности ума.
Я недовольно хмыкнул.
– Всем бы подобную «ограниченность».
– Спаси и сохрани, – с грустинкой в голосе сказал Маврин.
Я решил в полной мере воспользоваться правами хозяина.
– Ты дашь мне закончить мысль или нет? Кто здесь хозяин, а кто гость?
Маврин, повеселев, кивнул головой.
– Яснее ясного… Говори, дружище, а я какое-то время помолчу.
Григорий Ильич, в самом деле, не стал мешать мне своими язвительными ремарками. И я сказал все, что думал, не умаляя и не преувеличивая его достоинств. Одно из главных – наличие гражданской позиции и твердое следование ей. В отличие от меня, например. Стыдно сегодня признаваться, но, факт, старался-таки я держать нос по ветру и никогда не слыл задирой. Потому что недоставало мне его мужественности и смелости. Нет, не угодничал, по большому счету, и не подличал, однако… А, что там говорить!..
Не преминул напомнить коллеге, насколько уникальным стало его появление в ранге руководителя большого творческого коллектива. Услышав про «уникальность», Маврин вновь попытался фыркнуть, но я не дал ему возможности. Уникальность была уже в том, что карьера строилась не по тем шаблонам, как у других. Было ведь как? А вот так: редко, когда партия назначала на должность руководителя творческого коллектива творческую личность. Обычно над нами стоял профессиональный, стало быть, не слишком умный партработник. Считалось тогда: журналист должен уметь писать, но быть организатором, проводником идей партии не может. И вот конкретный пример, известный Маврину не хуже меня. Кто был много лет главным редактором главной партийной газеты области? Секретарь одного из горкомов КПСС. Мог ли он написать что-нибудь путное? Вряд ли. Но руководил и как руководил!
Маврин же никогда не был партработником и, похоже, никогда не мечтал им стать, потому что журналистика и только она составляла смысл всей его жизни.
И вот случайно стал руководителем творческого коллектива, но совсем не случайно вскоре же все стали замечать (одни с любопытством, а другие с затаенной злобной завистью), что Маврин не лишен не только творческих, а и организаторских способностей. Он, по сути, сразу же стал основным генератором идей, идей не слишком привычных и удобных. Говорили (в след за модным в те времена писателем), что выдавать идеи способна даже дрессированная шимпанзе. Ну, конечно же, это не так: при отсутствии достаточного количества серого вещества можно родить лишь дурь несусветную. Это – с одной стороны, а с другой Маврин не только вырабатывал идею, но и чаще всего лично воплощал в творческую жизнь коллектива. Почему лично? А потому, что коллектив, понимая, насколько новое дело опасно и чревато для него неприятностями, норовил (береженого и Бог бережет) трусливо скрыться в кустах, отсидеться. Маврин выдвигался вперед, взваливая всю ответственность на свои плечи, вызывал весь огонь на себя.
И о коллективе я напомнил Маврину.
– А что коллектив? – пробурчал он себе под нос. – Самый обычный коллектив.
Тоже ведь не правда, точнее – лишь часть правды. Действительно, руководить любым творческим коллективом, где поголовно одни гении, чрезвычайно сложно, но ведь все мы знали, что то место, которое занял Маврин, самое проблемное в области и на нем дольше чем, на год или два, редко кто засиживался: либо сам уходил, либо его уходил коллектив. Склочный, короче говоря, сволочной коллектив. В обкоме партии отлично представляли себе, в какое осиное гнездо внедряют Маврина. И сам Маврин знал. Знал, но согласился. Более того, на удивление всем скептикам через два года Маврин усмирил норов коллектива, поставил каждого на подобающее ему место, доказав, что имеет право считаться лидером не только по формальному признаку, а и фактически, реально. Присмирел народ. Стал удивительно послушным и забыл про кляузничанье. Нет, не скажу, что все (это было бы большой ложью) стали его сторонниками, но, по крайней мере, не стали вставлять палки в колеса.
Маврин слушал и продолжал скептически улыбаться. И, будто итожа мой монолог, сказал:
– А фельетона не осилил.
Я в сердцах воскликнул, наполняя в очередной раз рюмку:
– Дался тебе этот фельетон!
Потом, после выпитой рюмки, чтобы сменить тему, я поинтересовался, как на личном фронте у Григория Ильича. Он на глазах стал мрачнеть и скучнеть.
– Давай, дружище, об этом не будем.
– Почему?
– Не хочу.
– А все же…
– Вот пристал… На моем фронте – без перемен.
– Обидно.
– Не обидно, а логично, – тут же, подпустив яда, добавил, – как и полагается для «таланта».
– Не хочешь говорить…
Маврин прервал.
– Слово, произнесенное, – есть, как сказал один умный человек, ложь.
– А написанное?
– Тут несколько иначе, – он дотянулся до сумки и достал стопку листов. – Кстати, коллега, хочу тебе презентовать, тебе, как «господину сочинителю», которому я всецело доверяю, – он протянул в мою сторону. – Возьми и прочти… на досуге.
Я взял и стал вертеть в руках.
– Что это, Гриш?
– Личные откровения.
Взглянув на титульный лист, спросил:
– Твои письма?
– Что-то вроде этого.
– Но почему они у тебя, а не у того, кому адресованы?
– Трудный вопрос и я не знаю на него ответа. Сначала хотел передать адресату, но… Духу не хватило… Струсил. Сейчас – уже ни к чему. Все-таки прочти.
– А потом?
– Выбрось, как ненужный никому хлам, на помойку.
– Конечно, прочту и не как «господин сочинитель», а как твой друг.
– Спасибо… Не суди меня строго, ладно? Там… Есть и откровенные сцены… Написал, а… теперь сам стыжусь.
– Я – не ханжа и, тем более, не судья тебе.
– О себе могу то же самое сказать, но…
На том и расстались. Уже у лифта, когда вышел проводить, я еще раз спросил:
– Прочту и…
Мысль, возникшую только-только, он нетерпеливо прервал.
– Всё – в твоих руках. Поступай, как хочешь. И прошу лишь об одном: никогда мне не напоминай о письмах. Оба будем считать, что их в природе не было.
– И даже, если?..
– И слушать не хочу ни про какие «если»! Поступай, как знаешь… Как тебе совесть подскажет. Я полностью доверяюсь тебе. Потому что знаю: дурно ты никогда не поступишь.
Прочитал сии эпистолы своего друга. Не сразу, но прочитал. И родилась идея: из писем создать любовный роман. Позвонил Маврину. Я успел лишь заикнуться, как он меня жестко остановил, напомнив мне, что просил никогда не напоминать ему об этих письмах; если есть другая тема для разговора, то, сказал он, милости прошу к моему теперь шалашу.
Что мне оставалось? Сесть и написать роман. А теперь и выставляю на суд читателя. Реакция, предвижу, будет разная.
Впрочем, почему будет? Реакция уже есть. В Интернете. Приведу два комментария. Некая Татьяна Павловская: «Большое Вам спасибо за такое замечательное произведение. Очень тонко Вы прочувствовали женскую душу». Второе, радикально отличающееся от первого. Отец Иоанн выразил свои ощущения просто и ясно: «Тьфу! Изыди, сатана, изыди!»
Вот, собственно, и все, чем хотел бы предварить роман «Мученик иллюзий».
Глава 1
Прелесть моя!
Ужасно и прескверно было у меня на душе, когда я сошел с поезда на глухой станции с загадочным названием – Промежуток. Но уйти от твоего вагона не мог: сил таких не было.
Три с четвертью по полуночи. Вокруг – мертвая тишина. Будто весь мир погрузился в летаргию. И лишь я, только я один на этой затерянной в уральской глуши станции стою между путями, смотрю на твой вагон, блистающий в сказочно-лунном сиянии, и все чего-то жду. Вижу: на выходном светофоре горит «зеленый». Но твой пассажирский стоит. Неужто стоит лишь для того, чтобы дать мне шанс, возможность вновь заскочить в вагон, к тебе?! И, быть может, именно так и поступил бы… Если бы… Если бы ты захотела…
Благодарен судьбе, что она в эту ночь ко мне столь благосклонна и не унесла тебя тотчас же. Я все еще надеюсь на чудо. Я жадно вглядываюсь в вагонное окно, где мы только что с тобой стояли, все пытаюсь уловить хотя бы тень твою. Но там – пусто: ты, скорее всего, давно уже в купе и отдыхаешь на любимой своей нижней (слева) полке.
Я продолжаю надеяться на чудо. Подныриваю под вагон (забыв, что поезд может в любое время тронуться), очутившись на противоположной стороне, отсчитываю четвертое окно, но и там ничего не видно. Шторки твоего окна даже не дрогнули.
Ты уже отдыхаешь. И какое тебе дело до того, что кто-то там, в ночи, в эти секунды, будто сторожевой пес, готов на все и рад даже любому силуэту в окне, готов дорого заплатить лишь за то, чтобы на один-единственный миг вновь увидеть тебя, прочитать в твоих больших карих глазах пусть махонькую, пусть лишь мимолетную искорку надежды. Ведь не зря же великий Вольтер как-то сказал: надежда украшает нам жизнь.
Все, увы, тщетно!
По-прежнему надо мной стоит, замерев, огромный диск луны, подсвечивая сугробы таинственным, бледно-голубоватым светом. На ночном небе – ни единого облачка, однако, сверху, медленно-медленно кружась, опускаются огромные и прозрачные блёстки. По-прежнему стоит мертвая тишина. И мне кажется, что в целом мире, кроме меня, никого нет.
Но вот там, где-то впереди, забасил, кого-то и о чем-то предупреждая, электровоз. Противно заскрежетали автосцепки, передавая эстафету от одного вагона к другому. Твой поезд, твой вагон медленно поплыл в ночь, все дальше и дальше удаляясь от меня. Мелькнули в последний раз хвостовые сигнальные огни и тотчас же скрылись за поворотом: там, где в верхушках хилых осин и берез, обступивших железнодорожную насыпь, с ленцой разгуливал декабрьский ветер.
Поезда уж нет, а я все еще продолжаю очумело, будто пристыл к месту, стоять. Перед моими глазами все еще ты. Ты стоишь именно такой, какой я тебя увидел впервые… Там… И тогда… Помнишь ли?..
Мы стояли с коллегой в фойе Дворца культуры. Ты приблизилась своей слегка неуклюжей, но оттого еще более очаровательной походкой. На тебе было нежно-голубое платье, черный шелковый шарф, небрежно перекинутый через плечо, на плече – огромная сумка. Ты, натянуто улыбнулась нам, поздоровалась, тряхнула головой… И я впервые увидел твои волосы. Они были настолько густы, что образовывали сзади фантастическую темную волну; они были поразительно длинны, достигая твоих ягодиц. Нет, что ни говори, но нынче такие волосы можно лишь увидеть в кино. Колдовские волосы! И от них больше не мог оторвать глаз. «Какая роскошь!» – хотелось воскликнуть мне, но я сдержал себя: рядом – коллега, который, как я догадывался, давно и безуспешно по тебе вздыхает и потому ревниво следит за каждым мужским взглядом, брошенным на тебя.
Как я ни скрывал того, какое впечатление на меня произвела ты, но коллега своим острым, как он выражается, «боковым зрением» уловил все, что надо было. И вечером, когда мы уже лежали на гостиничных кроватях, просматривая местные газеты, коллега попробовал кое-что выведать. Он провел «разведку боем». Он стал расхваливать тебя, пытаясь таким оригинальным образом вывести меня на «чистую воду». Я догадался, что на заброшенном ко мне крючке, – наживка. И «рыболов» лишь ждет, когда я заглочу. Не тут-то было! Я отделывался лишь ничего не значившими фразами. Когда же он стал слишком назойлив, то я вынужден был признать, что ты – великолепна, добавив, что такие экземпляры можно встретить лишь в глубине России. Чтобы у того не оставалось сомнений, сказал: «Она молода и, увы, не для нас. Куда нам до нее, старым перечницам».
Поверил ли мне тогда коллега? Не знаю. Во всяком случае, он вскоре, огорченно вздохнув (наверное, из-за того, что «разведка боем» не увенчалась успехом, и ему не удалось ничего нового выудить из меня), отвернулся к стене и оглушительно захрапел.
Я же долго не мог сомкнуть глаз. Конечно, и из-за нечеловеческих звуков, доносящихся с соседней кровати, – это был храп так храп! Но не только. Мне хотелось, так сказать, по свежим следам осмыслить впечатление, которое ты на меня произвела. Ведь с самим-то собой я мог быть искренним и не притворяться! Да, ты наделена истинно русской красотой: не приторно-слащавой, как звезды Голливуда, а слегка грубовато-угловатой, делающей нашу девушку совершенно неповторимой. Да, ты еще очень молода: всего двадцать два и совсем недавно вышла замуж.
Но в тот вечер, во Дворце ты покоряла мое сердце не только вот этими внешними атрибутами женского влияния на мужчин. Наблюдая за тобой со стороны, заметил, что ты умеешь общаться со всеми людьми, причем, нельзя было не обратить внимание на то, что многие одинаково хорошо к тебе относятся. И, вместе с тем, меня поразила твоя скромность и тактичность, проявившиеся не наигранно, а вполне органично. Знала ли ты заранее, что этим меня окончательно подкупаешь? Во всяком случае, мои коллеги знали, что в людях я ценю больше всего то, что присуще самому, – скромность. Хотя, конечно, среди них находились и такие, которые, ничуть не смущаясь, заявляли: скромность – удел дураков. Подобное утверждение не пытался рассеять: каждый мыслит, как может.
Еще одним для меня элементом поклонения, так сказать, стимулом (ты, понятное дело, помнишь) явился такой случай, всего-то штришок, но для меня существенный.
После завершения официальной части проходившего во Дворце мероприятия, по традиции должен был быть банкетик. Ты подошла к нам и сказала, что нас всех приглашают на него, то есть на тот самый банкетик. Коллегу не стал спрашивать, потому что его отношение к подобным вещам знал хорошо. А тебя спросил (тогда мы еще были на «вы»): «Что думаете?»
Ответ не заставил себя ждать. Ты решительно заявила, что участвовать в банкете было бы с нашей стороны неразумным и в нынешней обстановке ошибочным.
Вот так: после закрытия официальной части мы направились в гостиничный номер, а ты домой, к мужу…
«Эй, гражданин, вы чего там на путях-то? Не положено!»
Это был, как я догадался, крик дежурной по станции, проводившей поезд и все еще стоявшей на перроне с сигнальным фонарем в левой руке, очевидно, наблюдавшей за одиноко стоявшим мужчиной.
От хрипловатого, очевидно, прокуренного, голоса я очнулся и направился к станционному зданию. Надо было оформить билет на обратную дорогу, так как вот-вот должен был прибыть пассажирский поезд, следующий до Свердловска.







