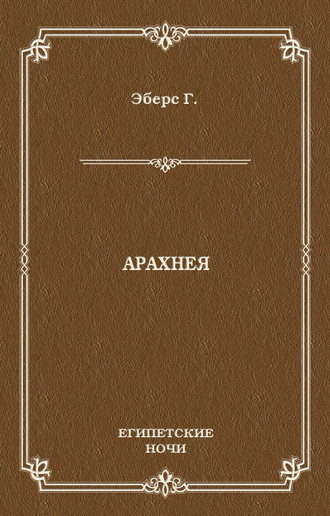
Георг Эберс
Арахнея
Он вошел в свое помещение, холодно приветствовал Ледшу, попросил ее пройти в мастерскую, открыв ее, и, оставив там девушку одну, вернулся с Биасом в свою комнату, где спокойно и не торопясь стал перевязывать свою легкую рану. Пока невольник помогал своему господину, он повторил ему еще раа свои предостережения против Ледши, говоря, что уже ее сросшиеся густые черные брови указывают на то, что ею овладели духи ада.
– Эти-то брови как раз и увеличивают строгую красоту ее лица, – возразил художник. – Я на них больше всего и обращу внимания, когда буду ее лепить. Арахнея в тот момент, когда богиня превращает ее в паука! Какой сюжет! Вряд ли кто изберет такой смелый. И я, вроде тебя, вижу ее уже передо мной, превращающейся в паука.
Не спеша сменил он свой охотничий хитон на белую хламиду, которая очень шла к его волнистой черной бороде, и весело сказал Биасу:
– Если я останусь здесь еще дольше, она не только превратится в паука, но, пожалуй, совсем испортится.
И, говоря это, он пошел в свою мастерскую.
VIII
Ледша в мастерской воспользовалась своим одиночеством, чтобы удовлетворить свое любопытство. Чего только там не было, чего только нельзя было там увидеть! На пьедесталах и на полу, на шкафах и полках стояли, лежали и висели всевозможные предметы. Гипсовые слепки различных частей человеческого тела, мужские и женские фигуры из глины и воска, увядшие венки, всевозможные инструменты скульпторов, лестницы, вазы, кубки, кувшины для вина и воды, подставка, с которой свисали богатыми складками мягкие шерстяные ткани, лютня, кресла, а в углу столик с тремя свитками папируса, восковыми дощечками и тростниковыми перьями. Было бы трудно перечислить все предметы, находившиеся в этом помещении, таком обширном, что оно нисколько не казалось заставленным или переполненным. Ледша бросала удивленные взгляды то на один, то на другой предмет, не понимая хорошенько, что они означают и для чего они могли служить. Высокий предмет на высоком постаменте посреди мастерской, на который падал яркий свет из открытого окна, был, вероятно, образом богини, но большое серое покрывало скрывало его от ее взоров. Какой высокой была эта статуя! Ледша почувствовала себя в сравнении с ней маленькой и как бы приниженной. Страстное желание поднять покрывало овладело ею, но она не могла решиться на такой смелый поступок.
При вторичном осмотре всех закоулков этой обширной мастерской, которую девушка видела первый раз при дневном свете, ее охватило какое-то мучительное сознание того, что ей оказывают невнимание, даже пренебрежение. Она невольно стиснула зубы, и, когда приближающийся шум шагов замер в отдалении, обманув ее ожидания, она подошла к статуе и нетерпеливым движением отдернула покрывало. Местами сияя ослепительной белизной слоновой кости, местами сверкая золотом, предстала перед ее глазами освещенная солнцем богиня. Такой статуи она еще никогда не видала и, пораженная, сделала несколько шагов назад. Каким великим мастером был тот, кто смутил ее доверчивое сердце! Созданная им богиня была Деметра; сноп колосьев в ее руках указывал на это.
Какое прекрасное произведение и какое драгоценное, как сильно оно подействовало на нее, не привыкшую к такому зрелищу!
То, что теперь перед ней стояло, была та же богиня, статуя которой возвышалась в храме Деметры, здесь в Теннисе, и которой она вместе с греками не раз приносила жертвы, когда опасность угрожала жатве, и, невольно освободив свое лицо от покрывала, простерла руку к богине, произнося слова молитвы. При этом она смотрела прямо на бледное лицо богини, и вдруг вся кровь прилила к ее щекам, ноздри ее тонкого носа слегка задрожали, она узнала в этом лице черты знатной александрийки. Ведь она не может ошибаться, она только что внимательно осматривала ту, в угоду которой Гермон ей вчера изменил. Теперь вспомнила она также, что ее сестра Таус и Гула по настоянию Гермона позировали для статуй. С возрастающим волнением сдернула она покрывало со стоящего подле богини бюста. Опять голова александрийки, еще более похожая, нежели голова Деметры. Одна только гречанка занимает его мысли; он не вылепил головы биамитянок. И что значат они, да и она, для Гермона, когда он любит эту богатую чужестранку и только ее одну! Как сильно и глубоко должен был запечатлеться ее образ в душе его, если он мог передать так живо и похоже черты отсутствующей. А ведь с какой дерзостью уверял он ее, Ледшу, что только ей одной принадлежит его сердце. Но теперь она поняла, чего он хотел этим достичь. Если Биас прав, то цель его была уговорить ее позволить вылепить ее фигуру, а не лицо и голову, красоту которых он так восхвалял. Такими же льстивыми словами увлек он Гулу и ее сестру. Обещал ли он им также вылепить с них образ богини? Быстрое биение ее взволнованного сердца мешало ей спокойно думать; его сильные удары напоминали ей цель ее посещения. Она пришла, чтобы выяснить все между ними; она хотела узнать, обманул ли он ее и изменил ли ей. Как судья, стояла она здесь; он должен был высказать ей, чего он от нее добивается. Последующие минуты должны были решить ее судьбу и, добавила она мысленно с угрозой, быть может и его. Внезапно вздрогнув, отпрянула она назад. Она не слыхала, как он вошел в мастерскую, и его приветствие испугало ее. Оно звучало довольно ласково, хотя не походило на приветствие влюбленного. Его рассердила та смелость, с какой она решилась без его позволения снять покрывало с его произведений; но, не решаясь явно высказать ей свое неудовольствие, он сказал насмешливо:
– Ты, кажется, чувствуешь себя здесь совсем как дома, прекрасная из прекраснейших. Или, быть может, богиня сама сбросила с себя покрывало, чтобы показаться ее будущей заместительнице на этом пьедестале?
Этот вопрос остался без ответа. Негодование и страх хотя бы на миг позабыть цель своего прихода помешали ей даже вникнуть в его смысл. Указывая своим тонким длинным пальцем на статую, она спросила его, чье это изображение.
– Богини Деметры, – отвечал он, – или, если ты хочешь и, как, кажется, ты уже сама узнала, дочери Архиаса.
Сердитый взгляд, который она бросила на него при этих словах, рассердил его, и он добавил строго:
– У нее прекрасное сердце; она не находит удовольствия мучить тех, кто желает ей добра, а потому я придал богине ее приятные черты.
– Ты хочешь этим сказать, что мои не годились бы для этой цели. Но они ведь могут изменять свое выражение; кажется, ты уже не раз это видел. Единственно, на что мое лицо неспособно и чему я сама никогда не научусь, даже в моих отношениях с тобой, это – искусно притворяться.
Он спросил довольно нежно:
– Ты, кажется, все еще сердишься на меня за то, что я вчера не сдержал своего обещания, – и при этом взял ее руку.
Она быстро отдернула ее и вскричала:
– Ты мне велел передать, что дочь богача Архиаса удерживает тебя вдали от меня, и ты думал, что я, как дочь варвара, должна этим удовлетвориться.
– Какие пустяки! – сказал он недовольным тоном. – Ее отцу, моему бывшему опекуну, я обязан многим, а принимать гостя с почетом требуют и ваши обычаи. Но твое упорство и ревность просто невыносимы. Чего я требую от твоей любви – только немного терпения. Подожди, наступит твоя очередь.
– Да, я знаю, что после первой наступает черед второй и третьей. После Гулы заманил ты мою младшую сестру, Таус, в эту мастерскую. Или, быть может, я путаю, и Гула была второй?
– А, так вот в чем дело! – вскричал Гермон более удивленный, нежели испуганный разоблачением этой тайны. – Если ты желаешь, чтобы я подтвердил это, так изволь: они обе были здесь.
– Потому что ты их завлек твоими фальшивыми любовными клятвами.
– Не правда, эти посещения не имели ничего общего с моими сердечными делами. Гула пришла меня благодарить за оказанную ей услугу; ты ведь ее знаешь, а матери такая услуга кажется всегда очень важной.
– Но ты сам ее высоко ценил, потому что потребовал за нее ее честь.
Рассерженный художник сказал запальчиво:
– Придержи свой язык! Незваной пришла ко мне эта женщина и такой же верной или неверной мужу ушла она, как и пришла. Если я и воспользовался ей как моделью…
– Гула – жена корабельщика, – прервала его насмешливо Ледша, – превращенная скульптором в богиню!
– В торговку рыбами, если ты уж хочешь знать. Я видел на базаре молодую женщину, предлагающую сомов; мне понравился такой сюжет для статуи, и в Гуле я нашел подходящую модель. К сожалению, она лишь изредка решалась приходить, и я мог только вылепить эскиз, вот он стоит там в шкафу.
– Торговки рыбами? – повторила Ледша презрительно. – А для чего пригодилась тебе моя Таус, это бедное дитя?
Он, как бы желая скорее избавиться от этого вопроса, быстро проговорил, указывая рукой на место перед окном:
– Здесь в жаркие дни сбрасывали молодые девушки свои сандалии и ходили по воде. Я увидал ноги твоей сестры; они были самые красивые, и Гула привела мне девушку в мастерскую. Еще в Александрии начал я статую молодой девушки, держащей в руке ногу и вытаскивающей занозу; вот для нее-то мне была нужна твоя сестра.
– А когда очередь дойдет до меня? – пожелала узнать Ледша.
– Тогда, – отвечал он, вновь подпадая под власть ее необычайной красоты и придавая своему голосу дружеское, почти нежное выражение, – тогда вылеплю я по твоему образу прекрасное создание, достойный торс для статуи этой богини.
– И тебе будет нужно много времени для этого?
– Чем чаще ты будешь приходить, тем скорее пойдет работа.
– И тем вернее будут указывать на меня пальцами биамиты.
– Однако ты решилась же сегодня прийти незваная сюда при ярком дневном свете.
– Потому что я лично хотела тебе напомнить, что я жду тебя сегодня вечером. Вчера ты не пришел, но сегодня… не правда ли?.. ты придешь.
– С радостью, если только будет малейшая возможность.
Нежный взгляд ее темных очей встретился с его взором; он протянул к ней руку, нежно произнося ее имя; она бросилась в его объятия и страстным движением обвила своими прекрасными руками его шею, но, когда его губы коснулись ее щеки, она вздрогнула и быстро высвободилась из его объятий.
– Что это значит? – удивленно спросил он, стараясь привлечь ее к себе.
Она стала просить его нежным мягким голосом:
– Нет, не теперь, но, не правда ли, дорогой мой, я буду ждать тебя сегодня вечером? Только на один этот вечер оставь дочь Архиаса ради меня, которая тебя больше любит. Сегодня ночью будет полнолуние, а в такую ночь, ведь ты знаешь, что мне было предсказано, должно выпасть на мою долю самое высшее счастье, какое боги дарят смертному.
– И на мою также, – вскричал Гермон, – если ты согласишься разделить со мною твое счастье!
– Значит, я жду тебя на острове Пеликана. Даже когда луна будет стоять над этими высокими тополями, я все еще буду ждать. Ведь ты придешь? И если твоя любовь слабее и холоднее моей, то ты все же не захочешь меня обмануть и таким образом лишить меня счастья всей моей жизни.
– Могу ли я это сделать! – вскричал он, оскорбленный ее недоверием. – Только необычайное или неотвратимое может удержать меня вдали от тебя.
Ее густые брови сердито сдвинулись, и она проговорила хриплым голосом:
– Ничто не должно тебя удержать, даже если бы тебе угрожала сама смерть. До полуночи должен быть ты уже со мной.
– Я приложу к тому все усилия, – уверил он, недовольный ее гневной настойчивостью. – Что может быть и для меня более желанным, как в ночной тишине при свете луны провести с тобой блаженные часы! Я ведь и без того долго не пробуду в Теннисе.
– Ты уезжаешь? – спросила она глухо.
– Дня через три-четыре, – ответил он. – Мертилоса и меня уже ждут в Александрии. Но успокойся… Как ты побледнела! Да, тебя огорчает разлука, но ведь не позже как через шесть недель вернусь я опять. Тогда начнется для нас настоящая жизнь, и Эрот заставит цвести для нас свои чудные розы!
Она молча поникла головой, а затем спросила, глядя ему прямо в глаза:
– И как долго будет продолжаться их цветение?
– Многие месяцы, дорогая, четверть года, а быть может – и полгода…
– А затем?
– Кто же заглядывает так далеко в будущее?
Тогда она, как бы подчиняясь какому-то неотразимому чувству, произнесла:
– Какой безумной я была! Кому известно, что будет завтра? Как знать, быть может, через полгода мы, вместо того чтобы любить, будем ненавидеть друг друга.
Проведя рукой по лбу, как бы желая собрать свои мысли, она продолжала:
– Только настоящее принадлежит человеку, сказал ты недавно. Ну, так будем наслаждаться настоящим так, будто каждая минута последняя. В эту ночь, когда наступит полнолуние, начнется мое счастье – так мне предсказано. Затем диск луны будет уменьшаться, потом придет новое полнолуние, и, когда луна опять пойдет на убыль, тогда, если ты сдержишь свое слово и вернешься сюда, тогда пусть меня все осуждают и проклинают, я все же приду в твою мастерскую; чего бы ты ни потребовал, я это исполню. Скажи мне только, какую богиню хочешь ты сделать по моему образу?
– На этот раз это не будет одна из бессмертных, но знаменитая смертная, победившая при состязании в работе даже великую Афину.
– Значит, не богиню? – спросила она разочарованная.
– Нет, дитя, но самую искусную женщину, которая когда-либо работала ткацким челноком.
– А как зовут ее?
– Арахнея.
Она вздрогнула и презрительно вскричала:
– Арахнея!.. Так называете вы, греки, самое противное насекомое – паука.
– Это прозвище той женщины, которая научила человечество благородному ткацкому искусству.
Тут их прервали. Мертилос заглянул в мастерскую и сказал:
– Извините, если помешал, но мы теперь не скоро увидимся. У меня много дел в городе, и меня могут там надолго задержать. Поэтому, прежде чем я уйду, я должен тебе передать поручение, данное мне Дафной. Она желает твоего присутствия на пиру в честь гостей из Пелусия, так велела она тебе передать. Твое отсутствие, слышишь ли ты… Прошу извинения, прекрасная Ледша. Итак, говорю я, твое отсутствие, Гермон, навлечет на тебя ее гнев.
– Так, значит, мне нужно приготовиться к тому, чтобы ее умилостивить, – ответил Гермон, бросая многозначительный взгляд на молодую девушку.
Мертилос переступил порог его мастерской и, обращаясь к биамитянке, своим обычным дружеским и веселым тоном сказал:
– Там, где Эроту приносят лучшие дары, там должны друзья цветами усыпать путь жертвоприносителей, а вы, если я не ошибаюсь, избрали как раз эту ночь, чтобы принести ему прекрасную жертву. Поэтому я заранее должен заручиться вашим и богов прощением, прежде чем я выскажу свою просьбу отложить принесение вашей жертвы хотя бы до завтра.
Девушка молча пожала плечами и ничего не отвечала на вопросительный взгляд Гермона. Мертилос, переменив тон, серьезно напомнил Гермону, что, если он не явится на пир, он этим нанесет оскорбление праху его родителей, лучшими друзьями которых были Филиппос и Тиона. Высказав это, он с легким приветствием, обращенным к Ледше, удалился из мастерской.
Биамитянка, направляясь также к выходу, холодно произнесла, гордо вскинув голову:
– Я вижу, тебя очень затрудняет твой выбор. Ну, так вспомни еще раз, какое значение имеет для меня нынешняя ночь. Если же ты, несмотря на это, решился выбрать пир с твоими гостями, я, конечно, не могу тебе препятствовать, но я хочу уже теперь знать, должна ли эта ночь принадлежать мне или же дочери Архиаса.
Он вскричал запальчиво:
– Неужели с тобой нельзя говорить как с разумным существом? У тебя все только крайности; короткая необходимая отсрочка тебе кажется уже изменой!
– Так, значит, ты не придешь? – спросила она, берясь за ручку двери.
Наполовину прося, наполовину приказывая, он сказал:
– Ты не должна так уходить. Если ты настаиваешь на своем, я приду, конечно. Дружеская уступчивость незнакома твоей упрямой душе. Я не могу похвалиться, что ее и во мне много, но бывают же обязанности…
Тут она открыла дверь. Он, весь охваченный страхом потерять ее, несравненную и незаменимую натурщицу для Арахнеи, быстро подошел к ней, схватил ее за руки и, стараясь ее увести от выхода, произнес:
– Я тебя умоляю, откажись от твоего упорства. Как ни трудно мне это именно сегодня, я все же приду, ты только не должна требовать от меня невозможного. Половина моей ночи будет принадлежать пиру с друзьями и Дафной, а вторую…
– …отдашь ты мне, варварке и пауку, – закончила она презрительно. – Мое счастье, а также и твое зависит от твоего решения. Оставаться здесь или прийти на остров Пеликана в твоей власти – реши как хочешь.
С этими словами она вырвала свою руку и исчезла из мастерской. С тихим проклятием пожимая плечами, остался Гермон один посреди мастерской. Он чувствовал, что ему ничего больше не оставалось, как повиноваться желаниям этого странного и упрямого создания.
В атриуме встретила Ледша Биаса. Молча ответила она на его приветствие, но, подойдя к двери, остановилась и спросила его на биамитском наречии:
– Была ли Арахнея – я подразумеваю не паука, а ткачиху, которую так называют греки, – такая же женщина, как и другие? Ведь это она в состязании с Афиной осталась победительницей?
– Совершенно верно, – отвечал невольник, – но она жестоко поплатилась за свою победу: богиня ударила ее ткацким челноком, и, когда Арахнея от стыда и горя хотела повеситься, она, в наказание, превратила ее в паука.
Закрывая свое побледневшее лицо покрывалом, Ледша произнесла дрожащими губами:
– Разве нет другой Арахнеи?
– Среди людей нет, – прозвучал ответ, – а противных насекомых с тем же именем и в этом доме слишком много.
Молча спустилась Ледша по ступеням, ведущим на площадь, и Биас заметил, как она оступилась на последней и, наверно, упала бы, не удайся ей сохранить равновесие.
«Какое дурное предзнаменование, – подумал невольник. – Будь в моей власти воздвигнуть между моим господином и этим пауком стену, я бы выстроил ее выше маяка Сострата[10]. Кто обращает внимание на предзнаменования, тот знает, что его ждет в жизни. И теперь я знаю то, что я знаю, и держу мои глаза открытыми ради моего господина».
IX
Гермон хотел было сделать несколько легких поправок в своей статуе, но ему это так и не удалось. Ледша, ее требования и то гневное настроение, в котором она его покинула, – все это не выходило у него из головы. Если он не желает ее потерять, он должен во что бы то ни стало прийти на свидание; он чувствовал также, что поступил очень неосторожно, предложив ей разделить ночь между ней и Дафной. Во всяком случае, это предложение заключало в себе что-то оскорбительное для этого гордого создания. Он должен был дать ей обещание приехать на остров Пеликана, а для этого пораньше и незаметно покинуть пир. Для его позднего приезда легко можно было найти извинение, и у Ледши не было бы причин сердиться. Теперь же она сердилась, и ее гнев возбуждал в нем, обыкновенно таком храбром и мужественном, странное чувство, почти граничившее со страхом. Недовольный самим собой, задал он себе вопрос, любит ли он биамитянку, и не мог прямо на него ответить. Он знал уже с первой их встречи, что она, не говоря уже о несравненной красоте, была и во всем остальном выше ее соотечественниц.
Ему казались особенно привлекательными в этом молодом существе ее недоступность и суровость. Он был готов принести какую угодно жертву для того, чтобы одержать победу над этим стройным, удивительно гибким созданием и покорить ее упорство, гордое самомнение. А с тех пор как он в ней увидел подходящую, никем не заменимую натурщицу для своей Арахнеи, он твердо решил подвергнуться и той опасности, которую почти неизбежно представляла для него, грека, любовная связь с биамитянкой из свободного уважаемого дома. Она полюбила его быстрее, чем он этого ожидал, но, несмотря на довольно частые свидания, он ничем не мог победить ее строгой недоступности, и большая часть этих свиданий проходила в том, что он пускал в ход все свое красноречие, чтобы успокаивать ее и испрашивать прощения за свои неосторожные выходки, которыми он, казалось, только пугал и отталкивал ее. Иногда ею овладевала какая-то страстная нежность, но сейчас же ей на смену являлись едкие упреки, требования и обвинения, подсказанные ей ревностью, недоверием и оскорбленной гордостью. Но ее красота, ее стойкое сопротивление его желаниям действовали на него так завлекательно, что заставили его сделать много уступок, произнести много клятв и обетов, которых он не мог, да и не желал сдержать.
Обыкновенно любовь была для него источником радости и веселья, а эта связь доставила ему только заботы и неприятности, и теперь, когда он был почти у цели, он должен был опасаться, не превратил ли он любовь Ледши своими необдуманными поступками вчера и сегодня в ненависть. Дафна была ему очень дорога; он глубоко уважал и ценил ее, был ей многим обязан, но теперь он почти готов был проклинать ее приезд в Теннис. Не будь ее, он мог бы исполнить требование Ледши и уехать в Александрию, вполне уверенный в ее согласии служить ему натурщицей для Арахнеи по его возвращении. Нигде и никогда не найдет он никого более подходящего! Он был страстно предан своему искусству, и даже его противники причисляли его к «избранным». А между тем ему еще ни разу не выпал на долю большой, неоспоримый успех. Зато он отлично знал, что такое неудача. Храм искусства, право входа в который досталось ему ценой такой жестокой борьбы, оказался негостеприимным по отношению к своему высокодаровитому адепту. Но все-таки, несмотря на все, он и теперь не согласился бы ни за какие блага в мире отказаться от искусства; радость творчества вознаграждала его вполне за все разочарования и горести. Надежда на собственные силы, на торжество его направления и его убеждений покидала его лишь на короткие мгновения. Он был рожден для борьбы; что значили для него неудачи, враждебность, нужда! Он был уверен, что наступит наконец тот день, когда для него и для его произведений зазеленеют лавры, которые давно уже венчали чело Мертилоса.
Его Арахнея, в этом он был уверен, заставит даже самых ярых противников присудить ему награду, которой он до сих пор напрасно добивался. Расхаживая в волнении взад и вперед по своей мастерской, он минутами останавливался перед своим произведением, осматривая его невольно, и ему представилась в памяти Деметра его друга: она так же походила чертами лица на Дафну, так же держала в руках сноп колосьев и даже позой походила на его статую. И все же, вечные боги, как различны были они обе! У Мертилоса какое-то сверхчеловеческое благородство и достоинство соединялись с обаятельной женской прелестью, а у него интересная голова, а тело… Сколько натурщиц сменил он, не достигая ничего, только удовлетворяя свое стремление отойти как можно дальше от общепринятой условности! И все же разве ему не пришлось здесь следовать некоторым устарелым правилам: одна рука была приподнята, другая опущена, правая нога выступала вперед, а левая назад. Совершенно так, как у Мертилоса и у тысячи подобных же статуй Деметры. Если бы ему дозволили работать молотом и резцом, а то это проклятое золото и слоновая кость, на которых Архиас так упорно настаивал: чего только ни надо было принять во внимание при их обработке! Эта мелкая резьба, это выглаживание напильником были противны его стремлению творить только сильное и мощное. Битва была на этот раз проиграна наверняка. Счастье, что Мертилос, а не кто-то другой выйдет победителем. Сколько бы он ни делал в своей молодой жизни ошибок и какие бы ни были его недостатки, никогда ни малейшая тень зависти к успехам друга не омрачала его души. То, что судьба наградила Мертилоса, помимо ума и душевных качеств, еще и большим богатством, ему, лишенному поддержки дяди и часто нуждающемуся, порой казалось несправедливостью богов. Но он не завидовал богатству Мертилоса, напротив, душевно радовался за него: ведь как мог бы бороться его друг с роковой болезнью, унаследованной от родителей, не получи он также их богатства? О, эта ужасная болезнь! Вряд ли бы чувствовал он больнее свою собственную. И он радовался победе этого бедного доброго товарища и знал, что, удайся ему, Гермону, Арахнея, его успех обрадовал бы Мертилоса, в этом готов он был поклясться, несравненно больше, нежели собственный успех Мертилоса. Все эти мысли напомнили ему опять второй заказ и Ледшу. Он подошел к окну, чтобы посмотреть на остров Пеликана, где она не должна была, это он твердо решил, его напрасно ожидать. Челнок, который его туда повезет, стоял в небольшой бухте, туда же приставал теперь богато разукрашенный корабль, привезший, вероятно, гостей из Пелусия. Будет лучше всего, если он отправится сейчас же их приветствовать, разделит с ними трапезу и, оставив их сидеть за вином и сластями, отправится к прекрасной биамитянке, которая иначе превратится в его врага. И действительно, ее гнев будет вполне справедливым, если он, благодаря своему невниманию, не даст исполниться тому, что было ей предсказано. Первый раз примешалась жалость к его чувству к Ледше. Если он скромную биамитянку, страстно его любившую, обманет для того, чтобы избежать легкого порицания знатных друзей, то это никак не будет доказательством его душевной силы, а, напротив, покажет только его ничтожную, достойную наказания слабость. Нет, нет, уже ради того, чтобы не заставить страдать Ледшу, предпримет он свою ночную поездку. Он стал готовиться к пиру. Выбирая роскошное праздничное платье, он подумал, что самолюбие Ледши будет также польщено, когда он в нем явится перед ней. Одетый, с гордо поднятой головой пошел он к выходу, чтобы направиться в палатку Дафны. Но что это? Перед его Деметрой стоял Мертилос и глазами художника и ценителя осматривал ее. Его прихода не заметил Гермон, и теперь не стал он мешать ему, а принялся напряженно следить за выражением подвижного и выразительного лица друга. Мнением Мертилоса, этого любимца муз, дорожил он больше всего. Неодобрительное покачивание головой приятеля заставило его крепко стиснуть зубы, но вскоре вздох облегчения вырвался из его груди: он увидал, с какой радостной улыбкой рассматривает Мертилос черты богини, и только тогда решился он подойти. Тот обернулся и радостно сказал:
– Дафна!.. Тебе и тут как нельзя лучше удалось передать ее милое лицо, но…
– Но… – повторил протяжно Гермон. – Это словечко мне хорошо знакомо. Оно открывает двери целому ряду сомнений… Ну, что же, высказывай их честно и прямо. Последняя надежда на награду покинула меня вчера перед твоей Деметрой, а мой сегодняшний строгий осмотр собственного произведения отравил мне всякую радость и охоту к работе. Если же тебе нравится голова, то скажи, какие ошибки находишь ты в остальном?
– Но то, что я хочу сказать, – отвечал Мертилос, причем яркий румянец покрыл его щеки, – не касается каких бы то ни было ошибок, которых, впрочем, при твоем редком знании и таланте нельзя отыскать в твоей работе. Это касается выражения, которое ты придал богине.
Тут он остановился на минуту и, глядя ему прямо в глаза, продолжал:
– Искал ли ты когда-либо божество, и если ты его нашел, чувствовал ли ты и постигал ли ты всю его божественную силу и красоту?
– Какой вопрос! – воскликнул удивленный Гермон. – Я ученик Стратона и буду искать существа и силы, бытие которых он отрицает! Те верования, которые когда-то мне внушала мать, я сбросил вместе с детскими башмаками, и ты задаешь свой вопрос художнику, сложившемуся человеку, а не мальчику. Все то, что живет и создано, уже давно для меня не имеет ничего общего с теми человекоподобными созданиями, которые толпа зовет богами.
– Я об этом думаю совсем иначе, – ответил Мертилос. – Причисляя себя к эпикурейцам, учение которых до сих пор сохранило для меня большую прелесть, я одно время все же разделял мнение моего знаменитого учителя, что мы обижаем богов, приписывая им какие-то мелочные заботы о нас, ничтожных смертных. Верить этому вполне препятствует мне мой рассудок, и я верю теперь вместе с Эпикуром и тобой, что вечные и непреложные законы природы не подчиняются ничьей власти.
– И все же, – заметил Гермон, – ты предлагаешь мне заботиться о богах, таких же безвластных, как я сам.
– Я бы очень желал, чтобы ты это делал, – ответил Мертилос, – потому что боги кажутся не бессильными тому, кто заранее знает, что они не могут ничего сделать, чтобы предотвратить или поколебать эти непреложные законы. Вся страна ими управляется, и мудрый фараон, который не решится нарушить малейший из них, все же может управлять нами силой своего скипетра. Вот почему и я могу надеяться на помощь богов, но не будем об этом говорить. Здоровый человек, сильный, вроде тебя, никогда рано не познает, чем могут быть боги в дни болезни и горя; но там, где большинство верит в них, он не может не составить себе о них какого-либо представления; даже тебе самому, я ведь это знаю, они представляются в твоем воображении в различном виде. Да, они в окружающем нас мире и в нашей душевной и сердечной жизни. Эпикур, отрицавший их власть, все же признавал в них бессмертных существ, которые обладают в полном совершенстве всем тем, что в человеке, благодаря его недостаткам, слабостям и горестям, исковеркано и запятнано. Он находит, что они – наше отражение, возведенное в совершенную степень. Мы, по моему мнению, не можем сделать ничего лучшего, как цепко держаться за это объяснение, потому что оно нам показывает, какой высоты мы можем достичь в красоте и силе, в уме, доброте и чистоте. Вполне отрицать существование богов, даже и для тебя, невозможно, потому что представление о них нашло уже себе место в твоем воображении. Раз это так, то тебе может быть только полезно, если ты в них признаешь прекрасные образы, походить на которые и изображать которые для нас, художников, является задачей, более высокой, достойной и красивой, нежели передавать действительность, постигаемую только нашим разумом и встречаемую под солнцем на земле.
– Вот это-то высокое и красивое, но нереальное не нравится мне и тем, кто разделяет мои стремления в искусстве. Нас вполне удовлетворяет природа: что-либо отнять у нее – значит для нас ее искалечить, прибавить что-либо – значит исказить.
– Отчего же не делать этого только в пределах законов природы? По-моему, одна из главных задач искусства, как бы ты и твои единомышленники ни восставали против этого, состоит в том, чтобы уяснять, украшать и очищать природу. Ты должен был это иметь в виду, когда взялся изобразить Деметру, потому что она богиня, а не однородное с тобой существо. Но именно того, что превращает смертную женщину в бессмертную и божественную, этого придатка, как я его назову, ищу я напрасно в твоей статуе и глубоко сожалею об этом, тем более что ты смотришь на него как на что-то не заслуживающее внимания.







