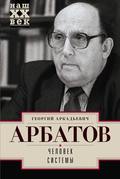Георгий Арбатов
Дело: «Ястребы и голуби холодной войны»
Посвящается памяти моих родителей Анны Васильевны и Аркадия Михайловича Арбатовых
Предисловие
«Холодная война», сменившая для нас Отечественную, отличалась от войны обычной не только тем, что на ней не велся огонь из всех видов оружия, хотя и накапливали его в невиданных масштабах. Ее главные особенности состояли в другом: она представляла собой не просто конфронтацию двух вооруженных до зубов держав и сплотившихся вокруг них союзников, но и двух враждебных взглядов на сущее и должное, на то, каким является и должен быть мир. Другими словами, к политическому, военному и экономическому противостоянию добавлялось еще и идеологическое. Это значит, что помимо беспрецедентно интенсивной и разорительной гонки вооружений, «холодная война» развертывалась и на плацдарме борьбы за умы людей, за общественное мнение как в своей стране, так и в других странах, включая противников. Такие конфронтации несут особую угрозу вооруженного конфликта (а его немыслимость и самоубийственность были осознаны далеко не сразу) и к тому же создают особые ожесточенность (вспомним религиозные войны) и трудности для замирения и урегулирования. Все это мы сегодня знаем уже далеко не только теоретически.
Положение осложнялось и тем, что Вторая мировая война, окончившись в 1945 году на главных плацдармах, оставила после себя где тлеющие, а где и пылающие конфликты на периферии – в Китае, Палестине, Корее, Индокитае, Северной Африке и ряде других мест.
В общем, «холодная война» разгорелась не на шутку и стала вскоре поистине мировой…
* * *
После окончания института я в течение многих лет работал в журналистике; это значило в те годы – на одном из важных «фронтов» «холодной войны». Что не сделало меня ее сторонником, скорее наоборот, – я нагляднее увидел ее опасность и бесперспективность.
Но политику обеих сторон как заклинило на взаимных страхах и подозрениях, они во многом были искренни, что делало их еще опаснее; мало того, на обеих сторонах сложились мощные силы, кровно заинтересованные в сохранении и увековечении «холодной войны»: военно-промышленные комплексы, об опасности деятельности которых предупреждал в своей прощальной речи при уходе с президентского поста президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1960 году, можно смело сказать, что ни на одну другую «затею» в истории, включая обе мировые войны, не было затрачено столько средств и усилий, как на «холодную войну». Более того, «холодная война» создала для своего обслуживания большую инфраструктуру, поставив себе на службу дипломатию, все силовые ведомства, значительную часть науки и средств массовой информации.
Фактически получилось так, что именно ведомства, люди, силы, заинтересованные в продолжении «холодной войны», наличии «врага» и гонке вооружений, руководили (как единственно компетентные) всей внешней политикой и даже переговорами об ограничении вооружений, на которые под напором экономических реальностей и общественного мнения были вынуждены пойти государства, игравшие главную роль в «холодной войне».
Когда в эти дела оказалось вовлечено столь большое количество людей, разных и по взглядам, и по опыту, неизбежными стали и «дезертирства», и «измены», когда вчерашние прислужники милитаризма и империалистической политики становились их квалифицированными критиками и убежденными противниками. Это со временем пополнило ряды выступавших против «холодной войны» людьми самых больших знаний и опыта.
Начался этот процесс в США и Западной Европе. Хотя официальное движение сторонников мира первым основал СССР, но оно быстро вылилось в чисто официальную идеологическую кампанию. К тому же многие деятели этого движения отличались низкой квалификацией, даже невежеством в сложных вопросах международных отношений, военной политики, а тем более ограничения гонки вооружений и разоружения.
Это быстро поняли наши партнеры по переговорам и их публичному обсуждению: их добросовестная часть теряла интерес к дискуссиям, диалогам и встречам, а другая, пользуясь слабостями наших «борцов за мир», подрывала наш авторитет, пыталась показать западной общественности, что СССР всерьез не намерен разговаривать и что там просто не с кем вести серьезные дела.
* * *
Чтобы эффективно бороться с «холодной войной», чтобы развивать настоящий диалог с Западом, надо было менять положение. У нас главной сферой, кадры которой могли взять на себя значительную часть бремени этой работы, была академическая среда. Ее, правда, довольно долго держали в изоляции от политики. Положение начало меняться только после XX съезда КПСС. Вскоре после его окончания был создан Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО). Успешное начало его работы подтвердило необходимость создания исследовательских центров, на которые могли бы опираться те, кто вершит политику, и вскоре были организованы еще несколько ориентированных на международные проблемы центров: институты Дальнего Востока, Африки, Латинской Америки, Европы, а также институт США и Канады. Создавалась новая для нас отрасль общественных наук, занимающаяся изучением международных отношений и внешней политики, включая ее экономические, военные, политико-пропагандистские и иные аспекты.
Это был шаг к реальности, а также шаг в направлении демократизации внешней политики, ликвидации монополии на понимание и деятельность в этой сфере узких групп бюрократии. Удерживать в этих тесных рамках решение внешнеполитических проблем было уже невозможно – широкая общественность слишком хорошо начала понимать, что здесь решаются вопросы ее жизни и смерти, хотела знать, что происходит, и на решения влиять. Вот почему дискуссии вокруг вопросов внешней политики и гонки вооружений начали приобретать все более широкий и острый характер.
* * *
С изобретением ядерного оружия фактически кончился тот период истории, когда можно было планировать и вести «большую» войну с расчетом или хотя бы надеждой ее выиграть, выйти из нее победителем – и при этом избежать национального самоубийства.
Нельзя сказать, что этого совсем не понимали политические лидеры, в том числе и на Западе. Уже на заре своей президентской деятельности Эйзенхауэр выступил с речью, которая по существу предлагала Советскому Союзу диалог, и вскоре он был начат с Хрущевым в Кэмп-Дэвиде. Ширилось и массовое антиядерное, антивоенное движение; официальная политика оказывалась под все более сильным давлением.
В мае 1972 года состоялась советско-американская встреча в верхах в Москве. В ходе имели место важные политические переговоры, ознаменовавшие собой определенный прорыв в отношениях между двумя странами, и были подписаны важные соглашения, прежде всего об ограничении стратегических вооружений – как наступательных, так и оборонительных. Начался период (к сожалению, кратковременный) разрядки международной напряженности. Немалую роль в подготовке саммита 1972 года и развитии отношений с Америкой играл Институт США при Академии наук.
За несколько лет до того с предложением о создании Института США обратились в правительство МИД СССР и АН СССР. Замысел был в том, чтобы создать занимающийся исследованиями центр, который бы не ограничивался публикацией академических книг и статей, а доводил результаты этих исследований до практических выводов и рекомендаций, прежде всего в сфере советско-американских отношений. Междисциплинарные основы, кроме академических дисциплин (исторических, экономических, социологических и т. д.), включали также специальности по военным и разоруженческим проблемам.
Мне доверили создание этого института, но Брежнев не сразу согласился на мой переход, так что я имел возможность продумать, какие задачи поставить перед собой в связи с этим как основные.
Во-первых, важно было положить начало настоящим исследованиям международных проблем. Они должны были проводиться не в историческом и идеологическом ракурсе, а именно как исследования живой политики с учетом ее военных, экономических, даже психологических слагаемых.
Во-вторых, хотелось, чтобы институт положил начало настоящим военно-политическим исследованиям, помог ликвидировать монополию военных на изучение вопросов военной политики, военной стратегии и проблем разоружения.
В-третьих, хотелось, чтобы институт стал источником экспертных знаний, а в чем-то «возмутителем спокойствия» в сфере наших экономических представлений, прежде всего понимания роли научно-технического прогресса.
В-четвертых, мне хотелось, чтобы институт в меру представлявшихся в те времена возможностей отделил политику от идеологии и науку от пропаганды, изучал США не через искажающую призму догм, а такими, какие они есть в действительности.
Не мне судить, насколько все это удалось осуществить, но я думаю, что в какой-то мере удалось, и это, полагаю, повлияло и на смежные институты. Деятельность института, известная новизна, которую он внес в академическую жизнь, были вскоре замечены и у нас в стране, и за рубежом. У нас это выразилось, главным образом, в том, что институт все активнее использовался как консультативный и аналитический центр руководством страны. За рубежом, естественно, хватало хулы. Но были и другие оценки. В материале Конгресса США, оценивающем советскую дипломатию в 1979–1988 годах, подчеркивалось, что институт наряду с другими исследовательскими центрами «сыграл важную роль в процессе интеллектуализации внешней политики СССР», а в американской книге Н. Малколма о советских политических исследованиях, вышедшей в 1984 году, отмечается, что советские руководители и общественность «теперь лучше знают американскую политику и общество, и в этом заслуга советских американистов, и в том числе Института США».
* * *
В оценках перспектив наших отношений с США раньше преобладали идеологические формулы непримиримого противоборства: «либо они, либо мы». C началом серьезных переговоров по ограничению стратегических вооружений выявилась проблема, которой было суждено преследовать наших переговорщиков и специалистов вплоть до сегодняшнего дня: одержимость секретностью во всем и особенно в вопросах военной политики.
Между тем в 1920-е годы эти вопросы дебатировались у нас открыто, и это не только не помешало, но и помогло обороне, а в годы «холодной войны» все оказалось засекреченным и закрытым от всех.
Отчасти поэтому лидеры долго не могли преодолеть взаимные страхи и подозрения. Да и разрядка начала 1970-х вскоре уступила место новым обострениям, а в силу противоречащих ей шагов, сделанных с нашей и американской сторон, особенно после избранием президентом США Рональда Рейгана с его воинственными, реакционными взглядами, в начале 1980-х годов наступил новый пароксизм «холодной войны».
Впрочем, приход к власти Рейгана имел и другую сторону. Требуя ускорения гонки вооружений и выдвигая ряд особенно опасных для дела мира проектов (в частности, программу стратегической оборонной инициативы – СОИ), он хотел поставить на колени или хотя бы напугать СССР. Но получилось так, что он напугал прежде всего мировое, в том числе американское, общественное мнение. Возникло много антимилитаристских форумов и организаций, среди них «Комиссия Пальме», организация врачей во главе с докторами Чазовым и Лауном, получившая вскоре Нобелевскую премию мира, движение за «замораживание» ядерного оружия в США, да и настроения американской общественности начали существенно меняться.
Все это серьезно беспокоило администрацию Рейгана. Но вместо того, чтобы скорректировать политику, администрация США сделала упор на усиление пропаганды и борьбу против нашей информационной деятельности. Надо сказать, что за прошедшие годы мы тоже кое-чему научились. В частности, некоторые из наших специалистов – ученых, журналистов, да и консультантов руководства – довольно регулярно приглашались видными американскими телеведущими на самые популярные программы и весьма успешно там выступали. Это вызывало особое раздражение американских политиков, я это недовольство испытал на себе, поскольку завоевал определенную популярность телезрителей США.
Недовольные этим американские власти в виде «предупреждения» отказали мне в визе. Поскольку я был приглашен для участия в теледебатах с видными американскими политиками и специалистами, с их стороны этот шаг администрации вызвал большое возмущение. Следующий шаг ведавшего внешнеполитической пропагандой США г-на Цвика был совсем курьезным: мне выдали визу с условием, что я не буду общаться с представителями средств массовой информации. Это обеспечило мне необычайную популярность – журналисты ходили за мной хвостом, а один знакомый юрист даже посоветовал обратиться в Верховный суд США с иском: нарушают-де первую поправку к Конституции – и обещал вести дело.
Цвик предложил договориться: они не будут мешать моим выступлениям, но пусть такую же возможность получит кто-то из американцев на советском телевидении. Я ответил, что не уполномочен вести переговоры о таких обменах. Но про себя подумал, что впервые нашей пропагандой всерьез встревожились. Впрочем, думаю, дело было здесь не в одной пропаганде, скорее всего, у правящих кругов США вызвала тревогу с небывалой до сих пор ясностью обнажившаяся асимметрия между советской и американской политикой в вопросах войны и мира, то есть в самом главном вопросе отношений. Эта асимметрия наглядно выражалась в политических взглядах лидеров обеих держав – Горбачева и Рейгана.
Я, признаться, поначалу не верил, что с Рейганом у нашего лидера что-либо получится, но потом наблюдал, не скрою, с интересом, как менялось поведение и публичные высказывания американского президента. Во время рукопожатий на официальных встречах он начал обращаться ко мне с одной и той же шуткой: «Вы теперь верите, что я не ем своих детей, подобно античному богу Хроносу?» – и я каждый раз отвечал: «Да, господин президент, я теперь верю, что вы не едите своих детей».
* * *
На одной из последних «биполярных» встреч в верхах, отвечая в интервью американцам на какой-то вопрос, я сказал: «Мы сделаем для вас самое плохое – лишим вас врага». Хотя сказано это было в шутку, но жизнь без врага, который бы оправдывал все и вся, делал все простым и доступным, оказалась действительно непростой – и не только для американцев.
Складывается впечатление, что встречи «большой восьмерки» и другие не вполне заменяют прошлые двусторонние встречи в верхах. Хотелось бы, чтобы лидеры всех восьми государств с той же ответственностью относились к каждой встрече, как «биполярные» лидеры прошлого. Ведь накопилось немало новых проблем, которые ждут своих решений.
Существование в многополярном мире – это ведь тоже не идиллия (напомним, что обе мировые войны зародились именно в многополярном мире), и в каких-то отношениях жизнь в многополярном мире и опаснее, и сложнее, нежели, скажем, в биполярном. Безопасная жизнь в таком мире требует новых подходов ко многим проблемам, несравненно большей терпимости и терпения, умения и способности понимать и учитывать интересы и возможности других членов международного сообщества. Намного возрастает роль международного права и международных организаций, а также многосторонних переговоров, искусству вести которые придется всем нам учиться, подчас заново. Только создание многотрудными усилиями нового мирового порядка даст прочные гарантии успешной борьбы против терроризма, распространения особо опасных видов вооружений и против особо опасных форм политического поведения.
Новый мировой порядок потребует и нового уровня политической дисциплины каждой большой державы, за который тоже предстоит упорно бороться.
Часть 1 Генералы «холодной войны»
Никита Сергеевич Хрущев. Маленький великий человек
С Никитой Сергеевичем Хрущевым мне работать не пришлось, так что воспоминания о нем сохранил, скорее, как наблюдатель, находившийся непосредственно вблизи.
Первая возможность лично увидеть Хрущева представилась в 1960 году во время его официального визита в Австрию. Я тогда работал в международном коммунистическом журнале «Проблемы мира и социализма», редакция которого находилась в Праге, и как раз редактировал статью Копленига – руководителя компартии Австрии. У меня возникла необходимость обсудить с автором некоторые редакционные поправки, вставки и сокращения. Тут же заготовили просьбу о визе в Австрию и отвезли вместе с паспортом в австрийское посольство. Мотив просьбы о визе – освещение визита Хрущева. Визу тут же выдали, и уже на следующий день я был в Вене, а еще через день приехал Хрущев с сопровождающими, и визит начался.
На следующее утро Хрущев встал очень рано и, взяв с собой охранника и переводчика, отправился гулять по утренней Вене. Ему, снедаемому любопытством насчет подлинного Запада, было интересно все – он заходил в булочные и молочные лавки, разглядывал витрины. Но особенно увлек Никиту Сергеевича подземный переход, который оказался большой подземной площадью с магазинами, киосками, несколькими входами к разным линиям метро и несколькими выходами на улицу. Позднее австрийский канцлер спрашивал Хрущева, понравилась ли ему подземная площадь, он ответил: «Да, понравилась, но скоро и у нас будет такая – только еще больше и красивее». Это был обычный ход Хрущева: если он видел что-то хорошее, то непременно говорил, что скоро и у нас будет такое, только больше и лучше. Я его за такие повороты разговора не упрекаю – гордость за свою страну смешивалась в этом ответе с досадой, что мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а, к примеру, города сделать уютными, чистыми и красивыми еще не удосужились.
Потом началась поездка по Австрии. Зная об особом интересе высокого гостя к сельскому хозяйству, его повезли на несколько особо преуспевающих ферм. Здесь уже разговоры принимали вполне профессиональный характер, причем в крестьянской Австрии грубоватость и соленые шутки гостя не только не смущали, но и явно нравились хозяевам. На одной из ферм Хрущев в пылу спора даже заключил пари на довольно крупную сумму, что вырастит под Москвой более высокий урожай кукурузы, чем местный фермер. (Хрущев, конечно, проиграл, но вежливые хозяева, насколько мне известно, ему об этом даже не напомнили.)
Остался в памяти визит на электростанцию – не оборудованием или техническим совершенством, а грубоватой шуткой Хрущева, понравившейся окружающим. Надо было спуститься вниз на лифте, чтобы посмотреть работающие турбины, и когда поднимались наверх, на обратном пути наш министр иностранных дел, Андрей Андреевич Громыко, припоздал, и когда он входил в кабину, опускавшейся сверху дверью его немного прижало. Вежливые хозяева изобразили испуг, а Хрущев сказал:
– А что, если бы его совсем зажало – наша внешняя политика много от этого потеряла бы?
Все весело засмеялись, а Громыко и виду не подал.
Большое и тяжелое впечатление на всех произвел концлагерь Маутхаузен. Здесь Хрущев искренно расчувствовался и даже разразился короткой импровизированной, но очень эмоциональной речью. Ночевали в Линце, откуда следующим утром я должен был вернуться в Вену для работы с Копленигом.
Утром я встал и отправился на вокзал. Выхожу из гостиницы – и сразу мое внимание привлекло скопление людей, собравшихся у расположенного рядом магазина, торгующего тканями. Подхожу и вижу Хрущева, спорящего с продавцом. Последний дал гостю кусок синтетической ткани (только появившегося тогда в продаже терилена) и говорит:
– Этот материал не мнется.
Хрущев ему в ответ:
– Не заливай мне! Такого быть не может! – и изо всех сил начинает мять ткань. На этой сцене я их покинул, надо было спешить к поезду. В Вене я занялся своими делами, Хрущева больше не видел, а он продолжал свою поездку по Австрии.
* * *
Второй раз судьба свела меня с этим лидером страны летом 1963 года в Москве на переговорах руководства КПСС с делегацией компартии Китая. Я там участвовал в должности советника.
Переговоры были странными, собственно их даже трудно назвать переговорами. Скажем, сегодня выступает с речью руководитель нашей делегации М.А. Суслов. Когда он заканчивает, на несколько минут наступает молчание, а затем объявляется перерыв до завтрашнего утра. Следующим утром с китайской стороны выступает руководитель делегации Дэн Сяопин. Снова несколько минут молчания, перерыв до следующего утра, и все повторяется. Как-то во время одного из таких перерывов кто-то из наших пошутил: «Снова ждут очередного набора цитат из Пекина». (Тогда как раз шел большой шум вокруг цитатника председателя Мао.)
Но вскоре китайцы сорвались, позволили себе брань и грубости. Хрущев не выдержал и в одной из речей ответил им тем же. В дополнение мы получили от него задание – срочно готовить развернутое «открытое письмо» китайской компартии, которое сразу же должно быть опубликовано в «Правде», и еще он вручил несколько, как их называли, «задиктовок», которые надлежало исхитриться всунуть в текст. В тот же вечер мы вернулись в здание ЦК, сели за работу и утром ее закончили. Больше всего хлопот было с «задиктовками» – они выдавали не очень образованного и грамотного, но целеустремленно грубого автора, однако встраивать их было необходимо. Как бы то ни было, письмо получилось.
* * *
В актив Хрущева можно записать немало славных дел. Хрущев, пожалуй, лучше других руководителей ощущал самые наболевшие нужды народа и старался сделать что-то реальное для их смягчения. Он первым начал широкомасштабное жилищное строительство, пусть скромных пятиэтажных домов с большим количеством маленьких, но отдельных квартир. Многие тысячи людей тогда впервые вздохнули с облегчением, почувствовав, что значит жить не в коммуналке. Он осознал, что на нищенскую пенсию, которую тогда платили старикам, прожить нельзя, и значительно повысил ее, во всяком случае, настолько, что позволяло хоть как-то сводить концы с концами. За 10 лет пребывания у руля государства дай бог каждому руководителю столько сделать для народа.
Но были и другие стороны. Деятельность Хрущева, как и его характер, была противоречива. Разрешил, например, выставку современных советских художников в Манеже – и сам же, поддавшись на провокацию нескольких стоящих близко к власти противников нового искусства, собравших правдами и неправдами в отдельном зале самые крайние авангардистские произведения, встретил эту экспозицию взрывом негодования и самой грубой брани.
В характере Хрущева, кроме всего, присутствовала жилка авантюризма. Проявление этого авантюризма – размещение ракет на Кубе, приведшее к Карибскому кризису, который поставил мир на грань ядерной катастрофы. В этом случае, правда, он загодя обсудил вопрос с Политбюро. Но только два человека позволили себе комментарии. Один из них – Куусинен, сказавший, что Никита Сергеевич, наверное, тщательно продумал все возможные последствия и осложнения. (Хрущев, глубоко уважавший Куусинена, понял это замечание и скрытый в нем намек и обстоятельно обсудил его.) И другой – Микоян, подчеркнувший необходимость особо тщательной маскировки ракет.
Словом, фигура его была неординарная и в то же время неоднозначная. Прекрасный скульптор Эрнст Неизвестный хорошо выразил это в надгробном памятнике Хрущеву замысловатым переплетением черного и белого мрамора.
И еще одно дело сделал Хрущев, которое не нашло, да и не могло найти, отражения в памятнике. В стране, где испокон веков высшая власть даровалась божеской милостью, а государь был помазанником Божьим, ну а в послереволюционной, атеистической России «помазанником» законов истории, что ли, – он спустил власть с небес на землю и сам был очень земным, пришедшим то ли из шахты, то ли от земли человеком, и говорил он так и вел себя соответственно – иногда вопреки принятым правилам и нормам приличия (вспомним Хрущева, снявшего ботинок и бьющего им по столу в зале заседаний ООН).
«Схождение с небес» не всем нравилось – привыкли видеть на троне если не божество, то и не простого смертного, а в лучшем случае какого-то «сверхчеловека». Но это, с точки зрения политических реальностей и перспектив, было большим шагом вперед.
С Хрущевым кончился «неземной период» властвования и власти, начался период современный, когда власть стала открытой ветрам и взглядам, а там, глядишь, будет открыта и критике, влиянию общественного мнения и общественных настроений. За это одно ему можно простить и многие неудачные слова, и пробелы в воспитании, и оплошности в поведении.