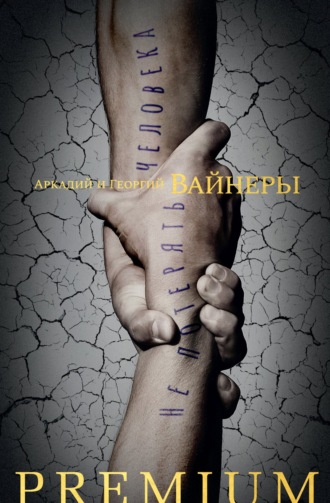
Георгий Вайнер
Не потерять человека
Соколков вспомнил эту нелепую историю, достал из тряпицы кусок старого зажелтелого сала, одну толстую дольку чеснока, растер его рукояткой ножа, тоненько порезал сало и заправил жидкую пшеничную кашу.
И задал себе вопрос: так что же этот Гусанов – дурак он или умный?
Облизнул с ложки обжигающую кашу, покатал на языке, послушал ее вкус в себе, потом решительно тряхнул головой – каша получилась хорошая.
А Гусанов был дурак.
За этими размышлениями и застал его вернувшийся вскоре от Неустроевых Шестаков.
Ужин был готов, и они с аппетитом поедали его прямо из котелка, сидя в шинелях на кроватях, придвинутых вплотную к печке.
Шестаков о чем-то сосредоточенно размышлял, и затянувшееся молчание было невмоготу словоохотливому Соколкову.
– Николай Палыч!.. – завел он.
– Угу…
– Я вот подумал…
Шестаков бормотнул механически:
– Прекрасно…
– Вы ведь человек-то большой, однако… – гнул какую-то свою, ему одному ведомую, линию Иван.
– Спрашиваешь… – так же механически подтвердил Шестаков.
– По нонешним временам особенно…
Шестаков возвратился с небес на землю:
– Вань, кашки не осталось там?..
– Не осталось, Николай Палыч.
– Ну и слава богу! Ничего нет вреднее сна на полный желудок. Так ты о чем?
– Вот говорю, что вы сейчас, коли по старым меркам наметать, никак не меньше чем на адмирала тянете. Ай нет, Николай Палыч?
Шестаков тщательно облизал ложку, кивнул серьезно:
– На бригадира…
– Это чтой-то?
– Был такой чин, друг милый Ваня, в российском флоте.
– Важный?
– Приличный. Поменьше контр-адмирала, побольше каперанга. Соответствовал званию командора во флоте его величества короля английского.
– Вот я о том и веду речь, – оживился Соколков.
– Чего это тебя вдруг разобрало? – засмеялся Шестаков. – Звания все эти у нас в республике давно отменены.
– А пост остался? А должность имеется? Ответственность в наличии? Вот мне и невдомек…
– Что тебе невдомек? – Шестаков точными быстрыми щелчками сбросил в кружку с морковным чаем порошок сахарина. – Ты к чему подъезжаешь, не соображу я что-то?
– А невдомек мне разрыв между нашей жизнедеятельностью и моими революционными планами об ней!
– Ого! Очень красиво излагаешь! – удивился Шестаков. – Прямо как молодой эсер смазливой горничной. Ну-ка, ну-ка, какие такие революционные планы поломала наша с тобой жизнь?
Соколков, наморщив лоб, вдумчиво сообщил:
– Я так полагаю, Николай Палыч, революция была придумана товарищем Лениным, чтобы всякий матрос начал жить как адмирал. А покамест вы, можно сказать, настоящий адмирал, ну, пусть и красный, живете хуже всякого матроса. Неувязочка выходит.
Шестаков сделал вид, что глубоко задумался, скрутил толстую махорочную самокрутку, прикурил от уголька:
– Понимаешь, мил друг Ваня, революция – штука долгая. И окончательно побеждает она не во дворцах, а в умах…
Иван закивал – понятно, мол. А Шестаков продолжал:
– Когда большинство людей начнет понимать мир правильно, тогда и победит революция во всем мире…
Соколков взъерошился:
– Ну а я чего понимаю неправильно?
– А неправильно понимаешь ты – пока что – содержание революции. – Шестаков легко забросил на койку согревшиеся ноги и сунул их под тюфяк.
– В каких же это смыслах? – обиженно переспросил Иван.
– В самых прямых, Ваня. Революция – это работа! Чтобы каждый матрос зажил как адмирал, надо всем очень много работать. Ты сам-то когда последний раз работал?
– О-ох, давно! – пригорюнился Соколков. – Только когда же мне работать-то было? Я под ружьем, считайте, шестой год без отпуска!
– Вот то-то и оно. А хлебушек-то все шесть годов мы с тобой кушаем? Миллионы людей под ружьем, а кто под налычагом? А у станка? А в шахте? Слышал, докладывали: в нынешнем году Россия выплавит стали, как при Петре Первом. Ничего? На двести лет назад отлетели. А ты адмиральской жизни желаешь! Ну и гусь!..
Иван подбросил несколько щепок в печку, раздумчиво спросил:
– А что же будет-то?
– Все в порядке будет, Иван. Беда наша, что мы пахоту ведем не плугом, а штыком. Плугом это делать сподручнее, и хлеб из-под него богаче, да только от бандитов и грабителей, что на меже стоят, плугом не отмахнешься. Тут штык нужен. Погоди немного, отгоним паразитов за окоем – вот тогда мы с тобой заживем по-другому…
– Эт-то верно. Да хлебушек-то людям сейчас нужон! Ждать многие притомились…
– Вот мы с тобой и отправляемся на днях за хлебом, – сказал Шестаков примирительно.
– Далеко? – оживился Соколков.
– Не близко. – Шестаков натянул повыше байковое одеяло, нахлобучил поглубже шапку, удобнее умостился на койке. – На Студеный океан, в Карское море.
Не вдумываясь, откуда в океане возьмется хлеб, Соколков лишь спросил деловито:
– Много хлеба-то?
– Миллион пудов с гаком.
– Ско-о-лько? – обалдело переспросил Иван.
– Мил-ли-он, – сонно пробормотал Шестаков, его уже кружила теплая дремота. И вдруг, приподнявшись, сказал ясным голосом: – Иван, ты соображаешь, сколько это – миллион пудов? Да еще с гаком? Всей России каравай поднесем!
Уронил голову в подушку и заснул уже накрепко, без снов, до утра.
А Иван Соколков еще долго лежал в темноте, шевелил губами, морщил лоб – подсчитывал.
К полуночи вызвездило – крохотные колючие светлячки усыпали черное одеяло небосвода, и от этого стало еще холоднее. Мороз словно застудил, намертво сковал все звуки окрест, и от этой могильной тишины хотелось ругаться и плакать.
Но прапорщик Севрюков и подпрапорщик Енгалычев, казак из старослужащих, сидевшие засадой в еловом ветхом балаганчике, брошенном кем-то из охотников-ненцев, плакать не умели, а ругаться нельзя было.
Шепотом – что за ругань?
А громко – нельзя.
И костра развести нельзя.
Прикрываясь за сугробом от острого, будто иглами пронизывающего ветра, Енгалычев зашептал:
– Слышь, Севрюков! Пропадем ведь без огня-то!
Севрюков покосился на него:
– За ночь не пропадем… – А у самого от стужи губы еле шевелятся.
Енгалычев зло сплюнул, и они услышали легкий металлический звон – будто гривенник упал на замерзший наст.
Плевок на лету застыл.
– Ночь ночи рознь, – сказал Енгалычев угрюмо. – Здесь ночь – полгода.
– Не скули. Нынче вытерпим ежели мы с тобой – всю жизнь в тепле будем.
– Жи-изнь… – протянул Енгалычев. – Ох и жизнь наша собачья. Озверели вовсе – на людей засидку делаем!
Севрюков растер рукавицами немеющие щеки, с коротким смешком бросил:
– Комиссары не люди. Учти, матроса убить – не грех, а добродейство…
– Ладно, посмотрим, – вяло сказал Енгалычев и тоже принялся растирать щеки. – Я так думаю, мы с комиссарами на одной сковороде у чертей жариться будем…
Прошел еще час.
Севрюков приподнял голову, насторожился:
– Тихо! Слушай!..
Из ночной мглы доносился пока еле слышный, но с каждой минутой все более отчетливый собачий лай, тяжелое сопенье. На мили вокруг разносился пронзительный визг полозьев по сухому снегу, гортанные выкрики каюра – шум груженой упряжки на санном тракте.
Енгалычев посмотрел на Севрюкова:
– Что?..
– Давай!
Севрюков подтолкнул Енгалычева в спину.
– Беги, падай на лыжню, – свистящим шепотом скомандовал он. – И лежи как покойник, а то нынче же будешь на сковородке у комиссаров…
Енгалычев выбежал на тракт, упал посреди лыжни, раскинув в стороны руки.
Севрюков снял рукавицы и быстро-быстро принялся растирать замерзшие ладони, согревать их дыханием.
Вот и упряжка показалась. Семь огромных пушистых лаек-маламутов. На нартах – двое укутанных в меховые толстые шубы людей.
Увидав распростертое тело Енгалычева, каюр скомандовал собакам «по-оть!» и с размаху воткнул в твердый снежный наст остол.
Упряжка остановилась. Собаки начали обычную грызню между собой, а матрос Якимов, закутанный башлыком, в перекрестье пулеметных лент, соскочил с нарт и закричал:
– Стоп машина, Кононка! Малый назад, трави пар! Человек за бортом! Жив?
Каюр Кононка подбежал к Енгалычеву, наклонился над ним, приподнял голову.
– Дышит, однако! – крикнул Якимову.
– Тогда доставай спирт, готовь костер, выручать братишку будем! – скомандовал матрос.
Он тоже подошел к Енгалычеву.
Севрюков расстегнул пуговицы шинели, засунул ладони под мышки – руки надо отогреть, иначе вся затея полетит к чертовой матери. И внимательно следил за дорогой. Пошевелил пальцами – двигаются.
Матрос склонился над Енгалычевым. Вот теперь время.
Севрюков выпростал руки, немного высунулся из-за сугроба, достал из-за пазухи тяжелый маузер, покачал его в руке. И тщательно прицелился.
Сначала в каюра, но не выстрелил, а плавно перевел длинный ствол на Якимова, в створ его широкой спины. А тот хлопал по щекам Енгалычева, тормошил его – очнись, браток!
Стократ усиленный безмолвием, треснул выстрел.
Матрос резко посунулся вперед, упал на колени, в муке поднял искривленное лицо, закричал-зашептал помертвевшему каюру:
– Беги, Кононка, беги!.. Это… засада… Беги… Почту… Я… умер…
И упал набок, закаменел.
В следующий миг ненец сорвался с места, длинным стремительным прыжком перескочил через обочину тракта, бросился бежать плотной снежной целиной. Заячьими петлями, рывками, падая и поднимаясь, помчался назад, в сторону Архангельска, туда – к людям!
Севрюков, прикусив губу, медленно вел за ним мушку, потом выстрелил.
Выстрел! Выстрел!
Подкинуло в воздух Кононку, будто ударили по ногам доской, упал на снег.
Севрюков засмеялся:
– Эть, сучонок! Не нравится! Врешь, не уйдешь, вошь раскосая! Гнида…
Кононка перевернулся на снегу, сразу зачерневшем от толстой струи дымной крови, дернулся несколько раз, застонал и затих.
Енгалычев вскочил и побежал к нартам.
Севрюков закричал ему:
– Стой! Ты куда? Прежде этих присыпать надо!
Капитан первого ранга Чаплицкий, его высокоблагородие, опять, выходит, прав оказался. Теперь, с упряжкой-то, и до самого генерала Марушевского добежим.
Но сначала – развести костер, отогреться…
Часть II. Поход
Через замерзшие вологодские болота, заснеженные печерские леса, пустынную кемскую тундру шел к Архангельску поезд.
Необычный эшелон. Впереди – платформа со шпалами, рельсами, потом бронеплощадка с морской трехдюймовкой «Канэ». Два астматически дышащих паровоза на дровяном топливе, три классных вагона, несколько теплушек, еще одна бронеплощадка и снова грузовая платформа.
Поезд полз сквозь ночь, визг ветра, плотную поземку. Лихорадочно дрожали разбитые, расшатанные во всех узлах своих старые вагоны.
Неожиданно поезд останавливался посреди поля или леса, и люди выходили, чтобы не рисковать при переезде через взорванный и кое-как, на скорую руку, восстановленный мост.
Или дождаться ремонта пути.
Или нарубить дров для топки.
Или разобрать завал на путях.
Но железнодорожное бытие ничем не унять. В купе, скупо освещенном свечой, ехали Неустроев, Лена, Шестаков, Иван Соколков. Было холодно, и они пили чай.
Шестаков угрелся, на лбу даже выступили бисеринки пота.
Он подлил из жестяного чайника буряково-красную жидкость в кружку Неустроева, спросил:
– Константин Петрович, я в прошлый раз спорить не стал, но, сколько потом ни старался, так и не вспомнил, в какой из своих работ Литке выказал такое пренебрежение к нашим возможностям? Что, мол, для нас устье Енисея недостижимо? Ведь сам Литке был мореход отчаянный!
Неустроев засмеялся:
– В трудах отчаянного морехода и выдающегося открывателя Литке вы ничего подобного и не найдете. То, о чем я говорил, увы, лишь резолюция Литке, уже генерал-адъютанта и вице-президента Географического общества. Резолюция на официальном документе!
– По какому поводу?
Неустроев грустно покачал головой:
– История эта длинная, печальная и по-своему возвышенная. Это история борьбы горячего российского духа открывательства и познания против холодной природы Севера и прямо-таки ледяной сущности имперской бюрократии…
– Известное дело – царской империи Север ни к чему, – заметил степенно Соколков.
Неустроев удивленно посмотрел на него. И продолжил:
– Идею предстоящей нам экспедиции впервые попытался осуществить шестьдесят лет назад замечательный человек – Михаил Константинович Сидоров, купец и промышленник по положению, исследователь и ученый по своему неукротимому духу.
– Среди богатых тоже умные люди бывали, – вновь согласился Иван, которому Неустроев явно нравился своей ученостью.
Неустроев добродушно улыбнулся, кивнул.
– Сидоров снарядил под командой внука великого Крузенштерна – лейтенанта Павла Крузенштерна – парусную шхуну «Ермак», – сказал он. – Шхуна должна была через Карское море прорваться в устье Енисея.
– А что его привлекло именно к этому маршруту? – спросила Лена.
– Дешевый морской путь. Если бы Сидорову удалось проложить его, то из Сибири в Европу можно было бы выбросить огромное количество леса, избыточного хлеба, смолы, мехов, орехов…
– Я слышал, что шхуну затерло льдами где-то в районе Югорского Шара и отнесло к побережью Ямала, – сказал Шестаков. – Так, кажется, Константин Петрович?
– Да, так. Команде пришлось покинуть судно и возвратиться через Обдорскую тундру.
– И что, Сидоров смирился с неудачей?
– Ни в коей мере! Он отправился в Петербург, чтобы лично доказать возможность научного и коммерческого мореплавания из Европы в Сибирь и обратно. Он заявил, что готов послать судно на свои средства в устье Енисея и предложил премию в двадцать тысяч золотых рублей первому судну, которое пройдет по этому маршруту…
– Неужто двадцать тыщ не взяли?! – ахнул Иван.
– Не взяли, – сокрушенно покачал головой Неустроев. – Вот как раз тогда Литке и заявил, что у нас нет подходящих моряков. Даже Вольное экономическое общество отказалось от этой идеи. Они считали, будто только в Британии есть навигаторы и моряки для плавания в ледовых условиях…
– А коммерсанты почему отказались? – спросил Шестаков. – Они ведь не бюрократы, они ведь проворный народ?
– Отказались именно потому, что – коммерсанты. В своем проворстве они сразу сообразили, что открытие Северного прохода даст выход на мировой рынок дешевому сибирскому хлебу и лесу. Прибыли упадут! В те времена, между прочим, на весь хлеб, ввозимый из-за Урала, налагалась специальная пошлина!
– И что же Сидоров?..
– Ничего! Он не успокоился и нашел способ подать цесаревичу Александру – «покровителю флота» – докладную записку.
– Отказали небось? – уловивший настроение Соколков махнул рукой.
– Дело не только в том, что отказали. Я запомнил наизусть резолюцию, которую наложил воспитатель наследника престола генерал Зиновьев на докладную записку Сидорова…
Неустроев прикрыл глаза и четким голосом фельдфебельской команды на плацу, взмахивая по-унтерски в такт правой рукой, будто отрубая конец предыдущего предложения, прочитал по памяти:
– Так как на Севере постоянные льды и хлебопашество невозможно!.. И никакие другие промыслы немыслимы!.. То, по моему мнению и мнению моих приятелей!.. Необходимо народ удалить с Севера во внутренние страны государства!.. А вы хлопочете наоборот и объясняете о каком-то Гольфштроме!.. Которого на Севере быть не может!.. Такие идеи могут проводить только помешанные!..
– М-да-аа… – только и выдавил из себя Шестаков, а Неустроев закончил удрученно:
– Вот вам окончательное заключение государственного мужа! «Моему мнению и мнению моих приятелей»! Кто эти приятели? Ведь не Литке же, хотя он с резолюцией и согласился! Уму непостижимо!..
– И Сидоров оставил свои усилия? – ужаснулась Лена.
– Нет. Он лишь оставил усилия решить проблему с помощью царского правительства. Михаил Константинович поехал в Англию и там опубликовал свой проект в газетах, обещая все ту же огромную премию. Потом перебрался в Норвегию и увлек своим планом Норденшельда…
За окном глухо треснул ружейный выстрел, потом еще раз, гулко хлопнула пуля по стене вагона. Шестаков быстро поднялся, задул свечу, прижался лицом к непроглядно-черному стеклу. С бронеплощадки раскатисто затарахтел пулемет, рявкнуло орудие – больше, видимо, для острастки. Ходу поезд не сбавлял, и ружейные выстрелы вскоре затихли.
Шестаков уселся на место, твердыми пальцами не спеша затеплил свечу в фонаре.
– Ничего, если никаких новых чудес не случится, завтра будем в Архангельске, – пообещал он уверенно.
– Нам сразу же понадобится очень много людей, – думая о своем, отозвался Неустроев.
– Не беспокойтесь, Константин Петрович, я говорил по прямому проводу с командармом-шесть товарищем Самойло.
– Самойло будет обеспечивать военную подготовку нашей экспедиции?
– И не только военную. Он меня заверил, что у них все уже идет полным ходом.
Лена отложила книгу, которую с трудом читала при тусклом свете свечи.
– А правда, что Самойло – этакий красный Мюрат? – спросила она.
– В каком смысле?
– Я слышала, будто он до войны был безграмотным батраком и выдвинулся только в годы революции.
Шестаков расхохотался:
– История романтическая, но недостоверная. Основательно выдвинулся по службе еще предок его, Самойло Кошка, – он был гетманом запорожским и известен, помимо прочего, тем, что провел у турок в плену двадцать шесть лет, потом бежал и прославился воинскими подвигами.
– Значит, с родословной у него все в порядке, – улыбнулась Лена.
– Да, безусловно, – с полной серьезностью подтвердил Шестаков. – Что касается самого Александра Александровича, то я его очень хорошо знаю – мы воевали в этих местах почти два года.
– Так он профессиональный военный?
– И не просто профессиональный военный. Александр Александрович один из образованнейших и умнейших русских военных. Был генералом, помощником начальника разведотдела генерального штаба… – Шестаков протер платком запотевшее окно, всмотрелся в ночную темень, повернулся к Лене: – Забавно, что его непосредственным начальником был генерал-лейтенант Миллер, главнокомандующий войсками Севера…
– А что?
– А то, что теперь именно Самойло выпер Миллера из пределов Республики. С треском…
– Действительно, смешно, – сказала Лена. Помолчав, задумчиво добавила: – Как революция все на нашей земле изменила, все смешала…
– Да-a, перемешалось здесь все крепко, – кивнул Шестаков. – Помню, в прошлом году белое командование сообщило, что хотят встретиться с нами для передачи официального документа командарму Самойло. От наших пошли комиссар Чубаров, я и Иван Соколков…
– Так точно, я лично присутствовал, – авторитетно подтвердил Соколков.
Шестаков покосился на него, усмехнулся и продолжил:
– Да-a, так вот, встречаемся мы, значит, на нейтральной полосе, глядь – знакомые все лица! От миллеровцев – каперанг Чаплицкий, начальник их контрразведки, и лейтенант Веслаго – мы с ними служили в минной дивизии в Або-Аландских шхерах…
Лена вздрогнула, быстро взглянула на отца, но Шестаков, не обратив на это внимания, продолжал неторопливо рассказывать:
– Мы все от неожиданности растерялись. Потом Чаплицкий мне говорит: «Гражданин комиссар, или как вы там нынче называетесь, мне поручено передать вашему командующему, обер-предателю русского народа, смертный приговор Высшего военного трибунала Северного правительства. Приговор вынесен заочно и будет приведен в исполнение незамедлительно после ареста Самойло…»
Снова вмешался Иван Соколков:
– Я тогда сразу сказал Николаю Палычу: раз мы эти… как его… парамен…
– Парламентеры, – подсказал Шестаков.
– Ага, парламентеры. Дык вот, раз, говорю, мы парламентеры, то давайте сразу и пристрелим их, шкур недобитых, белогвардейских!
Лена испуганно посмотрела на него, но Иван сокрушенно развел руками:
– Николай Палыч, конечно, против: нельзя, говорит, врагов, говорит, честные люди убивают в бою. У нас с тобой – дипло-ма-ти-чес-кая миссия. Мис-си-я!
– Ну и как же вы поступили? – сухо, с неожиданным ожесточением спросила Лена.
Шестаков пожал плечами:
– Я сказал Чаплицкому, что его смелость превосходит здравомыслие: максимум через полгода все вы будете пленными командарма Самойло.
Лена как бы из вежливости, без любопытства, сказала:
– А что он?..
– А он за это пообещал меня повесить на одном фонаре с командармом. Я, разумеется, душевно поблагодарил за честь, и мы расстались.
– И что же с ними стало? – так же вежливо и спокойно спросила Лена. Безразлично, как о чем-то малозначительном, совсем неинтересном.
Шестаков удивился:
– С этими, Чаплицким и Веслаго? Понятия не имею. Скорее всего, бежали вместе с Миллером. Чаплицкий, насколько мне известно, заправлял у Миллера всеми делами в последнее время. А почему вы об этом спрашиваете, Елена Константиновна?
– Да так, просто показалось любопытным… Чаплицкого я знала когда-то, во времена незапамятные…
Лена плотнее запахнула шубку и раскрыла книгу, пододвинув ее поближе к свече…
Скрипя сапогами по плотно слежавшемуся снегу, Чаплицкий и ротмистр Берс направились из старого архангельского порта через задворки Саломбалы в город. Берс натужно кашлял, на ходу задыхался.
– Я, кажется, совсем разболелся, – пожаловался он Чаплицкому.
Думая о чем-то своем, Чаплицкий пробормотал:
– Терпите, Берс, терпите. Скоро мы будем в тепле. Там я вас вылечу…
Берс, покосившись на Чаплицкого, сказал с неуверенным смешком:
– Когда вы так говорите, дорогой друг, я начинаю думать, что вы пропишете мне порошок Бертоле.
Чаплицкий удивился:
– Порошок Бертоле?
– Ну да! Лучшее успокаивающее средство – это сухой черный порошок.
Чаплицкий засмеялся:
– У вас действительно не в порядке нервы. Я собираюсь лечить вас проверенными народными средствами.
– Прекрасно! В учении Заратустры соискатель на лекарское звание должен был вначале вылечить трех пациентов из низшей касты – врагов Агура-Мазды…
– Эту ступень я одолел давным-давно, – скромно сказал Чаплицкий. – А дальше что?
– Только после этого лекарь мог практиковать и в высшей касте – среди друзей Агура-Мазды…
Чаплицкий молча слушал. Остановившись, чтобы прокашляться, Берс воздел палец:
– Не забывайте, что по своему положению и происхождению я друг Агура-Мазды!
Чаплицкий ухмыльнулся:
– По своему положению вы беглый белогвардеец и враг революции. Ясно? Пошли!
Они двинулись дальше, и Чаплицкий продолжил:
– Поэтому…
– Стой! Кто идет? – И вместе с криком прямо перед ними из темноты вырос патруль: солдат с винтовкой наперевес и мужик в сером драном азяме.
У мужика в руках было старое охотничье ружье. Он вгляделся в путников и требовательно спросил:
– Пароль?
Чаплицкий, отодвигая назад Берса, выступил вперед:
– Знамя! Свои, товарищи!
Солдат кивнул, и Чаплицкий быстро сказал:
– Мы из ЧК. Здесь несколько минут назад мужчина с женщиной в белом платке не проходили?
Солдат задумался:
– В белом платке? Баба?.. Чегой-то не видали. А вы пропуск свой мне все-таки покажьте. Не обижайтесь, граждане чекисты, время как-никак военное…
Чаплицкий простецки засмеялся:
– А чего ж обижаться? Наоборот, хвалю за революционную бдительность. Вот мой мандат…
Он протянул солдату бумажку, тот взял ее в руки, приблизил к глазам, чтобы получше рассмотреть в темноте.
В тот же миг Чаплицкий выхватил из кармана кастет-револьвер и со страшной силой ударил патрульного в переносицу. Быстро переступил через осевшее тело и в длинном беззвучном прыжке достал выскочившим из рукоятки «лефоше» лезвием мужика в драном азяме. В горло.
Захлебнулся мужик кровяным бульканьем и, заваливаясь круто на спину, сипло выдохнув, успел напоследок выстрелить из старой кремневки вверх, в зябко дрожащие, неуверенные звезды…
Чаплицкий тихо скомандовал:
– За мной, быстро!
Они побежали по темному проулку, хрипло, загнанно продыхиваясь. Визжал под ногами плотный снег.
И в молчаливой устремленности затравленных хищников ощущалась смертельная угроза.
Бежали долго, и, когда Берс остановился, поняв, что в следующую секунду он умрет, Чаплицкий шепнул:
– Здесь! Сможете перелезть через забор?
Берс молча покачал головой.
– Влезайте мне на спину!
Чаплицкий подсадил, поднял, резко подтолкнул ротмистра, потом подпрыгнул сам.
Подтянулся на руках, рывком перемахнул через саженный заплот.
Упал в сугроб, вскочил, несильно пнул ногой Берса:
– Не сидите на снегу! Застудитесь. Вставайте! Ну, вставайте – мы пришли…
Зала – главная горница крепкого дома бывшего купца Солоницына Никодима Парменыча – была непроходимо заставлена разностильной мебелью, забита до отказа дорогой утварью и украшениями.
Павловский буфет, а в нем корниловский и кузнецовский фарфор, чиппендейл с тарелками из орденских сервизов, гамбсовские пуфы, шереметевские резные буфеты с яйцами Фаберже. На стенах – ростовская монастырская финифть вперемешку с лубочными олеографиями.
Чаплицкий и Берс сидели за богато накрытым столом и смотрели на все это с изумлением, как рассматривают геологи откос рухнувшего берега с обнажившимися слоями наносного грунта, – здесь так же отчетливо были видны пласты добра, собранного после схлынувших волн белогвардейского бегства через Архангельск.
Чаплицкий поднял рюмку:
– Ваше здоровье, Никодим Парменыч!
– Заимно! – Солоницын солидно прикоснулся бокалом к офицерским рюмкам, проглотил коньяк, густо крякнул, вытер усы. Закусил маринованным груздем.
Офицеры ели жадно, торопливо, давясь непрожеванными кусками.
Солоницын внимательно смотрел на них, еле заметно, в бороду усмехался. Подкладывал, дождавшись перекура, спросил Чаплицкого:
– Ну-с, Петр Сигизмундович, теперя, можно сказать, закончились ваши дела здеся?
Чаплицкий прожевал кусок копченого угря, по-простому вытер губы куском хлеба, проглотил его, затянулся табачным дымом, неторопливо ответил:
– Нам с вами, Никодим Парменыч, как людям глубоко религиозным, отныне и присно надлежит смиренно внимать божественным откровениям отцов церкви…
Солоницын степенно склонил голову.
Чаплицкий продолжал:
– Святитель казанский Гурий указывает нам: «Подвизаться должно, несмотря ни на какие трудности и неудобства, чинимые сатаной…»
Солоницын засмеялся, погладил себя по вислому, гусиным яйцом, животику, сказал дорогому гостю добро, предостерегающе, отечески:
– Эх, Петр Сигизмундович, ваше благородие! Шибко прыткий ты господинчик. Все тебе укороту нет! А ведь комиссары-то, пропади они пропадом, чай, тоже не дремлют?
– Думаешь? – вскинул брови Чаплицкий.
– А как же? Они шастают и рыщут, как псы исковые! Гляди, отловят тебя – панькаться не станут. Сразу на шибеннице ножками задрыгаешь…
– А сам-то, Никодим Парменыч, комиссаров нешто не боишься?
– Бояться-то боюсь, конешно. Но все ж таки я не охфицер, как-никак, не контра. Я человек тихий, торговый. А без торговли при всех властях жисти промеж людей быть не может. Устаканится все помаленьку, глядишь, снова можно будет покумекать – што да как…
Чаплицкий посмотрел на Берса, которого развезло в тепле, и спросил купца:
– А мне чего посоветуешь? Как жить подскажешь?
Солоницын сказал веско:
– У тебя, ваше высокоблагородие, один путь: через чухонскую границу на Запад драпать.
– А чего так? – лениво поинтересовался Чаплицкий, с удовольствием раскуривая вторую толстую сигарету с золотым обрезом, английского происхождения. – Может быть, и мне подождать, пока все устаканится?
Солоницын даже со стула поднялся:
– Петр Сигизмундович, голубь ты мой, упросом тебя прошу, послушай старика. Обогрелись – поспите чуток, харчишка я вам в дорогу соберу, и берите ноги в руки! – Для убедительности он прижал короткие толстые ручки к сердцу: – Петр Сигизмундович, дружка твоего – ладно, не знаю я, а ты, хотя и молодые годы твои, кровушки людской рекой пустил! Не дай бог большевичкам в руки попасть. Они тебе вспомянут…
– Вот так, значит? – серьезно, задумчиво переспросил Чаплицкий. – Ай-яй-яй… Вы слышали, геноссе Берс? Оказывается, наше дело – табак. У вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
Берс приоткрыл осоловевшие глаза:
– Я согрелся, сыт, слегка пьян и потому спокоен. Ибо сутры Прагна Парамита утверждают, будто вся наша жизнь есть очень, очень долгий сон с повторяющимися сновидениями, прекрасными и кошмарными.
– Замечательно! – Чаплицкий гибко поднялся из глубокого кресла и показал рукой на Солоницына: – В таком случае внимательно взгляните на этого постного старичка, похожего на туза треф…
Солоницын обиженно зажевал губами, а Чаплицкий, прогуливаясь по горнице, спокойно продолжал:
– Я знаю Никодим Парменыча много лет. Был он маленький лавочник, пустяковый человечек, просто паршивенький дедушка. Так бы и сгнил со временем, если бы не я – настоящий, вдумчивый искатель в сердцах людских. Я открыл на пользу всему человечеству его дарование…
Берс заинтересовался:
– Дарование? Какое же?
– Никодим Парменыч – гениальный шпик и талантливейший провокатор!
Солоницын вздрогнул, быстро перекрестился. Его ноздреватое, желтое, как подсохший лимон, лицо начало медленно сереть. Снова перекрестился.
Чаплицкий театральным жестом указал на него:
– Во-во-во! Смотрите, Берс, сейчас будет приступ благочестия. Вот так же он обмахивался, когда я приказал расстрелять политически неблагонадежных рабочих на его лесопильном заводе. Конечно, по его просьбе: не надо платить жалованье за полгода, а остальным можно снизить ставки…
Берс укоризненно покачал головой:
– Ай-яй-яй! Кто бы мог подумать!..
А Чаплицкий заверил:
– Вы не можете себе представить, Берс, что в этом богобоязненном старце клокочет гордыня Рябушинского и тщеславие Форда. При моем содействии за три года он купил… – Чаплицкий принялся неторопливо загибать пальцы: – Лесозавод, причал, свечную фабрику, буксир, четыре лихтера и трактир в порту…
Чаплицкий остановился рядом с Солоницыным:
– И все на чужие имена. Правильно я говорю, Никодим Парменыч, ничего не забыл?
Солоницын прикрыл глазки, пожал плечами: говори, мол, говори.
Не обращая на это внимания, Чаплицкий сказал не без гордости:
– Должен вам заметить, герр Берс, что этот лапоть, этот серый валенок подготовил мне лучших доносчиков и соглядатаев… – И снова обратился к купцу: – Все их рапорты вместе с вашими, Никодим Парменыч, записочками пока припрятаны.
– Это вы к чему, ваше высокоблагородие? – ершисто спросил Солоницын.
– Это я к тому, многоуважаемый господин Солоницын, что вы напрасно собрались дожидаться мира и благодати при большевичках. Вы солдат армии, из которой можно демобилизоваться, только померев. Уйдя в мир иной. Преставившись, так сказать. Все поняли?
Солоницын покорно склонил голову:
– Должон был понять. Што тут не понять. Значится, теперя прикажешь мне по ночам на улицах бегать да комиссаров стрелять? Али штаб ихний поджечь?
– Вот это я без вас управлюсь, – засмеялся Чаплицкий. – Ваша другая задача. Мы теперь будем жить у вас, пока вы нам другое жилье, поспокойней, не подыщете. Это раз. Во-вторых, срочно приготовьте мне – к завтрему – четыре тысячи рублей…
– В «моржовках» али в нынешних? – деловито спросил Солоницын.
– «Моржовками» и нынешними можете оклеить вот эту свою уютную гостиную. Я человек крепких взглядов – нужны золотые николаевские червонцы.
Солоницын покачал мясистым клювом:







