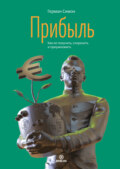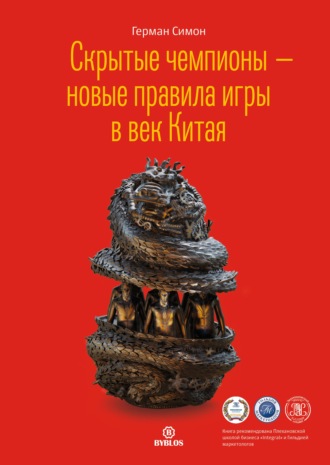
Герман Симон
Скрытые чемпионы – новые правила игры в век Китая
Продуктивность
Не так давно группа профессоров Гарвардской школы бизнеса приехала в Европу, чтобы посетить немецких скрытых чемпионов. Эти профессора пришли к единодушному мнению, что скрытые чемпионы Германии «одержимы продуктивностью». Стабильный рост продуктивности ведет к снижению трудовых затрат на единицу продукции, а это приносит выгоду скрытым чемпионам, особенно по сравнению с их европейскими соседями. Гарвардские профессора также отметили, что «скрытые чемпионы стараются каждый день делать что-то лучше». Майкл Портер подчеркнул тесную взаимосвязь между жесткой внутренней конкуренцией и неоспоримым конкурентным преимуществом на международном уровне[70]. Треть скрытых чемпионов утверждают, что их самые большие конкуренты находятся в Германии, зачастую в соседнем регионе. Эта тесная конкуренция стимулирует продуктивность и способствует успешному экспорту и конкурентоспособности скрытых чемпионов Германии.
Региональные экосистемы
Многие регионы Германии отличаются многовековыми компетенциями, которые до сих пор не утратили своей актуальности и даже процветают на современных рынках. Выражаясь современным языком менеджмента, они представляют собой отраслевые, или бизнес-экосистемы. Часы всегда изготавливались в Шварцвальде, и производство часов считается «ключевым компонентом современного индустриального века»[71]. Эта традиция породила более 500 компаний в регионе Шварцвальд, специализирующихся на медицинских технологиях. Или возьмем университетский город Геттинген на севере Германии. Почему в этом небольшом городке 39 производителей измерительного оборудования? Объяснение следует искать на математическом факультете Геттингенского университета, который на протяжении веков имел мировую известность. Почти все 39 компаний в Геттингене опираются на принципы, открытые Карлом Фридрихом Гауссом и другими знаменитыми математиками. Бывший член совета директоров Siemens Эдвард Крубасик отметил: «Чтобы преуспеть в XXI веке, Германия использует технологическую базу, уходящую корнями в Средние века».
Центральное местоположение
Даже в глобализованном мире расстояния и часовые пояса не теряют своего значения. Если говорить о геостратегических аспектах, немецкоговорящие страны имеют идеальное местоположение. Связь с Японией и Калифорнией возможна в обычные рабочие часы, и длительность поездки в самые важные деловые центры мира меньше, чем для азиатов и американцев. Даже в рамках Европы немецкоговорящий регион имеет центральное местоположение. Это колоссальные преимущества в глобализованном мире.
Ментальная интернационализация
Международный бизнес требует широких культурных горизонтов. Все начинается с языка. «Лучший язык – язык клиента», – сказал Антон Фуггер еще в Cредние века. Индекс владения английским языком, охватывающий 100 стран, ставит Нидерланды на первое место, затем идут другие небольшие страны, такие как Швеция и Сингапур[72]. Среди стран с населением более 50 млн человек Германия занимает лидирующее положение с общим рейтингом 10, значительно опережая Францию (31), Испанию (35), Италию (36), Россию (48) и Японию (53)[73].
Индекс глобальной интеграции, составленный DHL, подтверждает эту картину. Нидерланды, Сингапур и Швейцария занимают первые три места. Среди крупных стран только Великобритания (9-е место) обгоняет Германию (10-е место), далее с большим отрывом идут Франция (15-е), Испания (21-е) и Италия (26-е)[74]. Скрытые чемпионы «мыслят глобально». Компания Rational, лидер мирового рынка профессионального кухонного оборудования, предоставляет свою информацию на 59 языках.
Сделано в Германии
Маркировка «сделано в Германии» стала признаком высочайшего качества, и это сильно помогло скрытым чемпионам Германии в процессе глобализации. «Сделано в Швейцарии» ценится также высоко[75]. Однако лишь немногие знают происхождение этой фразы – «сделано в Германии». Впервые эту маркировку ввели британцы в 1887 году как признак низкого качества немецкой продукции! Прошло почти 150 лет, и «сделано в Германии» возглавляет рейтинг стран-производителей, получив 100 баллов, а сразу за ним идет «сделано в Швейцарии» (99 баллов). Маркировка «Сделано в Австрии» получила 72 балла, есть что совершенствовать[76].
Новые правила игры под названием «Глобализация»
Глава 11
Тернистый путь в Глобалию
Моя книга 2012 года называется «Скрытые чемпионы – прорыв в Глобалию». Что произошло с Глобалией с тех пор? После мирового экономического кризиса, завершившегося в 2010 году, глобализация развивалась не так гладко, как раньше. Кардинальные изменения поставили ее в тяжелое положение, а кризис, вызванный Covid-19, еще больше усугубил ситуацию.
В этой главе мы рассмотрим развитие глобализации за последние годы. Сохранятся ли эти тренды или они даже усилятся – тема следующей главы.
Мировой экспорт на душу населения
Как правило, мировая торговля и экспорт считаются самыми актуальными признаками глобализации. Рисунок 11.1 показывает глобальный экспорт на душу населения за довольно длительный период времени. Этот долгосрочный обзор показывает удивительную динамику глобальной экономики. Тенденции с начала XX века позволяют надеяться на весьма благоприятные условия развития для глобализации.

Рис. 11.1. Изменение глобального экспорта на душу населения с 1900-х годов, $
В 1900-х годах экспорт в расчете на душу населения был близок к нулю ($6). Из-за двух мировых войн понадобилось 50 лет, чтобы этот показатель вырос до скромных $23. За следующие 30 лет экспорт на душу населения вырос в 20 раз и составил $437. Несмотря на внушительные результаты, он вырос более чем в 2 раза с 1980 по 2000 годы и затем снова более чем в 2 раза к 2019 году. Следует помнить, что это данные на душу населения. В 1900-х годах мировое население составляло 1,6 млрд человек; сегодня это уже 7,8 млрд. Если считать в долларах, сегодняшний глобальный экспорт почти в 2000 раз больше, чем всего век назад[77].
Мировой экспорт с 1990 года
На рис. 11.2 мы видим обзор экспорта за короткий период времени, с 1990 года[78].

Рис. 11.2. Развитие мирового экспорта с 1990 года
Экспорт вырос в 5,4 раза за последние 30 лет, с 1990 года. Это соответствует ежегодному росту на 6 %. Рисунок 11.2 показывает две отдельные фазы.
С 1990 по 2008 годы, когда начался мировой экономический кризис, ежегодный рост прочно держался на отметке 9,4 %. За 11 лет, с 2008 по 2019 годы, общий рост составил всего 17 %, что соответствует ежегодному росту в 1,6 %. За 8 лет, с 2011 по 2019 годы, ежегодный рост мирового экспорта почти не менялся (0,4 % в год).
В дополнение к этой картине рис. 11.3 показывает, как показатели роста мирового экспорта менялись относительно темпов роста мирового ВВП. Коэффициент двух процентных величин – в данном случае двух показателей роста – называется эластичностью. Рисунок 11.3 показывает эластичность торговли, то есть как меняется мировой экспорт относительно изменений мирового ВВП[79].

Рис. 11.3. Соотношение роста мирового экспорта и роста мирового ВВП (эластичность торговли)
Проанализировать средние показатели эластичности торговли очень полезно. С 1990 по 1999 годы эластичность торговли превысила показатель 2, то есть рост экспорта обгонял рост ВВП более чем в 2 раза. С 2000 по 2009 годы эластичность торговли упала примерно до 1,5, то есть мировая торговля росла только на 50 % быстрее, чем мировой ВВП. Изменения за 1990–2010 годы иначе как «гиперглобализацией» и не назовешь[80]. Однако с 2010 года темпы роста этих двух параметров практически совпадали. С 2014 года эластичность торговли оставалась значительно ниже 1.
Из этой информации можно сделать следующий вывод: двигатель глобализации заглох. Вот уже несколько лет мировой экспорт растет медленнее, чем мировой ВВП. Хотя нельзя говорить о деглобализации как таковой, совершенно точно можно говорить об «относительной деглобализации». Это важная тенденция, особенно для стран, ориентированных на экспорт, таких как Германия, Австрия и Швейцария, а также для скрытых чемпионов. Эта тенденция началась несколько лет назад, еще до Трампа, Брексита, роста пошлин, жестких санкций и краха мировой цепочки поставок из-за Covid-19.
Если подобные или схожие тенденции продолжатся, они затруднят мировую торговлю, и темпы роста уже никогда не вернутся к показателям гиперглобализации. Это может даже привести к сокращению объемов продаж.
Структура международной торговли отличается высокой динамикой, и ее трудно прогнозировать. Думаю, правильнее говорить о «структурных процессах», а не одной конкретной, незыблемой структуре. Скрытые чемпионы должны подстроить свои глобальные стратегии под эти стремительно меняющиеся структурные процессы и пройти через трансформацию. В главе 13 мы обсудим, как эти структурные процессы повлияют на будущий экспорт.
Мировой экспорт услуг
Картина глобализации будет неполной, если учитывать только экспорт товаров. В 2018 году США возглавили экспорт услуг с €549 млрд, за ними шла Великобритания с €312 млрд. Германия заняла третье место с €245 млрд, а Китай четвертое с €147 млрд[81]. Рисунок 11.4 показывает изменения мирового экспорта услуг с 1990 года[82].

Рис. 11.4. Мировой экспорт услуг в абсолютных значениях и в виде процента от мирового ВВП
С 1990 года мировой экспорт услуг вырос в 6,91 раза. Ежегодный рост в 6,9 % превосходит рост экспорта товаров примерно на 1 %. В 1990 году экспорт услуг составил 25,6 % от общего экспорта; к 2019 году его доля составила уже 32,5 %. Так ценность экспорта товаров все еще более чем в 2 раза превышает ценность экспорта услуг.
Доля экспорта услуг относительно ВВП почти удвоилась с 1990 года, с 7,7 до 13,3 % в 2019 году. За последние 10 лет она тоже выросла, с 11,6 до 13,3 %. С 1990 по 2019 годы эластичность роста экспорта услуг относительно роста ВВП составила 1,5, то есть темпы роста экспорта услуг на 50 % выше, чем темпы роста ВВП за этот период. Кроме того, в последние 5 лет торговая эластичность экспорта услуг – в отличие от эластичности экспорта товаров – составляет 1,67, что значительно выше 1. Это означает, что экспорт услуг растет быстрее, чем экспорт товаров и ВВП.
Следует отметить, что экспорт услуг невозможно рассматривать как явление в полной мере независимое от экспорта товаров. С одной стороны, экспорт товаров предполагает важный компонент услуг – таких, как планирование, сборка, транспортирование, страхование и тренинг. Министерство экономики Германии определяет эту долю в 39,3 %[83]. Более того, экспорт товаров стимулирует спрос на экспорт услуг. Согласно данным статистической службы Евросоюза Eurostat, этот параметр составляет около 25–30 % и повышается[84]. Что касается скрытых чемпионов, эта доля даже выше благодаря масштабам ноу-хау, вложенных в их продукцию. Более того, многие из этих лидеров рынка стремятся обогатить свое предложение новыми услугами. Дигитализация способствует этим стремлениям.
Прямые иностранные инвестиции
Третий, крайне важный, путь к глобализации – прямые иностранные инвестиции (ПИИ). На рис. 11.5 показаны изменения глобальных ПИИ с 1990 года[85].
ПИИ были сильнейшим стимулом глобализации в течение 17 лет с 1990 по 2007 годы. На их пике в 2007 году ценность глобальных ПИИ выросла в 10,8 раза и составила $3,197 трлн по сравнению с $278 млрд в 1990 году. Это дает ежегодный рост в 16 %, что намного превосходит темпы роста экспорта товаров и услуг. Эластичность прямых инвестиций относительно ВВП за этот период составила 2,56, то есть прямые инвестиции росли примерно в 2,5 раза быстрее, чем ВВП.
С начала мирового экономического кризиса в 2008 году ПИИ демонстрировали хаотичную, устремленную вниз траекторию. После двух максимальных значений в 2011 и 2015 годах, составивших около $2,2 трлн каждое, ПИИ упали до $1,1 трлн в 2019 году. С 2007 по 2019 годы эластичность инвестиций составила –2,47, следовательно, на каждый процент роста ВВП рост ПИИ сокращался на 2,47 %, а это весьма негативная тенденция. В этот период мы действительно видим деглобализацию. Однако не следует забывать, что годовые прямые инвестиции – переменная денежного потока, повышающая соответственный запас ПИИ. Этот запас вырос почти в 2 раза в период с 2007 года ($18,6 трлн) до 2019 года ($34,6 трлн)[86]. Это наблюдение более актуальное, чем годовые показатели, и оно говорит о том, что глобализация достигла значительного прогресса относительно прямых инвестиций. Однако этот прогресс столкнулся с серьезными препятствиями. В главе 13 мы вернемся к роли прямых инвестиций, которую они могут сыграть в будущем глобализации и скрытых чемпионов.

Рис. 11.5. Глобальные прямые иностранные инвестиции с 1990 года
Глава 12
Кво вадис, Глобалия: население и экономика
В предыдущей главе мы заглянули в прошлое, чтобы проанализировать положение Глобалии в начале 2020-х годов и причины, которые привели к этому. Теперь обратим свой взгляд в будущее и постараемся понять, что ждет мировое население и экономику в ближайшие несколько десятков лет.
Я говорю «постараемся», поскольку нет точных ответов на вопрос: «Кво вадис, Глобалия?» (Камо грядеши? или Куда идешь?). Несмотря на множество публикаций, никто не может сказать, какую роль сыграют последствия Covid-19. Вполне вероятны экстремальные явления. В худшем случае будет несколько волн пандемии, вирус продолжит мутировать и вгонит мировую экономику в депрессию на многие-многие годы. Согласно оптимистическому сценарию, не будет новых волн инфекции, вакцинация окажет длительное положительное воздействие на ситуацию и удержит вирус от распространения. В таком случае кризис, вызванный Covid-19, станет временным сбоем без долгосрочных последствий для мировой экономики.
В этой главе мы рассмотрим долгосрочные демографические (касающиеся населения) и экономические тенденции. Хотя Covid-19 может ускорить, увеличить или ослабить эти тенденции, сомневаюсь, что в долгосрочной перспективе пандемия внесет в них кардинальные изменения. Глобалия продолжает расти и укрепляться относительно населения и экономики. Важный вывод этой главы заключается в том, что следует ожидать значительных расхождений между ростом населения и ростом экономики.
Динамика населения
Динамика населения оказывает сильное влияние на экономический рост и мощь региона или страны. В настоящий момент мировое население растет на 83 млн человек в год. Согласно прогнозам ООН, в 2030 году на земле будет 8,6 млрд человек, а в 2050 году 9,7 млрд. Это соответствует ежегодному росту на 0,75 %. Рисунок 12.1 показывает последние прогнозы ООН относительно роста мирового населения к 2050 году по выборочным регионам и странам[87].

Рис. 12.1. Мировое население к 2050 году
В 2050 году 55 % всего населения будет жить в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 26 % в Африке. Это нужно осознать. Более четырех пятых человечества будет жить в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. На Европу придется всего 7,3 % мирового населения, а на Северную и Южную Америку вместе – 12,2 %. Индия станет самой густо населенной страной – 1,6 млрд человек, обогнав Китай на 242 млн, или на 17 %. Африку ждет самый большой рост, ее население почти удвоится с сегодняшнего 1,34 млрд до 2,49 млрд в 2050 году. Население других регионов будет расти скромнее или даже сократится. Согласно прогнозам, Японию ждет самый значительный спад населения в 20 млн, или 16 %. Прогноз ООН, предложенный на рис. 12.1, – так называемый «средний вариант», самый вероятный, по мнению экспертов ООН. Эти цифры необходимо учитывать политикам, бизнесу и отдельным компаниям, включая, конечно же, скрытых чемпионов.
Хотя прогнозы относительно роста или сокращения населения считаются сравнительно надежными, некоторые эксперты не доверяют оценкам ООН. В своей книге «Пустая планета – шок сокращения мирового населения» авторы Бикер и Иббитсон считают наиболее вероятным так называемый «низкий сценарий»[88]. Чарльз Гудхарт и Монаж Прадхан придерживаются схожего мнения в своей книге «Великий демографический переворот: стареющее общество, затухающее неравенство и возвращение инфляции»[89]. Аргументы, изложенные в этих книгах и утверждающие, что урбанизация и более высокий уровень образования женщин ведут к значительному сокращению рождаемости, звучат убедительно, на мой взгляд. «Низкий» сценарий по сравнению со «средним» утверждает, что женщины рожают на 0,5 меньше детей. Это значит, что к 2050 году мировое население составит 8,5 млрд, а не 9,7 млрд, а затем начнет сокращаться. В Китае этот спад будет значительным. Бикер и Иббитсон утверждают: «К 2100 году население Китая сократится до 754 млн. Население Китая может сократиться почти наполовину в этом веке»[90]. Я также сомневаюсь в прогнозах ООН относительно Германии. На мой взгляд, в 2050 году население Германии составит 93 млн человек, а не 80 млн, как прогнозирует ООН. С 2014 года население выросло на 2 млн. Если продолжится ежегодный прирост в 300 000 человек, вызванный иммиграцией, в 2050 году население Германии составит 93 млн человек[91].
В любом случае мировое население будет расти, и основная концентрация населения будет сдвигаться к Африке и Азии. Отдельные регионы и страны будут развиваться совершенно по-разному. Стратегия скрытых чемпионов должна адаптироваться к этим изменениям.
Экономическая мощь и рост
Рост населения далеко не всегда означает рост экономической мощи. Тридцатилетний прогноз экономического роста и уровня ВВП, основанный только на прогнозах роста населения, был бы чистой воды умозрительным. Мы ограничиваем наши экономические прогнозы ближайшими десятью годами, то есть до 2030 года, и это также реалистичный горизонт планирования для многих компаний. Рисунок 12.2 показывает прогнозы по ВВП Всемирного банка по отдельным регионам и странам на 2030 год[92]. ВВП на 2030 год показан на вертикальной оси, а абсолютный рост ВВП с 2019 по 2030 годы – на горизонтальной оси.

Рис. 12.2. ВВП и его рост к 2030 году
Мировой ВВП вырастет на 34,7 % – с $84 трлн в 2019 году до $113,2 трлн в 2030-м. Этот рост на $29,2 трлн в абсолютных значениях означает, что в ближайшие 10 лет глобальная экономика увеличится на полторы экономики США. США будут по-прежнему занимать лидирующее положение по ВВП в 2030 году, в то время как Китай будет неоспоримым лидером роста. Экономическая мощь и рост и дальше будут сосредоточены лишь в нескольких регионах. На долю «первой глобальной лиги», куда входят США, Китай и Евросоюз, придется 54,4 % мирового ВВП в 2030 году. Доля первой лиги в росте ВВП почти идентична и составляет 53,5 %, причем более половины приходится на Китай[93].
В 2030 году «вторая глобальная лига», куда входят Великобритания, Япония, Бразилия, Индия, Россия, Африка и Средний Восток (Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Турция), возьмет на себя 26,9 % мирового ВВП. Доля в росте мирового ВВП составит примерно столько же – 27 %. Рост второй лиги не такой высокий, как ожидалось, и причин несколько. Япония и Великобритания начинают с высокого уровня ВВП, но у них низкий рост. Остальные страны лиги показывают более высокие темпы роста, но начинают с низкого показателя. Россия показывает самый слабый рост в абсолютных значениях – $415 млрд (+23,7 %). Африка растет на 47,5 %, но в абсолютных значениях ее рост составляет всего $1,201 трлн из-за низкой отправной точки. Это всего 13 % от роста Китая и 29,7 % от роста США.
Расхождения между ростом населения и ростом экономики
Как же ответить на вопрос «Кво вадис, Глобалия?» относительно населения и экономики? Что важнее для компании, размер населения или его покупательская способность, зависит от продукции, которую она продает. Если компания продает дешевые смартфоны, можно руководствоваться размером населения. Даже в бедных странах почти каждый потребитель покупает мобильный телефон. Напротив, ВВП – более актуальный параметр привлекательности рынка, если компания производит сложные медицинские технологии. В конечном итоге возможности для бизнеса и роста, предложенные страной, зависят и от населения, и от роста ВВП. Хотя население Африки почти удвоится к 2050 году, ее доля в мировом ВВП вырастет минимально с 3,0 до 3,3 % в ближайшие 10 лет. Экономическая мощь останется в руках первой глобальной лиги – и относительно уровня развития, и, к сожалению, относительно роста (с социальной точки зрения).
Covid-19 может усилить эти расхождения. Как показал опрос экономистов в США, 62 % считают, что пандемия нанесет колоссальный ущерб развивающимся странам[94]. Нравится вам или нет, битва за лидерство на мировом рынке – основная задача для многих скрытых чемпионов – будет идти в первой глобальной лиге: США, Китай и Евросоюз. Невозможно стать и остаться скрытым чемпионом без сильного рыночного положения в первой глобальной лиге. Успех во второй лиге не сможет компенсировать слабости на рынке первой лиги. Следовательно, основная цель скрытых чемпионов или компаний, которые хотят ими стать, – блеснуть в первой глобальной лиге. Чтобы остаться в первой дивизии, скрытым чемпионам придется преодолеть серьезные трудности, касающиеся глобальной организации, присутствия на рынке, инноваций и, конечно же, дигитализации. Необходимость в трансформации очевидна.