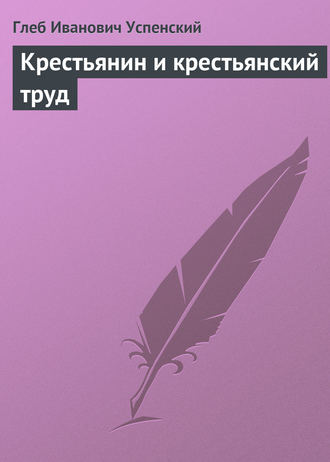
Глеб Иванович Успенский
Крестьянин и крестьянский труд
Таким образом, благодаря эпизоду с теленком, для меня раскрылось значение в мире крестьянства такой стороны земледельческого труда, которой до сих пор я не придавал почти никакого значения. Для меня стало совершенно ясным, что творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений частных и общественных. Множество явлений русской жизни, русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются, фальшиво, ложно и досадно терзают вашу наблюдательность потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, сотканного из непрерывной сети на первый взгляд ничтожных мелочей, а в чем-либо другом. Да не подумает читатель, что мы совсем устраняем «каторжную сторону труда» и желаем представить этот труд в виде непрестанного удовольствия. Но об этой стороне труда, равно как и о крупнейших особенностях крестьянской жизни, вытекающих из условий его труда, поглощающего не только силы его, но всю почти работу его мысли, мы сейчас и будем говорить с читателем.
IV. Не суйся!
«– Не суйся!..»
Признаюсь, когда эти слова мелькнули в моем сознании, мне стало как-то холодно и жутко, ибо если я не буду соваться, то что ж я буду делать, спрашивается? До сей минуты мне, напротив, самым определенным образом представлялось, что я и предназначен-то собственно для того, чтобы соваться в дела Ивана Ермолаевича, и что самый лучший жизненный результат, которого я могу желать, – это именно быть «потребленным» народною средою без остатка и даже без воспоминания, подобно тому как не вспоминается съеденный час назад кусок бифштекса. Во имя этой необходимости быть съеденным без остатка я питал глубокое почтение к тем людям, которые, стараясь всячески смирить в себе некоторые эгоистические замашки и привычки – наследие крепостного права, – не страшатся делать усилия для того, чтобы вбить себя в народные интересы, точно так, как вбивают толстый пыж в узкое дуло ружья, и которые, так сказать, заколачивают себя «туда», говоря: «Нет, любезный, у меня не уйдешь!.. Пора перестать топорщиться и разбрасываться по сторонам, а не хочешь ли вот эдак, маленьким комочком… да шомполом! да шомполом!..» И вдруг – «не суйся! Убирайся вон, делать тебе здесь нечего и соваться не в свое дело незачем!»
Эти мысли ошеломили меня, ибо доказывались целым рядом самых неопровержимых фактов, почерпнутых из самых подлинных жизненных явлений деревенской действительности. Пораженный той мыслью, что Иван Ермолаевич, кроме видимых миру слез[15], бедствий, недоимок, всевозможных притеснений и других мрачных черт, рисующих его жизнь как беспрерывное мучение и каторгу, имеет в самой глубине своего существования нечто такое, что дает ему силу переносить все эти невзгоды целые тысячелетия, и притом с такою непреоборимою безмолвностью, которая заставила умиравшего поэта почти в отчаянии воскликнуть: «не внемлет он и не дает ответа»[16], – словом, пораженный мыслью о существовании в жизни Ивана Ермолаевича того, что я не мог иначе определить, как поэзией труда, я решился самым внимательным образом (насколько, конечно, это возможно постороннему человеку) проникнуться и смыслом этого труда и выражением его в обыденных явлениях жизни Ивана Ермолаевича, словом, решился проследить его жизнь и жизнь всей его семьи в мельчайших подробностях ежедневного обихода – и вот тут-то на каждом шагу, буквально каждую минуту, меня стало преследовать роковое «не суйся!»
Не говоря уж о том, что жизнь Ивана Ермолаевича, что называется, «полнехонька» впечатлениями до краев, что, начиная с той минуты, когда он подымется до свету (конечно, вместе со всеми домашними), и кончая непробудным сном после целого дня работ и забот, у Ивана Ермолаевича фактически нет времени слушать мои разглагольствования, нет даже возможности уделить для них каплю внимания, – меня с моей разглагольственной позиции сбивала на каждом шагу, кроме сказанного, внутренняя стройность его жизни, такая стройность, в которой мне нечего ни прибавить, ни убавить. Поверхностного, самого легкого наблюдения над ежедневным обиходом описываемого мною крестьянского двора достаточно было для того, чтобы воочию убедиться, до какой степени между мною и Иваном Ермолаевичем велика разница в смысле этой внутренней стройности. В мыслях, поступках и словах Ивана Ермолаевича нет ни единого, самого мелкого, который бы не имел основания самого реального и для Ивана Ермолаевича объяснимого, – тогда как моя жизнь постоянно, на каждом шагу, переполнена и мыслями и поступками, не имеющими никакой связи… Спрашивается: зачем, например, мне знать, что испанская королева разрешилась от бремени? А я вот знаю, читаю об этом; зачем мне знать о докторе Таннере[17], о генерале Сиссэ[18], проворовавшемся с госпожой Каула, о том, что новая пьеса Сарду[19] пойдет не во Французской Комедии, а в театре Гимназии? и т. д. А я между тем именно этими-то газетными лохмотьями ежедневно утомляю собственное внимание, и зачем? чтобы немедленно забыть, чтобы завтра целые полдня употребить опять же на эти бессвязные, утомительные мысли. Положим, что, проглотив газету, я найду две-три строки, интересных для меня в точно той же степени, как бывает интересно и Ивану Ермолаевичу, но зато сколько я ежедневно приму в свою душу, вместе с интересом двух-трех строк, всякого ненужного хлама, вздора… ненужного, бессодержательного… В жизни и мысли Ивана Ермолаевича нет ничего подобного, ни одного самого крошечного пустого места, и если он поинтересовался как-то раз чудовищем, о котором публиковали в газетах, то не просто так, как интересуюсь я, читая о том, что на Васильевском острове в 5-й линии ребенок вывалился из окна, что императрица Евгения[20] поседела или что Егарев[21] пригласил новую певицу и т. д., а совершенно с определенной целью: не написано ли у чудовища на спине чего-нибудь насчет земли… Таким образом, при самых первых поверхностных наблюдениях мне стало ясным, что пестрота ежедневного обихода жизни Ивана Ермолаевича наполняет его существование фактически, и наполняет плотно, без прорех, без пустых мест. Но стройность, обнаружившаяся в глубине этой пестроты, внутренняя цельность и резонность, из которых эта ежедневная пестрота жизни слагается и на которой держится, были для меня чем-то поистине уничтожающим. Широта и основательность этой стройности выяснялись мне по мере того, как я положил в основание всей организации крестьянской жизни, семейной и общественной, – земледельческий труд, попробовал вникнуть в него подробнее, объяснить себе его специальные свойства и влияния на неразрывно связанного с ним человека. При этом, во-первых, я должен был корнем этих влияний признать природу. С ней человек делает дело, непосредственно от нее зависит; чему же она его учит?
Она учит его признавать власть, и притом власть бесконтрольную, своеобразную, капризно-прихотливую и бездушно-жестокую. В самом деле, чего только не выделывает природа над Иваном Ермолаевичем! По какому-то необъяснимому злорадству она, например, иссушает его ниву, буквально облитую потом. С беспощадною жестокостью она не день, не два, а два-три месяца подряд томит его ежеминутно, ежесекундно мыслью о голоде, о нужде, томит и молчит… Ежедневно она без всякого милосердия сулит ему дождь, урожай; с утра собираются тучи, ходят в небе станицами, громоздятся несметными массами, глыбами, сулят благодать и счастие… Нужно быть на месте Ивана Ермолаевича, чтобы понять ту чисто физическую жажду к этой туче, к этой воде, которую сулит небо, чтобы понять его страстную муку, страстную внимательность к этому небу, к этой туче… Вот, наконец, она собралась, вот она тронулась и обложила небо со всех сторон, она гремит и сверкает, она дышит влагою; Иван Ермолаевич даже собственным горлом чувствует эту воду и влагу, жаждет, жаждет – и ничего! Прошла туча! Запылила, помяла иссыхавшую ниву и ушла, бросив три-четыре громадные капли дождя точно на зло, на смех… И все это с безбожнейшим, несправедливейшим равнодушием… Терпи, Иван Ермолаевич! И Иван Ермолаевич умеет терпеть, терпеть, не думая, не объясняя, терпеть беспрекословно. Он знаком с этим выражением на факте, на своей шкуре, знаком до такой степени, что решительно нет возможности определить этому терпению более или менее точные пределы.
Но, пришибая таким образом человека, вкореняя в его сознании идею о необходимости безусловного повиновения, вкореняя эту идею как нечто неизбежное, неотвратимое, нечто такое, чего нельзя ни понять, ни объяснить, против чего немыслимо протестовать, – та же самая природа весьма обстоятельно знакомит Ивана Ермолаевича и с удовольствиями власти, то есть дает ему возможность и самому (несмотря на то, что он в рваном тулупе и рваных лаптях) ежеминутно испытывать те же самые удовольствия своего собственного могущества, которые знакомы только монарху и никому другому. Никакой чиновник, расточающий «строжайшие» предписания и свирепствующий над своими подчиненными, не понимает удовольствия «властвовать» в той степени, в которой понимает это Иван Ермолаевич. Самое большее, чего может достигнуть всякая второстепенная, самая «строжайшая» власть, – это титул «бешеной собаки», который несомненно ему дадут подчиненные, обыкновенно ненавидящие такую бешеную собаку, подчиняющиеся ей из-за нужды, из-за копейки и решительно не дающие другого объяснения своему подчинению. Да и сам «строжайший» начальник едва ли в глубине души также не именует себя «собакой», находя в этом определении и удовольствие, то есть будучи доволен тем, что вот он, благодаря бога, добился-таки высокого права быть бешеной собакой, рвать, метать и лаять… Совсем не такие удовольствия власти испытывает Иван Ермолаевич. Не «равнодушная», а бессердечная природа[22], балуя беспрекословно повинующегося ей Ивана Ермолаевича, дает ему в руки власть не бешеной собаки, а, повторяем, власть монарха, такого монарха, который повелевает только потому, что он монарх; он повелевает, не допуская даже мысли о праве повелевать, да и подданные его также не имеют привычки размышлять о том, почему именно они оказались подданными? Подданные Ивана Ермолаевича не могут задаваться такими вопросами потому же, почему и он, подданный природы, не может задаваться ими. Таким образом, и Иван Ермолаевич и его подданные находятся друг к другу в самых естественнейших отношениях. «Строжайшему» начальству необходимо свирепствовать, лаять и кусаться, чтобы знать, что «меня, мол, боятся» и, слава богу, считают, наконец, за собаку; Ивану Ермолаевичу ничего этого не надо. Иван Ермолаевич «просто» знает, что ему нельзя, невозможно не властвовать, а подданные также знают, что им нет другого дела, как повиноваться. Спрашивается, что бы могла, например, свинья сделать с своими поросятами, если бы Иван Ермолаевич не отбирал их у ней и не продавал? Самое большее, на что она способна в качестве самостоятельного деятеля, это съесть своих детей, чтобы не далеко шляться за кормом, чему бывали и бывают примеры. Что бы могла придумать курица относительно собственных яиц, если бы Иван Ермолаевич, проникнувшись ложными гуманными теориями, не стал вытаскивать из кошелки, на которой она сидит, ее яйца? Не возьмет яиц Иван Ермолаевич, придет собака «Милорка» и выпьет их; да наконец, если бы во имя гуманных теорий Иван Ермолаевич и преследовал «Милорку», отгоняя ее от беззащитных кур, что бы было, если бы последние беспрепятственно выводили своих цыплят? Ничего больше как то, что цыплята, придя в возраст, немедленно же принялись бы нести те же яйца, точь-в-точь такие, из каких они сами появились на свет, и т. д. Понуждает ли Иван Ермолаевич своих подданных на поприще такого беспрекословного повиновения и службы? Нисколько. Он их не бьет, не пишет им строжайших предписаний, ни кур, ни свиней не распекает; не употребляет никакого насилия – словом, не делает ничего, что должна делать самая строжайшая власть. Он «просто» не может даже не властвовать; не стриги он овцу каждогодно – ведь она опаршивит и издохнет; стригут ее для ее же собственной пользы; корова сделается больна, если ее не доить, и притом для ее же собственной пользы необходимо доить так, чтобы у нее не оставалось «ни капли» собственно ей принадлежащего молока; лошадь, освобожденная от хомута, есть не что иное, как саврас без узды, на которого, просто смотреть противно: жрет, лежит и опять жрет, да кроме того не имеет определенной жизненной цели, а шляясь по свету без определенных занятий, легко может забрести в болото или распороть брюхо о старый пень в лесу и издохнуть таким образом без малейшего смысла. И вот, надседаясь изо всех сил, кудахчут целый божий день куры и несутся для Ивана Ермолаевича; для Ивана Ермолаевича целый божий день, всю жизнь старается свинья, питаясь бог знает чем, влачась в грязи по горло и не получая ни малейшего поощрения, ни похвал, ни наград, кроме ударов палкой всякий раз, когда морда ее приблизится к чему-либо в самом деле питательному. Для Ивана Ермолаевича целую жизнь, не смыкая челюстей ни на мгновение, жует, жует, жует корова, для него же она беспрестанно беременна, для него же обрастает шерстью овца, для него же бьется лошадь – и все это беспрекословно, буквально без ропота и протеста, даже без тени сомнения или мысли в законности такого непрестанного подчинения. Точно так же и Иван Ермолаевич, без малейшей тени сомнения в своем праве, стрижет овцу, стегает и запрягает лошадь, выгребает из куриных кошелок яйца, доит и отбирает у коровы молоко, теленка и т. д. до бесконечности. Спрашивается: может ли Иван Ермолаевич, получающий знания непосредственно от природы, иметь хотя малейшую тень сомнения в неизбежности самой абсолютнейшей, самой прихотливой, а главное, ничем не объяснимой власти? Он знает это потому, что прихоти и капризы ее испытал на своей шкуре, в виде гнета природы; он знает ее из собственного опыта над своими бескорыстными подданными. Почему его гнетет природа, почему она его мучает, разоряет, почему она ему благодетельствует или почему он должен обирать у кур яйца, а куры должны их нести – все это неизвестно, все это тайна; но что это так, что без этого нельзя, в этом может ли быть хоть малейшее сомнение?
Из всего этого видно, что «повинуйся» и «повелевай» до такой степени прочно вбиты природою в сознание Ивана Ермолаевича, что их оттуда не вытащишь никакими домкратами. Непосредственная, постоянная связь Ивана Ермолаевича с природой, от которой он единственно почерпает все свои сведения, взгляды, вкореняя в основание всего жизненного обихода Ивана Ермолаевича эти два положения, то есть повинуйся и повелевай (пользуйся), до такой степени, как увидим ниже, последовательно продолжается и в его семейно-общинной жизни, что пошатнуть что бы то ни было во всей этой стройной организации решительно нет ни возможности, ни смысла. Но и кроме этого, если читатель признает только то, что прочность вышеупомянутых двух принципов непременно исходит из источника, не подлежащего сомнению и критике, то есть из источника не выдуманного, а действительно реального, то тогда он должен согласиться, что всякие попытки человека, имеющего о тех же вещах понятия книжные, бумажные и т. д., должны непременно оказаться бесплодными. В ответ на все такие книжные разглагольствия Иван Ермолаевич может ответить только одно: «без этого нельзя», но это «только» имеет за себя вековечность и прочность самой природы. Но этим кротким ответом колебателю основ Иван Ермолаевич может ограничиться единственно только по своей доброте; ежели же он человек не с слишком мягким сердцем, то ответ его колебателю той или другой из основ должен непременно выразиться в предоставлении этого самого колебателя к начальству, не как злодея, а просто как сумасшедшего пустомысла, который болтает зря невесть что и своими пустомысленными разговорами может вредить в таких делах, в которых не смыслит ни уха, ни рыла, полагая, что в делах этих можно что-нибудь изменить, тогда как Ивану Ермолаевичу доподлинно известно противное, что ничего тут изменить невозможно и что вообще «без этого нельзя».
Чтобы яснее видеть, с какой строгостью и последовательностью и вместе с какой безграничной покорностью Иван Ермолаевич приводит вышеупомянутые два (невыдуманных, повторяем) принципа в своей жизни и в своих семейных и общественных отношениях, обратимся к обиходу его домашней жизни. И здесь все основано и все держится на таком резонном, добровольно-неизбежном подчинении, что колебатель основ оказывается совершенно ненужным с своими гуманными разглагольствованиями. Курица, овца, свинья, корова и т. д. добровольно и беспрекословно несут свои дары в руки Ивана Ермолаевича; с своей стороны и Иван Ермолаевич добровольно встает в два часа ночи, чтобы замесить свиньям, дать корму курам и т. д., ибо если бы Иван Ермолаевич поверил разговорам колебателя основ о том, что жизнь Ивана Ермолаевича – каторга, что он встает до свету, когда другие спят на мягкой перине и ухом не ведут о трудностях жизни Ивана Ермолаевича, и, согласно этому, задумал бы освободить себя от необходимости вставать до свету, то в результате получилось бы, что куры бы перестали нести яйца, коровы перестали давать молоко, и все передохли бы, оставив Ивана Ермолаевича без всякой пользы. – «Нельзя без этого», – говорит Иван Ермолаевич, соглашаясь однако, что вставать в два часа ночи точно трудно, и колебатель основ должен согласиться с простыми, но вескими словами Ивана Ермолаевича. Такое же веское и основательное «нельзя» будет ответом на все протесты и против других, иногда в высшей степени подавляющих форм подчинения, которыми проникнута вся организация земледельческой (порядочной) крестьянской семьи. Возможно ли такой семье обойтись без власти, без большака? Мы видим, что «большак» есть именно власть над семьей, двором, домом, так как иногда, например, за смертию главы семейства и за недостатком способных людей между оставшимися после покойного членами семьи, большака выбирает мир из посторонних людей; наконец мы знаем, что не всегда старший в семье бывает и большаком: иногда, с согласия мира, большаком ставится младший, но талантливейший, способнейший. Уж из этого видно, что глава в доме, власть домашняя, нужна: этого требует опять же сложность земледельческого труда (составляющего основание хозяйства) и зависимость этого труда от велений и указаний природы. Основываясь на этом, власть большака, при самом внимательном рассмотрении, совершенно неизбежна и опять-таки ни в одном самом ничтожном проявлений не выдумана. Его нельзя не слушаться, потому что, приказывая, он сам повинуется природе, а не выдумывает приказаний с ветру. Надо идти и брать косу, надо идти доить, надо везти навоз – все, что ни требует он, все только потому, что надо, он знает, кого на какую работу поставить, он знает силы семейных работников, он знает их нужды, знает – сколько надо семье хлеба, сколько корму скотине, словом, он блюдет не собственный интерес, а интерес всех. Его нельзя не слушаться, ибо у него есть общий план, основанный на знакомстве и с силами и с средствами семьи; он меньше работает физически, но больше думает, у него больше заботы, чем у каждого члена семьи отдельно. В то время, когда Иван пашет, Матрена доит коров, словом, в то время, когда всякий делает свое дело, большак думает о том, сколько на семью надо полушубков, сапог, рубах, сколько есть в семье денег; едет рядиться на работу или просит у мира прибавки или убавки земли. Все его заботы, распоряжения, хлопоты клонятся к общему благу семьи, и на этом основании все, даже, повидимому, бесчеловечные распоряжения большака, при внимательном исследовании, оказываются вполне основательными, а главное, сделанными прямо с согласия этих же самых жертв (на мой взгляд) бесчеловечия. Начитавшись разных чувствительных романов и набивши голову разными эмансипациями, я вот, например, «возмущаюсь» (слово взято, также из романов) тем, что брат-большак не выдает свою сестру Паланьку замуж. Семь лет кряду за нее сватаются отличнейшие женихи, бравые парни, а брат все отказывает. – «Отчего ты, Пелагея, не выходишь замуж? Ведь уж пора!..» – спрашиваю я аккуратно в год раз и через год, приезжая в деревню. И всякий раз она отвечает мне: «Мне уж давно бы замуж-то надо, да братец не отдает!» – «Да какое же имеет кто бы то ни был право насильно не отдавать тебя замуж? Разве имеет человек право держать другого человека в кабале?» – вопию я, и читатель может представить себе, что я на эту тему могу вопиять сколько угодно, особливо если я прибавлю, что на вопрос мой: «Нравились ли тебе женихи-то?» Пелагея отвечает: «У меня хорошие были женихи…» и вздыхает. Но по ближайшем рассмотрении этого дела тиранства в нем не оказывается ровно никакого. «Никак нельзя было отдать, – объясняет брат Паланьки, якобы тиран. – В прошлом году падеж был, разорились на скотину, не с чем было отдавать, в нонешнем двух лошадей прикупили, опять без денег. Лошадей прикупили потому, что землю арендовали у помещика соседнего, пять десятин, а землю арендовали потому, что своей мало, нехватает хлеба. Вот оно и выходит, что Паланьке погодить надоть… А что говорить, женихи набиваются хорошие, да и пора – а нельзя! Отдай я ее – без лошадей останусь; без лошадей останусь – хлеба не будет; хлеба не будет – покупать его надо, занимать деньги, платить рост – откуда взять? запутаюсь сегодня, завтра еще хуже будет, а через год – глядишь, и весь в кабале. Конечно, что… а надо погодить…» Таким образом, никакого тиранства не оказывается. «Нельзя» и «надо погодить» понимает вполне и сама Паланька. – «Ну, Палагея, – говорит ей жених, за которого ее не отдают, – видно, друг мой, надо нам с тобой прощаться…» – «Прощай, Михайло!» – «Так-то, друг мой милый! Видно, мне придется Афросинью взять, ничего не поделаешь… За Афросиньей отец сулится двести рублей, тут можно взяться хозяйствовать, есть с чего начал положить… А тебя мне взять пустую – не приходится!» – «Нешто не знаю…» – «С пустыми руками, сама знаешь, какое хозяйство – горе одно!..» – «Вот лошадей-то купили, истратились…» – «Знаю, что купили…» Остается вздохнуть и покориться… чему? Идеалам и требованиям, вытекающим из земледельческого труда… На основании этих же земледельческих идеалов и младшего брата большака, Лешку, женили на уроде и на дуре, и опять-таки не из жестокости это сделано, а на самом точном основании идеалов. Сам Лешка объясняет это дело довольно резонно: «В ту пору пожар был, погорели, пришлось строиться, работы много, а народу со всем управиться нехватает. Вот в тот год меня и женили… Мне было, признаться, другая ндравилась, и из себя хороша, даже красива… Да видишь, как вышло: бабушка у нас карактерная, и жена старшего брата карактерна, а жена середнего – больная. Старшего брата жена – покорится бабке, над середней командует, а моя бы, ежели бы, к примеру, я женился, – не покорилась бы ни середней, ни старшей, только что бабке бы, пожалуй што, покорилась бы, потому она хушь и хороша собой, а тоже карактерная… Вот оно и не подходило к ладу-то… Уж моя бы беспременно со старшей пререкалась, а старшая тоже спуску не даст… Больная-то середняя тоже бы на мою-то стала покрикивать, все же старше моей-то, вот и вышло бы у нас расстройство. «Иди туда-то!» – «Иди ты!» – «Я большуха». – «Я сама не маленькая». Вот и пошло бы этак-то… Думали мы, думали, присогласились так, чтоб взять Матрену. Она хоть и рябая и в уме не очень чтоб, а уж карактеру – нет; ей и больная прикажи – делает; и старшая скажет – и ее не ослухается, а бабку боится пуще огня. Конечно, что лицом она действительно что… ну в работе худого сказать никак нельзя!..» Таким образом, если Лешка и принес себя в жертву, то не сознательно ли он поступил при этом и не имел ли он в виду единственно только желание не нарушить гармонии в земледельческом труде, а также не действовал ли он при этом так, как ему повелевают исключительно этому труду свойственные качества? В самом деле, введи он в семью не урода, не дуру и не рабу, а характерную и красивую жену, было бы полнейшее нарушение гармонии коллективных сил семьи, направленных к одной определенной и неизбежной цели. Жалея Лешку, я, однакож, не могу не видеть, что, женясь на дуре и уроде, он поступал вполне резонно и основательно.
Построенное на таком прочном, а главное, невыдуманном основании, как веления самой природы, миросозерцание Ивана Ермолаевича, создавшее на основании этих велений стройную систему семейных отношений, последовательно, без выдумок и хитросплетений, проводит их в отношениях общественных. На основании сельскохозяйственных идеалов деревенский человек ценится во всех своих общественных и частных отношениях; на них построены отношения юридические, а опытом, вытекающим из них, объясняются и оправдываются и высшие государственные порядки. Требованиями, основанными только на условиях земледельческого труда и земледельческих идеалов, объясняются и общинные земельные отношения: бессильный, не могущий выполнить свою земледельческую задачу по недостатку нужных для этого сил, уступает землю (на что она ему?) тому, кто сильнее, энергичнее, кто в силах осуществить эту задачу в более широких размерах. Так как количество сил постоянно меняется, так как у бессильного сегодня – сила может прибавиться завтра (прдрос сын или жеребенок стал лошадью), а у другого может убавиться (отдали, наконец, Паланьку, издохла корова и т. д.), то «передвижка» – как иногда крестьяне именуют передел – должна быть явлением неизбежным и справедливым. Эти же сельскохозяйственные идеалы – и в юридических отношениях: имущество принадлежит тому, чьим творчеством оно создано… Его получает сын, а не отец, потому что отец пьянствовал, а сын работал; его получает жена, а не муж, потому что муж олух царя небесного и лентяй и т. д. Объяснения высшего государственного порядка также без всякого затруднения получаются из опыта, приобретаемого крестьянином в области только сельскохозяйственного труда и идеалов. На основании этого опыта можно объяснить высшую власть: «нельзя без большака, это хоть и нашего брата взять». Из этого же опыта наглядно объясняется и существование налогов: «нельзя не платить, царю тоже деньги нужны… это хоть бы и нашего брата взять: пастуха нанять, и то надо платить, а царь дает землю… Курица, и та яйца не снесет, ежели ей корму не дать, а царь за всем глядит…» Началась война с славянами, с афганцами[23] – опять хоть дело и трудное, но не несогласное с миросозерцанием Ивана Ермолаевича. «Славян нельзя не отбить, потому свой брат… Вот, когда осиновцы сгорели, тоже мы ведь помогали, потому с нами что приключится – и осиновцы помогут…» Афганцев бьют – потому беспокоят… «Это хоть бы и у нашего брата доведись… Станут к тебе суседние ребята в огород лазить, капусту воровать – хочешь не хочешь, а должон взять палку, выгнать оттудова…» Словом, с точки зрения Ивана Ермолаевича, как и вообще «хорошего» земледельца-крестьянина, кажущееся мне влачение по браздам, бесплодное, тяжкое существование – оказывается явлением вполне объяснимым, а главное вовсе не влачением, а существованием, основанным на известных, притом непоколебимых законах, существованием, в котором осмыслен каждый шаг, каждый поступок, определена каждая вещь, определен и вполне объясним каждый поступок. Войдя в этот мир и вполне проникнувшись сознанием законности и непреложности всего существующего в нем, посторонний деревне, хотя бы и озабоченный ею человек должен невольно оставить свою фанаберию, и если он не сумеет думать так, как думает Иван Ермолаевич, и притом не убедится так же, как убежден Иван Ермолаевич, что иначе думать, при таких-то и таких-то условиях, невозможно, то решительно должен оставить втуне все свои теории, выработанные на почве совершенно иной. Тронувшись, например, судьбой Паланьки и Алешки, положим, что я начну разговор о деспотизме, – но Паланьки и Алешки сами докажут: мне, что вовсе не нуждаются в моем заступничестве потому-то и потому-то и что иначе нельзя. Я начну придираться к нечистоте двора, на котором гниет масса навозу, а Иван Ермолаевич опять мне докажет, что нельзя без этого, что навоз первое дело, что вывозить его надо во-время, и он знает, когда это надо сделать; словом, выйдет так, что навоз должен быть в том самом виде и на том самом месте, в каком виде и в каком месте он находится. Я начну колебать его суеверие и в этих видах представлю в юмористическом тоне, как поп собирает пироги и т. д. Но окажется, что юмористических черт в этом отношении у Ивана Ермолаевича накоплено гораздо более, чем у меня, а принципа, олицетворяемого им, я ничуть не поколеблю, потому что поп нужен Ивану Ермолаевичу. У Ивана Ермолаевича есть грехи, которые ему не может отпустить ни староста, ни кабатчик, ни даже губернатор, а отпускает только поп. Господь дал ему урожай, в благодарность за это Иван Ермолаевич ставит свечку и делает это только при посредстве попа, так как не в почтовой же конторе ему ее ставить и не в волостном правлении. Везде своя часть. «Он хоть и не дюже человек хороший и зашибает, – говорит Иван Ермолаевич о попе, – а нельзя… Вот и почтмейстер на станции тоже пьянствует – а через кого отправишь письмо?» Стало быть, все стоит на своих местах, и Иван Ермолаевич вовсе не «влачится по браздам», а живет, во-первых, полною, а во-вторых, осмысленною жизнью. В условиях земледельческого труда почерпает он философские взгляды; в условиях этого труда работает его мысль, творчество; в этом же труде обретает он освежающие душу поэтические впечатления; на основаниях этого труда строит свою семью, строит свои общественные, частные отношения, и из условий всего этого составляется взгляд на общую государственную жизнь.
Проникнувшись непреложностью и последовательностью взглядов, исповедуемых Иваном Ермолаевичем, я почувствовал, что они совершенно устраняют меня с поверхности земного шара… Все мои книжки, в которых об одном и том же вопросе высказываются сотни разных взглядов, все эти газетные лохмотья, всякие гуманства, воспитанные досужей беллетристикой, все это, как пыль, поднимаемая сильными порывами ветра, было взбудоражено естественною «правдою», дышащею от Ивана Ермолаевича… Не имея под ногами никакой почвы, кроме книжного гуманства, будучи расколот надвое этим гуманством мыслей и дармоедством поступков, я, как перо, был поднят на воздух дыханием правды Ивана Ермолаевича и неотразимо почувствовал, как и я и все эти книжки, газеты, романы, перья, корректуры, даже теленок, не желающий делать того, чего желает Иван Ермолаевич, – все мы беспорядочной, безобразной массой со свистом и шумом летим в бездонную пропасть…







