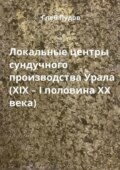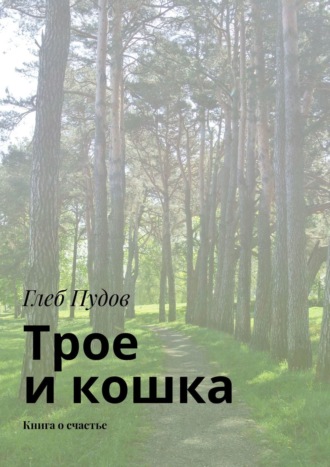
Глеб Пудов
Трое и кошка. Книга о счастье
Фотограф Анна Пышинская
© Глеб Пудов, 2022
© Анна Пышинская, фотографии, 2022
ISBN 978-5-0051-4086-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Эта книга состоит из трех разделов: «Трое», «Втроем по миру» и «Кошка». В первом собраны стихотворения и рассказы, характеризующие трех людей, которые объединены словом «семья». Во втором речь идет об их совместных путешествиях, в третьем – о кошке, претендующей на то, чтоб стать частью семьи. Это у нее успешно получается.
Большинство стихотворений и рассказов были опубликованы ранее. Однако многие из них переделаны автором специально для этого издания, другие в контексте книги приобрели иные смысловые оттенки.
Произведения расположены не по жанрам, а по темам. Стихи перемежаются рассказами. Это стало причиной некоторой хаотичности в структуре книги. Она подобна мозаике из разноцветных кусочков. Тем не менее, такое расположение оправдано, поскольку наиболее полно отвечает целям и задачам издания. Автор надеется, что после знакомства с книгой «кусочки» сложатся у читателя в цельную картину.
Какова цель создания этой книги? Во-первых, в век жестоких и лживых публикаций хотелось бы, чтоб одной доброй книгой стало больше, честной книгой о простом человеческом счастье. Она не претендует на многое, не манит в водоворот философских теорий или хитроумных сюжетных комбинаций. Она лишь приводит пример. Во-вторых, эта книга – маленькая лепта в дело утверждения традиционной семьи. Так называемые «либеральные ценности» пусть остаются ценностями для тех, кто их считает таковыми.
Эта книга никуда не спешит, в ней нет захватывающей интриги и пронзительных историй. Она никого «пронзать» не желает, – такой литературы сегодня более чем достаточно. Возможно, в этом состоит несовременность книги, ее принципиальное нежелание следовать законам рынка. Пусть так. И все же существует что-то в мире культуры, кроме кровавых блокбастеров и душераздирающих трагедий.
Добро, тишина, покой и мир в семье – вот те ценности, на которые ориентируется эта книга.
1. Трое
Я
Во мне живут от века,
друг друга не любя,
два разных человека,
два разных моих «я».
Один слывет поэтом,
другой – ученый муж,
(зануда несусветный
и щеголь он к тому ж).
Когда божественный глагол
в душе трубою заиграет,
я ощущаю, словно пол
куда-то тихо уплывает.
Слова волшебные, слова
обыкновенные потоком
мою Вселенную едва
не потопляют ненароком.
Потом все гаснет. Стар и сух,
я погружаюсь в сон табличный,
скучаю в терминах, – мой дух
красив, достоен и приличен.
Два разных человека,
два разных моих «я»
во мне живут от века,
друг друга не любя.
Санкт-Петербург
Гимнаст
Так обогнать себя боюсь я,
что уж рискую опоздать.
Как тот гимнаст на тонких брусьях,
кручусь вперед, кручусь назад.
Скрипит, под тяжестью моею
сгибаясь, старенький снаряд.
Программу выполнить успею,
хоть выполнять ее не рад.
Санкт-Петербург
В архиве
Листаю страниц искривленные тельца,
помяло их время, скрутили года:
ревизские сказки1 сибирских умельцев
(талант и неволя, талант и нужда).
Пятнадцать Иванов, Порфириев десять,
фамилий заводских столбцы и ряды…
Котельник, кузнец, надзиратель и вестник —
все жили средь сосен рифейской гряды2.
Но где вы сегодня? Исчезли, пропали,
остались лишь крохи помятых страниц.
Меж судеб похожих сумею едва ли
я встретить улыбки знакомых мне лиц.
Екатеринбург
Жалобы одного библиофила
Холодные сумерки день умножают на два,
сижу за вином, в тишине изучаю Гомера —
людей, для которых мой мир никогда
не станет мечтою, вершиной, примером.
Эх, плыть бы по волнам в рассвет убегающих рек!
Эх, девушек юных любить, их желаниям вторя!
Врагов побеждать! И успеть за короткий свой век
тебя покорить, о великая Троя!
Увы, нестерпимо учен мне доступный удел.
Порой он велик, зато чаще он жалок:
всегда буду с книгой, я буду «у дел»
свой стилос3 держать, как змеиное жало.
Санкт-Петербург
«Я весь состою из вселенных…»
Я весь состою из вселенных
и каждая лучше другой:
прекрасны красою нетленной
и глубже, чем весь мировой
океан. Они равноправны,
но в данный момент лишь одна
заведует мной. Как ни странно,
других подавляет она.
Потом ей на смену другая
приходит (иные молчат):
становятся образы рая
чужими и кажется ад
знакомым. Миры, что «закрыты»,
в спокойствьи немом не живут:
там тоже меняется быстро
обжитых вселенных уют.
Когда ж неизбежно местами
они поменяются вновь,
найду я не то, что оставил,
а что повстречать не готов.
Поэт и утка
Бежит, шумит канал Обводный,
луна над речкою скользит,
поэт у пристани холодной
с печальной уткой говорит.
Повсюду тени, сумки, звери,
кривых проулков череда…
Коньяк французский до безверья
людей доводит иногда.
А строки медленной волною
шипя, врезаются в гранит.
Всю жизнь он, бедный, сам с собою
об идеалах говорит…
Санкт-Петербург
Зелье
Готовлю чудесное зелье
из слов, запятых и тире
в спокойной гостиничной «келье»,
куда я попал в декабре.
Сплету я свои сочетанья,
добавлю «перчинки» на вес, —
и будет итогом старанья
изделье из тонких словес.
Кружусь, словно древний шаман я,
в тиши заклинанья пою,
надеясь, что это старанье
судьбу оправдает мою.
Псков
Открытие
Есть напротив тюрьмы дом в четыре подъезда.
Много в этих подъездах народу живет:
старики и старухи, два пламенных ксендза,
три студента, монтажник, – различный народ.
Что я делаю в этом в четыре отверстья
обиталище теплых, похожем на грот?
Очень прост мой ответ: не Амон и не Зевс я,
не любитель амброзий, я тоже – народ.
Санкт-Петербург
Запятая
Что ж… Обречен я на тонны бумаги,
густо покрытой танцующим почерком.
Буду сидеть, как индийские маги, —
душу дробить на романы и очерки;
мир забывать, словно сумку в трамвае,
и увлеченно беседовать с мертвыми.
Люди меня назовут шалопаем
к делу негодным и малым увертливым.
Так проживу запятой незаметной,
где-то вдали от событий пылающих.
Впрочем, порою и в хляби сонетной
можно казаться весьма вызывающим…
Санкт-Петербург
«Избави Бог от наважденья…»
Избави Бог от наважденья,
от слов безумных, тайных ков, —
как все вокруг, всего лишь тень я,
пылинка в сумраке веков.
И все же мечу в Бонапарты —
тревожусь, мыслю и пою,
как будто я к иным стандартам
сумел приблизить жизнь свою:
как будто вечен я, как время,
и величав, как Аполлон.
Но я – Земли всего лишь бремя,
и жизнь моя – всего лишь сон.
Санкт-Петербург
«Снова жизнь удивляет поэтика…»
Снова жизнь удивляет поэтика:
крутит-вертит его, как листок.
Невеселая жизни поэтика —
человеку обычный урок.
Превращаются будни тревожные
в монастырский суровый устав.
Так и катятся судьбы острожные,
изначально от жизни устав.
«Отныне читать буду сказки…»
Отныне читать буду сказки
и в окна большие смотреть,
и, может, смогу без указки
прожить человечества средь.
Не надо прекрасных учений,
спасений не надо, чудес,
ведь я – не толпа и не гений,
не ангел совсем и не бес.
Я – ландыш, я – племя земное:
мне б только немного весны,
чуть солнца над серой Невою
да тихой – моей – красоты.
Петрозаводск
«Люблю я шепот «мраморных» обложек…»
Люблю я шепот «мраморных» обложек,
стихов старинных плавное теченье,
и день в тиши, который был мной прожит
так, словно я —
Адам в минуту сотворенья
на кромке бытия.
Я вновь рожден; я снова появился
совсем другим из книжных коридоров,
и вот уж мир свой исправляет норов
бездушного царя,
признавшись в том, что изменился
не только я.
Вечерне-книжное настроение
Дождь. Тепло (это кошки дыханьем
умирающий август согрели),
на софе поджав ноги как хан, я
провожаю закат с Алигьери.
Где-то сполохи грозно мерцают,
словно в мраке его преисподней.
То, наверное, признак конца и
всеобъемлющей кары Господней.
Результат морально-нравственной борьбы
Проводить каждый день без изъяна,
подавляя в себе обезьяну,
и потом получить как итог:
с обезьянкой дружить бы я мог.
Попытка самоопределения
Пророком жить среди людей
не суждено мне, слава Богу, —
и без меня средь черных дней
отыщет верную дорогу
привычный мир. Так кто же я?
И как судьбою был наречен?
Чем оказалась жизнь моя?
Оттенком смысла, частью речи?
Санкт-Петербург
«Поэт спешит запечатлеть…»
Поэт спешит запечатлеть
свои прекрасные мгновенья,
поймать в расставленную сеть
поступки, мысли, впечатленья,
ведь все исчезнет, все пройдет,
и это, в общем, не трагично —
но как же хочет рифмоплет
сверкнуть звездою непривычной!..
Екатеринбург
Эрмитажный сонет
Люблю среди античных ваз
бродить я в сумерках апреля,
когда времен чудесных вязь
блестит, как солнце Рафаэля.
Молчит со мною тишина
(скрипят лишь кубики паркета),
но как естественно она
вплелась в мелодию сонета!
Санкт-Петербург
Рокайль
Я – рокайль на серебряном кубке,
суть моя – украшенье, декор.
Превращается в милую шутку
о значенье моем разговор.
Я могу подыграть, изукрасить,
я могу поддержать, расцветить,
чуть усилить, верней обозначить, —
вот моя повседневная прыть.
Но увы, без веселой рокайли
кубок сможет безбедно прожить
иль другой полукруглой деталью
ее мягкий виток заменить.
Санкт-Петербург
Поединок
И вот нас трое:
торшер, блокнот и я,
и я настроен
на звуки бытия.
Звенят минуты,
как старый метроном,
и не минует
меня ритмичный звон.
Не льются строки
и не приходит стих:
владыка строгий
чуть поманил — и стих.
Нас было трое:
торшер, блокнот и я…
Как Шлиман — Трою,
когда-нибудь открою,
мой стих, тебя!
«Сижу в ночном трамвае я…»
Сижу в ночном трамвае я,
в блокнот пишу стихи;
случится вдруг авария
(за прежние грехи),
смогу сказать открыто я:
«Судьба, прости меня —
снабдила ты корытами,
да я вот — не свинья…».
Санкт-Петербург
«Кипят вокруг чужие судьбы …»
Кипят вокруг чужие судьбы —
большой грохочущий вулкан.
Запечатлеть его мне суть бы
(как говорится, «als ich kann»),
но кисть слаба, резец источен,
а карандаш мой крив и тощ,
и потому с насмешкой в очи
мне смотрит огненная мощь.
Нюрнберг
«Люблю я ширь бумажного листа…»
Люблю я ширь бумажного листа,
страницы белой шумное раздолье,
где катится волшебная река —
стихов моих ночное половодье.
Подтачивают воды берега,
несут разбитых кораблей скелеты,
и кажется, что вечная волна
поэтов знает лучше, чем поэты.
Санкт-Петербург