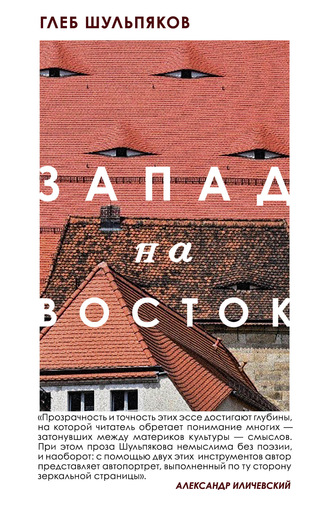
Глеб Шульпяков
Запад на Восток
Дом книги
Памяти Саши Спиртова
Это место я вижу почти каждый день. Cамый обычный треугольник асфальта; пустое, продувное пространство. Никто не задерживается здесь, а бежит в переход или на остановку. Никто больше не назначает здесь свидание, не прячется от дождя. Не ждет очереди позвонить. Мира, где все это было, больше нет, он исчез вместе с телефонными будками. Только сквозняк по-прежнему яростно крутит мусор.
Первый книжный развал появился на этом месте в начале 90-х. Лавка букиниста, от которой он работал, находилась рядом, в Калашном. Мой университетский товарищ устроился сюда по случаю, а потом заманил и меня. Я согласился, ведь все прекрасно сходилось. Когда-то, когда империя рухнула, имажинисты вышли торговать книгами на Никитскую, а философы открыли лавку в Леонтьевском. А теперь вышли мы, студенты и читатели этих поэтов, – когда рухнула империя следующая.
Место под этим навесом – почтамта на углу Калининского (а теперь Нового Арбата) – среди лоточников считалось прибыльным. Тут было главное: людской поток, трафик. Боровицкая, где торговали мы до этого, хоть и под каштанами, и под Ленинкой, и с видом на Кремль, не шла с Калининским ни в какое сравнение. Мы мечтали взять в аренду этот угол. Торговать в очередь с другими лоточниками. Дело было за малым – за суммой.
Книги на развале продавались разные, букинистические и новые, переиздания философии, психологии, истории, поэзии. Альбомы по искусству, словари. Собрания сочинений. Все то, что до этого было дефицитом или запрещалось. Как я уже сказал, мы работали от лавки. В ней заправляли двое: одного «букиниста», длинного и тощего, звали Карл Карлыч, он был молчун и курильщик со впалыми серыми щеками. А второй, пухлый и невысокий, заросший по губы кучерявой черной бородой, представился Мишей. В отличие от насупленного Карлыча, Миша любил балагурить, со своей бородой он смахивал на Маркса, имя Карл ему подходило больше. А Карл пил за конторкой коньяк и молчал, наблюдая сквозь дымок своей трубки, как мы поднимаем из подвала коробки.
Это были коробки из-под бананов, все наши книги пахли бананами. Сорок-пятьдесят коробок. Из подвала в машину, из машины на асфальт. Утром. Разгрузить и разложить. Люди начинали подходить, когда книги еще лежали в коробках. На развалах подобного рода вообще образовывался свой круг общения, многих мы знали по именам, не говоря об известных личностях, актерах или политиках, которые наведывались за книгами регулярно. Люди не только покупали, они предлагали сами, особенно пожилые, интеллигентного вида, в старых светлых плащах. Они привозили свои книги в тележках. Тогда лавка в схеме не участвовала, мы выкупали книги с рук на руки. Книга цинично тут же выставлялась на продажу вдвое дороже, но тех, кому не хватало на хлеб сегодня, это устраивало, с нами не надо было ждать комиссии. Сколько денег уходило в лавку? Сколько оседало в карманах? Никакой отчетности не существовало, все делалось на глаз, тогдашние деньги-фантики измерялись горстями, то есть сколько пальцы могли ухватить из ящика. А другая часть шла на милицию и чеченский рэкет.
Его звали Руслан, он был чеченец и влезал на своем белом «Мерседесе» прямо на тротуар, где стояли столы с книгами. Он угрюмо скалился из машины, и мой напарник относил ему деньги. Когда он поцапался с дагестанцами и его застрелили – тут же неподалеку в «Жигулях», – к нам повадились два других вертлявых кавказца. И тот, и эти приходили раз в неделю, а менты обдирали без расписания. А еще часть денег пропивалась безо всякого учета вообще. Вермут, пиво, мадера, кубинский ром. Нас устраивало все, что продавали у «Художественного». После «сухих» времен алкогольное море никак не хотело входить в берега.
Наш книжный развал был частью системы, существовавшей на проспекте у Дома книги. Нелегальной, разумеется. Среди «жучков», отирающихся вокруг него – бомжеватого вида, без возраста и с одинаково плохими зубами, – имелась своя иерархия. Верховодил среди них Коля из Королева: бородатый детина с лицом каэспэшника. Раньше он работал в КБ, а когда наука рухнула, перешел на книги. Специализировался Коля на редких словарях. Англо-русский по химии или арабско-русский по нефтедобыче, испанский математический не переиздавались с семидесятых, а в девяностых, когда мир открылся, вдруг многим понадобились. Жучки сплетничали, что словари казенные и Коля на пару с королёвским библиотекарем просто распродает фонды. Скорее всего, так оно и было, хотя никаких библиотечных отметин на книгах не наблюдалось.
Шурик из Отрадного работал с томами из собраний сочинений, которые добывал по окраинным букинистам – филиалам центральных, куда не забредали скупщики. Книги он возил в клетчатой пенсионерской тележке. Ухоженный и откормленный малый, он отличался от большинства книжных скупщиков, больше похожих на бродяг или нищих. Раньше он играл в оркестре на флейте, его жена работала в кооперативном кафе. Поскольку из собраний пропадали, как правило, одни и те же томики – с «Грозой», или «Анной Карениной», или чеховскими пьесами, – работа у Шурика была довольно однообразной.
Третий тип по кличке Крысёныш занимался «Литпамятниками». Он мог достать самую редкую книгу из этой серии: «Тараса Бульбу», например. Этот мифический «Бульба» фигурировал в разговорах довольно часто, те, кто хоть раз держал эту книгу в руках, считались счастливчиками, что объяснялось просто: ведь этот «Бульба», выпущенный в пятидесятых к юбилею писателя, остался нераспродан и пошел под нож. А Крысёныш брался найти даже суперобложку (все «Литпамятники» первоначально имели суперобложку). Не все суперобложки ценились одинаково; например, «памятник» Фолкнера почти всегда шел «одетым», а достать «супер» под Пополь-Вуха считалось невозможным, поскольку к нему «супер» печатался подарочным тиражом только для членов Академии.
Альбомами по искусству заведовал Мордатый – книжник, работавший на ступеньках у Дома книги. Мордатого недолюбливали – курируя мелких альбомщиков, он нещадно обдирал их. Как ни странно, альбомы по искусству в то время оставались востребованными и стоили денег. Бывшие дефицитом при совке, они и тогда уходили быстро. Покупали такие альбомы, как правило, люди интеллигентные, сумевшие сохранить достаток. Или новые русские, по советской инерции считавшие издание по искусству хорошим подарком.
Особенный спрос был у фотоальбомов «Москва». Их скупали туристы, повалившие в страну, чтобы своими глазами увидеть, как «зарождается свобода на обломках империи Зла». Самыми щедрыми слыли немцы: эти покупали не торгуясь, а самыми сквалыжными – французы. Притом что в пересчете на европейские цены альбомы обходились им даром. А еще Мордатый мог достать каталоги выставок, приезжавших в Москву в те годы чуть ли не каждые полгода. Кандинского, Миро, Малевича, Шагала, Пикассо, Дали.
Еще один тип специализировался на советской периодике. Книжники почему-то звали его полным именем: Володя Григорьев. В любое время года этот высокий и лысоватый, с редкими усиками на губе господин носил длинное черное пальто и был увешан авоськами. Пальто под мышками давно прорвалось, торчал ватин. На голове Володя носил красную бейсбольную кепку из гуманитарной помощи. Он мог под заказ отыскать «Известия», вышедшие в день смерти Сталина, или «Огонек» с Гагариным. «Ленинградскую правду», где напечатали ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Нева», или «Вечерку» со статьей «Окололитературный трутень».
Поскольку мобильные телефоны еще не появились, все эти люди, чтобы не пропустить клиента, отирались поблизости от лотка – ведь тот, кто искал книгу, сначала приходил к нам. Тут-то его и цеплял жучок. Цены на подобные книги были астрономические, но поскольку в магазинах ничего подобного отыскать было тем более невозможно, покупатель рано или поздно соглашался. О самих жучках говорили, что они скряги и подпольные миллионеры. Глядя на немытых и нечесаных, не совсем психически здоровых людей, можно было поверить в первое. Но миллионеры?
За то короткое время на книжном развале (которое мне почему-то хочется назвать эпохой) я собрал маленькую, но довольно неплохую библиотеку редких советских изданий. Она потом полностью сгорела на складе – при очередном моем переезде. Вместе со складом и книгами сгорели мои видеокассеты с записями любимых спектаклей, виниловые пластинки и бобины с пленкой. Доцифровой период, как шутили друзья. Тогда я не слишком печалился по этому поводу, а теперь отыскиваю у букинистов то, чем когда-то торговал на развале сам. Такая вот рифма. Чем дальше уходит это время, тем отчетливее я вижу, как мало от него остается. Как далеко и безвозвратно все разлетелось, распалось, расплавилось. Мой университетский друг умер. Карлыча и Миши нет на свете, теперь в книжной лавке работает дорогой антикварный. Из жучков один тип еще трется в предбаннике Дома книги. Внешне он совсем не изменился, но чем торгует сегодня? Когда книги превратились в йогурты? Боюсь представить. И остался этот вот угол. Пустой, продуваемый ветром пятачок под навесом почтамта, где никто не назначает свиданий, никто никого не ждет больше. А наоборот, пробегает, зябко поднимая плечи, чтобы успеть на троллейбус. Я говорю, что когда-то здесь импровизировали поэты и раздавали автографы артисты. Спорили о Бердяеве коммунисты и демократы, а послы иностранных держав скупали альбомы по русским иконам. Даже бандиты размахивали здесь своими пушками, но куда все это делось, куда улетучилось? Вместе с воздухом, из которого и состояло, наверное.
Памяти 90-х
Недавно мой знакомый, двадцать лет назад переехавший жить в Германию, признался, что не чувствует того времени. Такое ощущение, что, уехав, он пропустил главное. Что же там было, спросил он? Не мог бы ты объяснить мне – по духу, по смыслу (мой друг был философ).
Я бы сказал, что это было лучшее время в истории новой России. Звучит нелепо, смешно – что такое «лучшее»? Однако это именно так, ведь людям моего поколения было с чем сравнивать. Я хорошо помню поздний совок, его «атмосферу» – я был подросток. Сегодня я вижу, как круг замкнулся и прошлое вернулось. Но ведь последняя свобода – размышлять – осталась? И я размышляю. Из истории и опыта я вижу, что всегда, как только в России ослаблялся государственной гнет, происходил бешеный выплеск энергии. Творческой, политической, экономической. Страна, которую держали в черном теле, делала рывок. Такой рывок был в двадцатые годы – между эпохами империй, разрушенной российской и нарождавшейся советской. Короткий промежуток, всего десять лет – но какой всплеск, какой результат! Если считать искусство индикатором (а для меня это так) – авангард в России осуществился вровень, а иногда опережая остальной мир. Мы были органически, по духу (а не из-под палки) первыми. Зайди в любой книжный в столицах мира. На обложке альбома по архитектуре ХХ века часто изображен наш Дом Мельникова. Что говорить о литературе, чей всплеск накануне соцреализма был таким же ярким, особенно в жанре антиутопий, ведь все они на глазах сбылись.
То же самое по мощности выплеска было в конце восьмидесятых – начале девяностых (для меня девяностые есть именно этот рубежный отрезок). Первичная память «показывает» бандитизм, это так – страшное время. Но это не значит, что ничего другого. Дальше нужно просто перечислять. Кино, которое в те годы было снято с полок. Фильмы Сокурова, Кайдановского, Овчарова, Лунгина, Тепцова, Балабанова, Огородникова, снятые на рубеже и определившие девяностые. Музыка – рок и фри-джаз, наш и зарубежный, я не вылезал из концертных залов. Поэзия и книгоиздание, вал новых и запрещенных имен. Новые газеты и телеканалы, реальная журналистика. Философия. Театр. Современное искусство. Открытие границ и весь мир, который встречал нас улыбками, а не проклятием.
Это был ренессанс, видимый все ярче на фоне современной серости. Возможно, он и не дал миру ничего, соразмерного двадцатым. Но у этого искусства было, как я теперь понимаю, другое назначение. Самим составом его была свобода. И люди, особенно моего поколения, для которого эта свобода совпала с юностью, ее урок навсегда усвоили. Тебе скажут, что девяностые годы были унизительным временем. Это так, но только с точки зрения бытовой, социальной. Поскольку сутью этого времени был не быт, а Бытие. Свобода человека перед замыслом Создателя. Это жестокая свобода, поскольку каждый получал только то, что заслуживал. Никакого другого давления – со стороны семьи, школы, религии и государства – ведь не было и помощи тоже. И человек просто становился тем, кем ему было предназначено. Получал судьбу, жребий – в чистом, «античном» виде.
«Дикобразу – дикобразово», – как говорят в «Сталкере».
Моя семья, как и миллионы других, оказалась совершенно беззащитной перед этим временем. Однако мне никогда не приходило в голову обвинять его. Потому что можно было лежать на печке и ждать смерти. Или чудесного избавления. А можно было что-то делать. Буквально как в притче о молоке и лягушке. Это и есть свобода, и не ее вина, что большинство моих соотечественников так и не смогли ею воспользоваться. Взбивать масло. Я был дворником и сторожем, мыл полы и убирал посуду, выгуливал чужих собак и выгребал чужой мусор. Торговал в переходах и чистил картошку. Но я никогда не относился к этому как к личной трагедии. Как к неудаче. Как к чему-то унизительному. Из ситуации требовался выход, и если этот выход заключался в мытье полов, я мыл полы. И вот неожиданно то, что не было запрограммировано, что казалось случайным, и стало дорогой к самому себе. При том бесчеловечном государственном гнете, который веками царит здесь, при том тотальном подавлении свободы личности мало кто может получить такой шанс, стать собой. Чаще всего мы играем чужие, навязанные роли. Проживаем не свои жизни. А 90-е годы такой шанс давали каждому.
Как сохранить эту внутреннюю свободу сегодня? В условиях нынешней жизни, когда быть собой кажется невозможным? Когда ты в абсолютном меньшинстве, в вакууме? Когда большинство требует, чтобы ты изменил себе, примкнул к ним – или убирался? Только одним способом: не изменять тому, в пользу чего ты сделал когда-то выбор. Быть верным себе, а не народу/государству/религии. Искать поддержку в русской истории, которая ведь не зря учит, что абсолютное большинство и правота часто бывают по разные стороны.
Часть II
Думы цветка и мечты бабочки
Берново – усадьба Вульфов в Тверской губернии, где часто бывал Пушкин проездом из Санкт-Петербурга в Москву и обратно. Тогдашний владелец усадьбы Иван Иванович Вульф приходился Александру Сергеевичу дальним родственником, а пригласила поэта в тверские края Прасковья Александровна Осипова-Вульф, вдова Николая Ивановича Вульфа, владельца имения в Малинниках, и добрая приятельница Пушкина по Тригорскому. Берново находилось между Старицей и Торжком, который лежал на пути между столицами. История посещений Пушкиным тверских усадеб хорошо изучена, в музее-усадьбе Берново проводятся Пушкинские чтения и фестивали. В селе сохранилась Успенская церковь XVII века, где бывал Пушкин и где похоронены Вульфы. Но есть один факт, который вряд ли известен широкой публике. В 1913 году Анна Бубнова, одна из потомков тверской ветви Вульфов и последняя насельница Бернова, отправилась учиться музыке в Петербург. Там она познакомилась со студентом-вольнослушателем Оно Сюнъити и вышла за него замуж. В Японии у них родился сын, но случилась трагедия – он умер подростком. И Анна всю свою воспитательную энергию направила на маленькую племянницу, которую звали Йоко. В 2007 году эта племянница, будучи в России, изъявила желание побывать с частным визитом в Бернове, чтобы своими глазами увидеть место, где «провела детство ее любимая тетя». Если учесть, что Пушкин состоял в дальнем родстве с Вульфами, то Йоко Оно (а значит, и Джона Леннона) можно считать дальними свойственниками Александра Сергеевича. Не по крови, разумеется, – но ведь воспитание и культура тоже важны, и в судьбе Йоко Оно, добившейся поразительных для японской девочки своего времени успехов, мы это видим. Кстати, с подачи Варвары Бубновой, сестры Анны, которая впоследствии тоже перебралась к семье в Японию, там стали переводить Пушкина. Первой его книгой на японском стала «Капитанская дочка».
В переводе она называлась «Думы цветка и мечты бабочки».
Восхождение Петра Телушкина
В деревне Вятское под Ярославлем рассказывают легенду о том, откуда взялся жест щелкать себя по горлу, когда хочется выпить. Раньше Вятское было большое торговое село со многими каменными домами. Ярмарку этого села (под именем Кузьминское) вывел Некрасов в «Кому на Руси жить хорошо», здесь же подвизался верхолаз-кровельщик Петр Телушкин; о нем и пойдет речь. Этот Телушкин осенью 1830 года отправился на заработки в Петербург, где неожиданным образом нанялся спрямить покосившееся после бури крыло ангела на шпиле Петропавловского собора. Возводить леса было дорого и долго, а Телушкин брался все сделать в одиночку. Он взобрался на высоту 55 метров на руках по веревкам. За каждодневным восхождением кровельщика наблюдал в телескоп президент Академии художеств и археолог-дилетант Алексей Николаевич Оленин, написавший об этом событии очерк в «Сыне Отечества». Телушкин работал шесть недель, что невероятно, ведь на высоте шпиля в это время года ветродуй и такая сырость, что одежда буквально сочится влагой. А Телушкин даже питался на шпиле – снедью, которую поднимал в корзинке. Когда ремонт был закончен, мастера представили государю, и тот наградил его деньгами и грамотой, дающей право пить во всех российских кабаках бесплатно (кабаки были государственными). Поскольку грамоту Телушкин постоянно терял, ему сделали татуировку под скулой того же содержания, на которую он и указывал, щелкая пальцами, кабатчику. Телушкин изображен на картине «Парад на Марсовом поле в 1831 году» художника Чернецова среди почетных жителей столицы (находится в Русском музее). После шпиля его завалили заказами, самым заметным из которых была починка кораблика на шпиле Адмиралтейства, однако к 1833 году он все равно спился и умер. Более точных сведений о жизни, трудах и смерти этого Левши из Вятского не сохранилось. Он работал в пушкинское время, но встречается ли где у поэта упоминание о том событии? На картине Чернецова, во всяком случае, Пушкин и Телушкин изображены поблизости друг от друга. Правда, сам Александр Сергеевич во время ремонта шпиля находился в деревне, где переживал свое восхождение – Болдинскую осень.
Николай Гнедич
Переводчик Гомера, ближайший друг и конфидент поэта Константина Батюшкова. Дружбе с ним Константин Николаевич придавал какое-то почти сакральное значение (сам Гнедич в дружбе оставался прагматиком). Наверное, в нелегкой судьбе товарища Батюшков слышал рифму своим собственным невзгодам, хотя Гнедич удары судьбы не романтизировал, а наоборот, скрывал и только упрямее шел к цели. При склонном к унынию и самоедству Батюшкове он был как Штольц при Обломове и часто брал с поэтом снисходительный, даже грубоватый тон («турецкого табаку пришлю такого, что до блевоты закуришься»).
Судьба Гнедича была действительно невеселой. Его детство прошло в полумужицкой среде небогатой малороссийской усадьбы. Он рано потерял родителей, «старосветских помещиков» из Полтавской губернии. Девяти лет от роду его поместили в Полтавскую духовную семинарию (откуда он вынес брутальный бурсацкий юмор и чтение стихов нараспев). В раннем детстве он переболел оспой. Его лицо было обезображено, а правый глаз вообще утрачен. На портретах его изображали, как одноглазого Кутузова, с одного бока. На единственной картине, где он справа, он в специальных очках, в которых синяя шторка прикрывает вытекший глаз.
Внешнее уродство Гнедич компенсировал модными нарядами. Он носил невероятных расцветок шейные платки, запонки и пряжки, кружева и пестрые жилеты, забубенные шляпы. Первые годы в Петербурге он нищенствовал, снимал угол и жил на гонорары. Но когда получил должность помощника библиотекаря Публичной библиотеки – уже мог себе позволить щегольски одеваться. Он следил за модным рынком и, когда в Москве появился дешевый батист, просил Батюшкова купить и выслать ему на «полдюжины платков». И должность, и неплохое жалованье он получил благодаря Оленину, «продвигавшему» Гнедича как талантливого переводчика. Он же выхлопотал Гнедичу пенсию от Аполлонши, как называл Гнедич великую княгиню Екатерину Павловну (грант на переводы из Гомера).
В общей сложности Гнедич получал около восьми тысяч в год; для сравнения: доходы Батюшкова с имений были почти вдвое меньше. К тому же Гнедич жил холостяком на казенной квартире и не платил за аренду и «коммуналку». Эту квартиру он изысканно обставил дорогой мебелью и утварью и устраивал чтения. Читал он нараспев высоким завывающим голосом (как читают ектенью) – так, что собака его Мальвина пряталась под диван и подвывала оттуда за хозяином. Этажом ниже Гнедича квартировал Иван Крылов, которому Оленин тоже покровительствовал. Они с Гнедичем по-соседски дружили и, когда выходили вместе, представляли довольно дикую пару: тучный высоченный Крылов, одышливый человек-гора, и разодетый, как павлин, одноглазый рябой. Вспоминали, что даже цвет фрака Гнедич приноравливал ко времени дня, в которое выходил из дому.
Для Гнедича, считавшего себя проповедником античной культуры и модерного развития России, Батюшков оставался милым вологодским помещиком и баловнем, которому можно и нужно покровительствовать. «Грудьонка твоя треснула бы, – писал Гнедич, – если б ты был в моих объятиях». Как истинный Штольц, он трудился сам и подталкивал к работе товарищей. Крылова он убедил сесть за перевод «Одиссеи», и только природная лень не позволила Ивану Андреевичу пойти дальше нескольких строк. Гнедич мечтал увидеть на русском поэмы Торквато Тассо, а Батюшков, прекрасно читавший на итальянском, постоянно откладывал работу. Гнедич был стихотворец и переводчик, но не поэт, и не мог взять в толк, что настоящему поэту перевод нужен для «разгона» собственной поэтической мысли.
В свое время Оленин представил Гнедича ко двору, и как всякий неродовитый провинциал, Гнедич чрезвычайно кичился связями в высшем свете. Молодой Гоголь надписал ему «Вечера на хуторе…» фразой «Знаменитому земляку от Сочинителя», и этот «земляк» сильно раздосадовал Гнедича. Он желал бы поскорее забыть свое невеселое прошлое. Гнедич не мог и подумать, что своих Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича Гоголь спишет с него и Крылова.
Поглощенный работой над Гомером, Гнедич стал гнушаться литературных партий и собраний, особенно «патриотических». В одном из писем он в довольно резких выражениях описывает подобные литературные сборища: «Я давно уже отказался, – пишет Гнедич Батюшкову в декабре 1809 года, – не вмешиваться ни в какие разговоры, ибо их, сколь я заметил, ведут или дураки, или о дурачестве. Не думай, чтобы это заставляло говорить оскорбленное мое от них самолюбие. Нет, именно их вонючие курения, другому вскружившие бы уже голову, раздирают мою душу. Два бывшие со мною приключения пусть послужат тебе доказательством, как самая наружность нынешних людей оподлена: у Шишк<ова> я одному из членов славенофилизма приказывал подать мне стакан воды, почитая его лакеем; в доме Держ<авина> у одного из его юных поклонников спросил: куда у них на двор ходят, почитая его тоже лакеем. Из таких фигур, из таких тварей я вижу общества, советы и суды о произведениях ума и вкуса».
Гнедич, хоть и был искренне привязан к Батюшкову, в делах с ним вел себя далеко не по-дружески. На издании «Опытов в стихах и прозе», первой (и последней) книги Батюшкова, он как следует «нагрел» товарища. Он обязал Батюшкова взять на себя все финансовые риски, а когда книга «пошла», выплатил товарищу всего две тысячи, забрав себе остальные пятнадцать. Через несколько лет тот же трюк он проделал с «Русланом и Людмилой» Пушкина и его же «Кавказским пленником»: полторы тысячи автору, себе в карман втрое больше. Пушкин догадывался об аферах старшего товарища и много лет спустя даже написал эпиграмму: «Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера, / Боком одним с образцом схож и его перевод». Правда, в рукописи эта эпиграмма была тщательно зачеркнута. Странный пиетет перед одноглазым рябым античником не позволял литераторам в открытую с ним ссориться.




