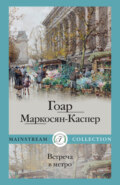Гоар Маркосян-Каспер
Елена
Разрыв (как и, по наблюдениям некого мыслителя, все долгожданное) случился неожиданно. Как-то Елена, к тому времени изрядно расхрабрившаяся, успевшая даже пару раз сходить в кино с подружками, сообщила Абулику, что намерена посетить день рождения однокурсницы.
– А кто там будет? – спросил Абулик настороженно.
– Не знаю, – ответила Елена беззаботно, – кажется, вся наша группа.
В группе, помимо десятка девиц, имелось и несколько ребят, и Абулик не поверил собственным ушам.
– Но я работаю, – сказал он настойчиво, – и не могу составить тебе компанию.
– Ничего, – уронила Елена небрежно, – я пойду одна.
– Одна?! Ах так! – Абулик смерил Елену взглядом кинорежиссера, готовящегося при монтаже выкинуть эпизод с актрисой, отказавшейся с оным режиссером переспать. – Ну что ж. Иди. Топай. Катись. Скатертью дорожка. Только больше не рассчитывай на… на…
– Не буду, – согласилась Елена хладнокровно.
Поскольку соотношение полов в группе, как и по всему мединституту, было неблагоприятным, лишь самую чуточку лучше послевоенного общегосударственного (О медицина! Феминизированная страдалица, отданная на откуп дамам, головы которых способны вместить единственный род рецептов – кулинарные), Елене с Асей пришлось довольствоваться одним провожатым на двоих. Жили девушки недалеко друг от друга, первая на Касьяна, вторая на Киевян, так что, когда к остановке подкатил сорок пятый автобус, тройка погрузилась в него в полном составе и отправилась вверх по Баграмяна. Доставив домой обитавшую на пути следования столь удачно подвернувшегося транспортного средства Асю, Елена с конвоирующим ее сокурсником двинулись дальше пешочком, благо идти было минут пятнадцать-двадцать. В итоге Елениного дома они достигли в полночь – мистический час, когда добропорядочным армянским девушкам полагается быть за воротами родительской крепости, под охраной пушек, кулеврин и катапульт. Подъезд был зловеще освещен тусклой, почти коричневой от пыли лампочкой и пуст, шаги в нем отдавались гулко, как в подземелье замка с привидениями.
– Я поднимусь с тобой наверх, – предложил однокурсник, глядя на струхнувшую Елену, и добавил весело: – Как никак время призраков.
На четвертом этаже Елена облегченно вздохнула и протянула было руку к дверному звонку, как вдруг!.. С погруженной в полумрак лестничной площадки на пролет выше с нечленораздельными воплями, размахивая кулаками, разве что не царапаясь и не кусаясь, низверглось некое… нет, не привидение, а вполне осязаемое, но невменяемое, можно даже сказать, нецивилизованное существо. Сокурсник, ошеломленный этой атакой, на миг застыл наподобие соляного столба, а затем позорно обратился в бегство (правда, позднее он клялся и божился, что существо опознал и посему ретировался, дабы не вмешиваться в «семейный скандал», на что Елена возразила, что семейные скандалы венчаются убийствами ничуть не реже, а наоборот, чаще прочих драк). Абулик, ибо то был, разумеется, он, дергаясь и выкрикивая упреки и обвинения вроде констатации факта, что день рождения по его сведениям завершился час назад, двинулся на Елену, намереваясь, по всей видимости, хорошенько ее вздуть, если не совершить над ней операцию, проведенную Отелло над другой блондинкой (в тот период Елена была золотоволоса, как Афродита), но, по счастью, ему помешало появление здоровенного соседского сына в майке и трусах, а следом и Елениной бабушки в наспех накинутом на ночную сорочку бумазейном халате (родители уже неделю, как колесили по Югославии, любуясь Адриатическим морем, горными пейзажами и иными природными красотами, а также помаленьку подторговывая, а именно, продавая прихваченные на этот случай фотоаппараты и покупая запрещенные то ли к ввозу, то ли к вывозу мохеровые нитки, которые расторопная Осанна торопливо превращала в быстрые в вязке ажурные джемперы, дабы по возвращении, дела вдаль не отлагая, приодеть любимое чадо, а заодно оставить в дураках таможенников, которые несомненно должны были кинуться искать мотки и ярлыки).
– Ты что, совсем спятил? – сказала Елена, приободрившаяся при виде подкреплений. – Успокойся наконец.
Но Абулик успокоиться не пожелал. Он с отчаянием огляделся, убедился, что расправу придется отложить, повернулся и рысцой побежал вниз по лестнице. В следующий раз Елене довелось его увидеть лет через семь, на улице Амиряна, мрачного, как и раньше, но с обновленным реквизитом – в кепке и с собакой на поводке. Он прошел мимо витрины магазина, в котором Елена отстаивала длинную очередь за орехами в шоколаде, и пропал из виду. Потрясенная происшедшей в нем переменой, которую олицетворяли собака (прежде он обожал кошек, развел их в доме аж три, что несказанно раздражало Елену, не терпевшую этих вонючек) и пролетарская кепка, заменившая богемный берет, Елена хотела было побежать вслед и пообщаться, но орехи пересилили, и она осталась в очереди.
Не сразу после разрыва, а только значительно позднее и постепенно Елена осознала полноту психологического рабства, в котором пребывала. При этом, будучи обращенной в рабство насильственно, захвачена и подавлена, со временем она приобрела все черты образцовой рабыни, то есть от отрицания рабства перешла к его одобрению, усвоила шаг за шагом мысли и вкусы своего повелителя, не став разве что футбольной болельщицей, и то потому лишь, что Абулик интересовался футболом в значительной степени вынужденно, в силу служебного положения. Что же он предпочитал футболу, спросите вы – и спросите, наверно, с удивлением. А предпочитал он, дорогой читатель, разговоры об искусстве. Такова была эпоха. Основным занятием огромной массы людей были разговоры. В разговорах советский интеллигент делал открытия, создавал великие произведения, исследовал тонкости политики и нравственности. Образованный широко и глубоко, как Волга, он пассивно плыл по другой реке, реке жизни, плавное, но неумолимое течение которой несло его к мощному руслу Леты, где ему предстояло исчезнуть со всеми своими благими намерениями и грандиозными несвершениями. Именно это должно было произойти и с Абуликом, во всяком случае, к началу нашего повествования он все еще продолжал числиться в редакции спортивных передач, так и не выбравшись из нее в театр и не поставив ни одного спектакля, планы чего он неутомимо строил при Елене (в конце концов, не одни ведь сцены ревности привлекали ее в несостоявшемся служителе муз). Не будем, впрочем, чрезмерно к нему суровы. По возрасту он принадлежал к поколению, которое стоило бы назвать потерянным – при прежнем режиме реализоваться этому поколению не позволило старшее, придерживавшее возможных конкурентов, что в условиях маразматически-деградирующего государства было вполне осуществимо, а при нынешнем его выдавило из жизни напористое, быстро усвоившее новые правила игры младшее… Но вернемся к Елене. К какой-нибудь из Елен.
Елена Аргивская прогуливалась по саду своего отца Тиндерея. На синий, под цвет глаз, пеплос из тонкой шерсти медленно падали белые лепестки с цветущих абрикосовых деревьев. Небо над Еленой было темно-голубое, без единого пятнышка. С дальних гор дул легкий ветерок, колебля низкие ветки, опускавшиеся кое-где до еле опушенной молодой травой земли, и неприбранные прядки волос вокруг надменного, неподвижного, как у статуи, лица.
Елена приблизилась к ограде и сразу же повернулась спиной, знала, не глядя, что за той непременно околачивается десяток юнцов, целыми днями подстерегавших прекрасную дочь Тиндерея в надежде хоть несколько быстротечных мгновений полюбоваться издали ее гибким станом и томной походкой. Клитемнестра, та уделяла своим обожателям куда больше внимания, пока ее не увез Агамемнон, бродила по саду чаще, чем по дому, звонко смеялась и косилась при этом как бы на камни ограды. Не то, что Елена…
Очень надо, подумала она пренебрежительно и ускорила шаги.
На крыльце показался Тиндерей, махнул рукой, подзывая Елену, и когда та подбежала, сказал довольно:
– Правильно делаешь, дочка, что отваживаешь здешних молодых людей. Они тебе не пара. Я найду тебе в мужья царя. Или героя.
Да, хорошо жилось прекрасной аргивянке, а кого мог найти в мужья своей дочери Торгом, пусть его и называли за глаза Золотым Торгомом, имея в виду его застарелую привычку покупать и припрятывать на черный день золотые вещи, привычку, что и говорить, благоразумную, когда вихрь инфляции закрутился над потрясенной страной, вырвав из рук или, как теперь принято выражаться, чулок облигации, которые коллекционировали многие Торгомовы приятели, назидательно указывая ему на шанс в один прекрасный день еще и выиграть толику, так вот когда вихрь инфляции подхватил все денежные и ценные бумаги, разметав их, как бумажный мусор и в итоге обратив в прах, Торгом только посмеялся, был он человеком многоопытным и знал, что прекрасные дни могут прийти, а могут и где-то непоправимо задержаться, а вот черные грядут непременно. К отцу его Торгому-старшему таковые нагрянули в тридцатые годы, в качестве владельца мебельной мастерской он оказался в роли чуждого элемента, что еще полбеды, ибо оказавшись кем-то, впоследствии (или вследствие того) неминуемо оказываешься где-то (таковы, по крайней мере, были реалии того времени). Что произошло бы и с Торгомом-старшим, если б он не знал, что главное в мебели это потайные ящики, а он знал и умел устраивать тайники непревзойденно, почему и сохранил кое-какое золотишко, которое не смогла отыскать даже советская власть, уж в деле-то обысков бывшая докой (в отличие от множества других дел). Впрочем, Торгом-старший с советской властью поделился, как человек мудрый, он отличал время собирания камней (драгоценных) от поры их разбрасывания, и разбросал он камни с толком, поделившись, как было сказано, с советской властью, но не властью вообще, а с властью в лице отдельных ее представителей. Судя по результатам его манипуляций, выбирать представителей он умел лучше, чем народ, так как сохранил не только жизнь, что для многих оказалось проблемой неразрешимой, но и скромную квартирку (четыре маленькие комнатки на семью из пяти человек) и даже средства к дальнейшему существованию, в отличие от большинства достойных людей. Впрочем, достойные люди – проблема отдельная. Если сам Торгом-старший, затем сын его Торгом, а позднее и внук, по семейной традиции также названный Торгомом, втихомолку посмеивались над теми, кого советская власть полагала или, во всяком случае, объявляла достойными людьми, то Елена, будучи совершенным продуктом отлаженной до небывалой эффективности системы большевистского школьного воспитания, в детстве чрезвычайно стыдилась своего подозрительного семейства, тем более, что отец ее уверенно направился по стопам деда, если не в отношении производства мебели, то, по крайней мере, зарабатывания на ней (не буквально на, конечно) кое-каких денег. Подобная эволюция отражала главное достижение советской власти: если раньше деньги получали за то, что произвели, то теперь деньги получали, не производя, иными словами, удалось уничтожить производство – но не более того. Возможно, следовало бы уничтожить деньги? Но тогда стали бы расплачиваться мебелью, пусть и не произведенной. Головоломка эта решению не поддавалась, впрочем, она не имела решения в принципе, подобно какой-нибудь квадратуре круга, что папа Торгом не раз пытался растолковать Елене, утверждая, что он отнюдь не паразит и уж точно не дармоед. Пойми, говорил он, дуреха, мебели ведь не хватает? Не хватает. Если я договорился с одним, тот с другим, другой с третьим, и возникла цепочка, допустим, такого вида: один поставляет на фабрику левые доски, другой из этих досок делает мебель, третий, то бишь я, ее продает – что выходит? У меня – деньги, у того, кто вкалывает на фабрике – деньги, у работяг на лесопилке – деньги, а у людей – мебель. Кому плохо? Государству? Да я такое государство в гробу видел. Босиком. Жалко тапочки на такое переводить. Но Елена не поддавалась. С отчаянием и негодованием обличала она отцову неправедную жизнь, и тот потрясенно разводил руками: ну скажите, откуда в моей семье выискался этот Павлик Морозов? Конечно, то была болезнь роста, с годами (особенно, почувствовав вкус к нарядам, путешествиям и к жизни в целом) Елена стала относиться к отцову бизнесу более снисходительно, но в начальную пору студенчества ее еще мучила мысль, что сокурсники могут вообразить, будто попала она в институт благодаря отцовским деньгам или связям, что было практически одно и то же (и, добавим в скобках, истине вовсе не соответствовало), ибо в данном случае связи в немалой степени порождались деньгами. Дело в том, что Торгом, как и многие другие армяне, в особенности, зажиточные, любил выпить и закусить, точнее, слегка выпить и изрядно закусить, если еще точнее, хорошенько поесть, запив еду бутылкой-другой сухого вина, и проделать это не в одиночестве, а в компании, лучше большой компании, иными словами, был он хлебосолом и гостеприимцем, собиравшим десятки видных в Ереване лиц на свои кутежи или, как их называют в Армении, пиры, частенько начинавшиеся с раннеутреннего хаша и завершавшиеся или, если угодно, венчавшиеся кюфтой или осетриной на вертеле, иногда самим Торгомом и приготовленной со всем тщанием и несомненным знанием дела. Впрочем, приготовлением шашлыков его таланты отнюдь не исчерпывались, среди множества своих друзей и приятелей слыл Торгом острословом, знатоком анекдотов, рассказчиком и уникальным тамадой, его наперебой приглашали руководить ответственнейшими из застолий типа свадеб и юбилеев, его тостов домогались в обеих столицах – как говорят в России, а в Армении хоть и не говорят, но подразумевают, гюмрийцы, во всяком случае, а Торгом, как и почти любой армянский острослов, был родом из Гюмри и хотя покинул этот достойный город в довольно нежном возрасте, сохранил там и поныне богатейший набор родственников, приглашавших его на все свои пиры. Однако, Торгом вовсе не был записным шутником, с любовью к анекдотам он сочетал чувствительность, даже сентиментальность, и неоднократно проливал обильные слезы над страданиями Отелло, Лира или своего любимого героя папы Горио.
Слезоточивостью Елена была в отца, и сходство это раздражало ее несказанно. Лицезрение всякого печального фильма или спектакля она приправляла солидной порцией слез, украдкой подтирая нос и страшно сердясь на себя. Иногда ей удавалось ограничиться промакиванием глаз изящным платочком – к платочкам у Елены отношение было особое, она тщательно подбирала их в тон и обожала английские костюмы, из нагрудного кармашка которых мог элегантно выглядывать кружевной краешек – но обычно первые редкие слезинки играли роль песчинок, страгивающих лавину. Из ее собственных описаний известно, что она прорыдала, например, всю вторую половину любимовских «Зорь», вызывая тихое недоумение в меру потрясенных («Зорями») соседей по партеру. Что не мешало ей впоследствии вспоминать спектакль с удвоенным удовольствием, впрочем, это не удивительно, ведь est quaedam flere voluptas[7]. Надо заметить, что оплакивала она не только жертвы неразборчивой войны, прокатившейся своими все перемалывающими гусеницами по душам и телам, не различая ни пола, ни возраста, ни, тем более, степени виновности перед богом и людьми. Оплакивала она зачастую и беды своих больных, порой куда горше, чем они сами, ведь больные, к счастью для себя, большей частью лишь обыкновенные люди, не блещущие ни выдающимся интеллектом, ни эмоциональным богатством, неспособные осознать ни глубину и гибельность настигших их болезней, ни прочувствовать трагику предстоящего существования, лишенного того, за что пьют (тем самым его же уничтожая), чего желают к праздникам письменно и при обыденном ежедневном приветствии устно, того, что потерять значительно проще, чем кольцо с пальца, ибо кольцо берегут, и практически невозможно обрести вновь, потому что живем мы в век хронических болезней (исключая насморк, но включая его осложнения). Посему Елена вживалась в чужие несчастья, страдала чужими страданиями и как-то, еще в пору своей работы в поликлинике, проревела три дня кряду оттого, что буквально на ее глазах, хотя и отнюдь не по ее вине, умерла от восходящего паралича Ландри тридцатилетняя женщина с ее участка. И вообще она нередко приходила домой в слезах, что выводило из себя Торгома, обзывавшего ее дурой… «Дура ты, дура, кого оплакиваешь, мать, меня, прекрати, накличешь беду»…
С годами, правда, она стала относиться к болезням пациентов поспокойнее, то ли попривыкла, то ли очерствела, хотя последнее вряд ли, пусть слез и поубавилось, но это вовсе не означало, что она превратилась в бесчувственную колоду, как многие другие врачи, скорее, собственные невзгоды со временем притупили ее чрезмерную чувствительность, тем более, что оплакивала она не только чужие, но и свои неудачи и огорчения. Так в юные годы она проливала уйму слез после каждой вполне ординарной ссоры с Абуликом, которую по молодости лет полагала окончательным разрывом. Рыдала она и, расставаясь с Олевом, хотя наивно считала предстоявшую разлуку недолгой, рыдала дома, рыдала в машине – Олев отвез ее на вокзал в «Мерседесе», заехав по дороге к приятелю и заняв у него деньги на такси – рыдала в поезде, вначале в тамбуре, обливая слезами свитер Олева, потом, оставшись одна, в купе, где на нее таращились, удивленные таким потопом соседи, два русских бизнесмена, а может, и не бизнесмена, теперь ведь все попутчики кажутся бизнесменами, как раньше командированными, а просто не обремененные вещами молодые люди…
О молодых людях после разрыва с Абуликом Елена долгое время не думала, чуть ли не шарахалась от тех из них, которые робко или не очень пытались навязать ей свое общество, она была сыта любовью по горло и упивалась отдохновением от страстей, ей нравилось гулять по улицам с подругами, есть во время большой перемены в стекляшке кварталом ниже института толстые, как поросята, сардельки, ходить после лекций домой пешком, не торопясь и не поглядывая нервно на часы, посещать театры, концерты, выставки – Елена была падка на зрелища, врожденная эмоциональность побуждала ее к постоянному поиску питательной среды для множественных восторгов и необходимых для контраста огорчений.
Всем прочим зрелищам она предпочитала кино, нисколько не отличаясь в этом от усредненного индивидуума (если категория индивидуума вообще поддается усреднению) второй половины двадцатого века, но любила и театр, что для типичного представителя времени, променявшего живое зрелище на его мертвое изображение, уже не столь характерно. Фильмы она неутомимо выискивала по клубам и домам культуры, пробираясь на закрытые просмотры и необъявленные сеансы, особенно часто посещая клуб КГБ, где можно было – не имея ровно никакого отношения к указанной организации – пересмотреть кучу дефицитных лент, в том числе Феллини и Трюффо (но только не Годара, которого советская власть игнорировала до последнего своего вздоха, не включив его даже в посмертное – после смерти, к счастью, не годаровской, а своей – издание СЭС). Предпочтение Елена отдавала Феллини, близкому своим итальянским темпераментом ее натуре, ее любимым фильмом был «Амаркорд» (правда, на «Восемь с половиной» ей, как и другим советским зрителям, удалось полюбоваться только во второй половине восьмидесятых – счастливое время для любителей киноискусства, еще успевших увидеть шедевры перед тем, как непоправимо увязнуть в смеси джема с помоями).
В театры она ходила больше московские во время нередких наездов к столичной, а точнее, обосновавшейся в столице родне, и именно любви к театру она была обязана знакомством с Олевом, происшедшим неприметно, но неотвратимо в антракте ленкомовского спектакля, который Елена посетила в компании двоюродной сестры, подвизавшейся в редакции одной из московских газет (знакомый с советскими реалиями читатель немедленно догадается о тесных родственных связях кузины с тем самым дядюшкой-корреспондентом, к которому Елена ездила в Германию, и не слишком удивится, узнав, что и кузен был благополучно пристроен в еще одно, разумеется, иное – избави нас бог от семейственности! – издание и успешно трудился там на если не ниве, так на аккуратно подстриженном и подравненном газоне отечественной журналистики; правда, брат с сестрой в зарубежные корреспонденты не попали, и это понятно, ведь у всего их рода имелся неизлечимый дефект, они были чистокровными армянами, а армянин в столь ответственной – и благодатной – сфере мог присутствовать, как образец интернационализма, но никак не в качестве серийном). Итак, в антракте Елена с сестрой Лианой (как и брат Николай, благоразумно и заблаговременно названной именем, не выдававшим с первого звука ее сомнительное происхождение) вышли из партера и оказались лицом к лицу с некой парой: он – как выразился бы Маяковский, двухметроворостый, отлично сложенный блондин с квадратным подбородком и прочими компонентами истинно мужского лица, она – невзрачная, среднего роста, сложения, цвета волос, словом, посредственная во всех отношениях бабеночка… и как только подобные особы ухитряются подцепить истых викингов, викингов ab imis unguibus ad verticem summum[8], да и где они их вообще откапывают, ловкачки-кладоискательницы, вернее, кладонаходительницы, черт бы их побрал… Пока Елена мысленно разносила в пух и прах невидную русоволосую женщину, что в ее привычки не входило, она, как уже говорилось выше, была, как правило, снисходительна к малоудачным произведениям природы, сестра ее Лиана вдруг приостановилась и залепетала в унисон с викинговой спутницей, произошел обмен приветствиями и прочими дежурными фразами (хау ду ю ду, миссис Хиггинс), засим последовала процедура знакомства… моя двоюродная сестра, очень приятно, с Таней мы работаем вместе, а это Олев, мужа моего старинный приятель… Ага, подумала Елена, так это теперь называется, но поймала взгляд Олева и… значительно позднее Олев заявил ей, и она поверила, несмотря на пионерский оттенок заявления, впрочем, какая женщина откажется поверить в свою способность вызывать любовь с первого взгляда, как она ни насмехается над этим понятием в принципе… да-да, он сказал:
– Я влюбился в тебя с первого взгляда, ты была в синем… то есть, турецко-синем (имелся в виду бирюзовый), который необыкновенно тебе шел, и пахла французскими духами, настоящая Елена Прекрасная…
Настоящая Елена Прекрасная французскими духами пахнуть не могла никак, ибо французов, как таковых, не было тогда и в помине, но сразу вообразилась просторная зала, в центре которой у очага, под расширявшимися кверху четырьмя колоннами стояла, кутаясь в бирюзовый гиматий, Елена Прекрасная, дочь царя Тиндерея, а перед ней склонился высокий, похожий на молодого бога Парис…
Впрочем, это выглядело немного иначе, в мегароне, где ни о чем не подозревавший царь Спарты Менелай представил своей прекрасной супруге путешественника с берегов Геллеспонта, было жарко, и Елена сбросила свой гиматий, явив изумленному Парису округлые белые плечи и длинную шею, а бирюзового цвета Аргивянка не носила вовсе, бирюзовый это цвет брюнеток и любимым он стал у дочери Торгома с тех пор лишь, как она вернулась к своему первозданному облику, что случилось не столь уж давно, не в эпоху первого брака и даже не второго, в период второго она изображала пепельную блондинку, а при первом сохранила тот золотистый цвет, который завела при Абулике.
Итак, описав несколько крутых виражей, мы вернулись в отправную точку или, если угодно, перевалочный пункт, а именно, к первому Елениному браку. Случился этот брак, как уже говорилось, в силу объективных причин. Отдыхая душой и телом после трехлетнего общения с Абуликом, Елена незаметно для себя оказалась на шестом курсе, и впереди, уже в более чем обозримом будущем, маячили диплом и распределение, и если, с одной стороны, окончить институт и получить диплом раньше, чем свидетельство о браке, не позволяло самолюбие, с другой немилосердно давил Торгом, предчувствуя угрозу своему кошельку и требуя, чтоб его накопления были защищены от посягательства людей посторонних, иными словами, предпочитая дать приданое собственной дочери, нежели платить безымянным чиновникам, дабы хрупкое создание не подверглось ссылке в деревню, именуемой работа в ЦРБ (за малоизвестной этой аббревиатурой, дорогой читатель, крылась не какая-либо зловещая организация, оканчивавшаяся печально знакомым словом «безопасность», а всего лишь центральная районная больница – общесоюзная медицинская единица, вечно нуждавшаяся в кадрах и всегда искавшая их не там, где следовало бы). Заметим, что готовность отца выплачивать приданое эксплуатировалась Еленой нещадно, и даже у Олева осталось ее постельное белье, заготовленное некогда в неимоверных количествах. Итак, Елена не столько встала перед выбором, сколько склонилась перед напором и, торопливо оглядевшись, обратила взор на одноклассников. Надо сказать, что изгнанные, даже выдавленные из Елениной жизни Абуликом школьные друзья после падения его диктатуры по закону сообщающихся сосудов вновь и немедленно заполнили освобожденное Абуликом пространство, а если еще и упомянуть, что некоторые из них неровно дышали к бывшей однокласснице (или неравно душили ее?) со школьных лет, станет ясно, что проблема отнюдь не казалась неразрешимой. После недолгих колебаний Елена остановилась на свежеиспеченном рядовом советской армии инженеров Налбандяне Александре Серг… простите, Григорьевиче, рост 172 сантиметра (а где взять больше?), глаза карие, темный шатен, без особых примет, талантов и претензий, среднего интеллекта, кругозора, имущественного положения и прочая, прочая. И это выбор Елены? – спросите вы. Неужели она мечтала о таком муже? О нет, дорогой читатель, Елена мечтала вовсе не о таком и даже совсем о другом, ведь даже самая захудалая девица хочет иметь не просто мужа (с годами, правда, многие приходят именно к этому), но мужа, к примеру, красивого, желательно миллионера (пусть и подпольного), партийного деятеля (речь о временах, когда в конституции царила шестая статья) или, на худой конец, академика, а Елена – Елена мечтала быть женой гения. Конечно, гений понятие растяжимое, один считает таковыми только Микеланджело с Леонардо, а другой, сидя в кабаке с собратом по творческому союзу запросто провозглашает того гением после или, скорее, перед каждой рюмкой, без смущения выслушивая ответный панегирик (хотя, заметим, двадцать лет назад кабацкие восхваления все же не выносились на страницы газет, и понятие гениальности не было растянуто, как ныне, напоминая окончательно утративший форму пояс для чулок, налезающий на любую тушу, однако, делать нечего, незаметно, но безвозвратно мы переселились из обычного мира в рекламный, где писатели и артисты по инерции подаются публике в той же манере, что сыры и зубная паста). Елена на уровень малозаметных членов творческих союзов не опускалась, но и воспарять к высокому Возрождению почитала чрезмерным, ее вполне бы устроил калибр Минаса или Акопа Акопяна[9]. Однако, и Минасы рождаются не каждый день, и может так получиться, что в целом классе и даже школьном выпуске не обнаружится ни одного гения… что и говорить, в нашем веке нередки и случаи, когда ни одного, пусть и самого завалящего гения, да просто таланта не оказывается в отдельно, но целиком взятом поколении (речь, как вы понимаете, о гениях и талантах реальных, а не, как теперь модно выражаться, виртуальных), и есть признаки, что недалеко то время, когда от подобных выскочек избавится, наконец, все человечество и заживет спокойно, тихо (то есть громко, учитывая рост в геометрической прогрессии количества усилителей, громкоговорителей, ревцов, простите, певцов и ансамблей – увы, не дворцовых, не парковых и даже не пляжных – ведь шум, в отличие от гениев, произвести на свет несложно) и демократично, под самую завязку обеспеченное бытовой электроникой, туристическими поездками, полуфабрикатами и презервативами (а что еще человеку надо, если он живет, а не выпендривается?)… Словом, гениев в окружении Елены не оказалось. Ну что тут поделаешь! Выйти замуж за гения было бы заманчиво, но… И Елена решила просто выйти замуж.
Обрадованный Торгом – нельзя сказать, что осчастливленный, любой отец, как известно, переоценивает свое чадо, поднимая планку сверх всякой меры, Торгом, правда, не был настолько далек от действительности, сколь прочие, но и, будучи реалистом, считал себя вправе желать лучшего – итак, не осчастливленный, но обрадованный уже хотя бы тем, что в отличие от Абулика, новый претендент был при обоих родителях, гарантировавших часть неизбежных ежемесячных взносов в молодое хозяйство, которые большинство советских пап и мам вынуждено было делать, как минимум, до пенсии, Торгом закатил свадьбу на сотню персон, щедро украшенную жареными поросятами, разноцветной икрой и французским коньяком – последнее выглядело ни с чем не сообразной причудой, ведь пить в Армении французский коньяк почти то же самое, что во Франции душиться армянскими духами (буде таковые существовали бы). После свадьбы же было положено начало выдаче приданого – процесс, который впоследствии приобрел характер хронического. Первая атака, как обычно и случается, оказалась наиболее острой и продолжительной, в снятую для молодоженов обширную комнату в особнячке, ныне исчезнувшем с лица земли, а тогда располагавшемся в завидной близости и одновременно изолированно от центра, на поросшей лесом горке близ часового завода, позднее отчужденной и пущенной под строительство дома политпросвещения (достроенного в аккурат к моменту, когда то, что подразумевалось под политпросвещением, тихо скончалось, и в монументальном здании водворились те, против кого предполагалось политически просвещать – работники так называемого Американского университета), так вот в обширное, но, как выяснилось, все-таки недостаточно большое помещение последовательно ввозились части немецкого, а может, чешского мебельного гарнитура, носившего название «жилая комната», но вполне способного забить до отказа двухкомнатную табакерку или бонбоньерку, пышно именуемую в те годы квартирой, почему и некоторые его составляющие, например, письменный стол, застряли на веранде Торгомова дома. За мебелью последовали телевизор, холодильник, посуда, бесчисленное множество подушек, матрацев, одеял, простынь, полотенец и прочих решительно необходимых, а также совершенно лишних вещей, без которых, однако, не может обойтись ни одна женщина, а именно, разнообразных безделушек и даже игрушек, начиная с африканских масок из черного дерева и кончая плюшевыми зверями. Словом, приданое Елены ничем не уступало таковому ее мифической тезки, в нем не хватало разве что царства, скромного маленького царства, умещавшегося в античном городке с окрестностями. Впрочем, у царства есть один существенный недостаток, сбежав от опостылевшего мужа, с собой его не прихватишь, и даже малюсенькую Спарту тринадцатого века до нашей эры невозможно было втиснуть в отплывающий в Трою корабль, в силу чего разочарованной Елене Прекрасной пришлось ограничиться имуществом движимым, а именно, кое-какими сокровищами, которые молва и Гомер несправедливо считали принадлежавшими Менелаю – ну скажите, какие сокровища могут быть у того, кто пришел на все готовое, и неудивительно, что прекрасная аргивянка, не удовольствовавшись романтической юной страстью, таскала ночью на пару с Парисом оставленные ей папенькой ящики и бочонки…