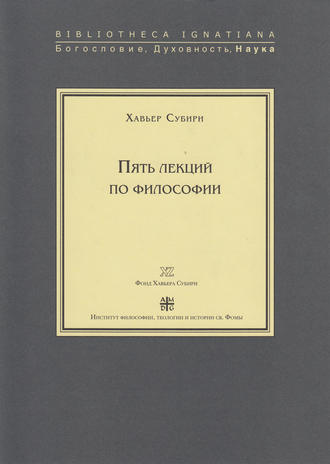
Хавьер Субири
Пять лекций по философии

Хавьер Субири (1898–1983)
Предварительные замечания
Эти страницы содержат текст лекций, организованных Обществом исследований и публикаций и прочитанных минувшей весной: седьмого, четырнадцатого, двадцать первого, двадцать восьмого марта и четвертого апреля. Это популярные лекции, преследующие чисто ознакомительные, учебные цели; я воздерживался в них от любых дискуссий или критических рассуждений. Поэтому они не составляют книги. Тем не менее, многие выражали желание видеть их опубликованными, полагая, что они могут быть полезны в качестве справочного руководства. Это и было тем соображением, которое подвигло меня к их публикации, предназначенной исключительно для названных целей. Соответственно, я намеревался ограничиться ротапринтным изданием лекций, однако технические трудности побудили издателей отпечатать их типографским способом, что ни в коей мере не меняет их характера и назначения.
Опубликованный текст соответствует тексту устных лекций; я внес лишь незначительные поправки. Во-первых, в некоторых местах потребовалась неизбежная адаптация стиля устной речи к письменной форме изложения. Во-вторых, при устных выступлениях мне приходилось для того, чтобы уложиться в отведенное время, опускать некоторые детали; я посчитал уместным вставить их в печатный текст. В результате редактура оказалась несколько бессистемной; но, принимая во внимание характер издания, я решил, что это не создаст особых затруднений.
Чтобы слушателям было легче ориентироваться, я посоветовал им прочитать небольшие фрагменты из текстов тех философов, о которых им предстояло услышать:
Лекция I: Аристотель, первые две главы книги первой «Метафизики».
Лекция II: Кант, Пролог ко второму изданию «Критики чистого разума».
Лекция III: Конт, первые две лекции первого тома «Курса позитивной философии».
Лекция IV: Бергсон, «Введение в метафизику», опубликованное вместе с другими работами в сборнике «La pensée et le mouvant»[1].
Лекция V: Гуссерль, «Философия как строгая наука»; Дильтей, «Сущность философии»; Хайдеггер, «Что такое метафизика».
Все эти тексты, за исключением, может быть, текстов Конта, имеются в испанских переводах.
Мадрид, 1963.
Лекция I
Аристотель
В этом году я хочу рассказать вам о том, что́ некоторые великие философы думали о философии. Я не собираюсь кратко излагать их философские учения, а просто расскажу, что они понимали под философией, как представляли себе то, чем занимались: философское знание, выдающимися представителями которого они были. В мои намерения не входит высказывать о ком-либо из них критические суждения; наоборот, я хочу полностью воздержаться от любых личных размышлений об идеях каждого из этих философов и ограничиться изложением их мысли в чисто учебной форме. Я бы только желал, чтобы по окончании этих пяти лекций мы все – и я первый – остались под впечатлением от столкновения с этими столь разными представлениями о философии. Под впечатлением, которое побуждает нас спрашивать себя: возможно ли, чтобы столь несхожие вещи назывались одним словом – «философия»? Вот единственный результат, которого я хотел бы достигнуть: чтобы к концу пятой лекции вы держали в своих головах ту же проблему, какую я держу в своей.
Выбор мыслителей не таит в себе никаких скрытых намерений; он абсолютно произволен. У меня нет возможности рассказать обо всех; стало быть, можно рассказать лишь о некоторых, выбранных просто потому, что они – наряду с прочими – достаточно значительны, чтобы о них говорить.
Сегодня, на первой лекции, мы будем говорить об Аристотеле и сосредоточимся, как на главной теме наших размышлений, на том, что́ Аристотель понимал под философией. Чем он, по его разумению, занимался, когда занимался философией?
В начале «Метафизики» Аристотель посвящает первые две главы описанию того, что́ он будет называть философией. Как известно, слово «метафизика» не встречается в аристотелевских текстах. Это чисто издательское название: Андроник Родосский дал его собранию безымянных текстов, следующих за трактатами по физике; поэтому он обозначил их как «то, что идет вслед за физикой», τά μετά τά φυσιϰά. Аристотель употребляет более подходящее выражение, к которому мы вскоре обратимся: первая философия.
«Философия» означает вкус, любовь к мудрости (σοφία) и к познанию, прежде всего к тому познанию, которое достигается путем рассмотрения, или созерцания, вещей и которое греки называли «теорией» (θεωρία). Эти три понятия (философия, софия, теория) всегда были тесно связаны в греческом сознании. Так, Геродот приписывает Крезу слова, которыми тот приветствовал Солона: «До нас дошло немало известий о тебе, как о твоей мудрости (σοφία), так и о твоих странствиях, и о том, что ты, побуждаемый любовью к знанию (ώς φιλοσοφέων), объездил множество стран, чтобы увидеть их своими глазами (θεωρίης εἵνεκεν)» (Histor. I, 30).
В форме прилагательного σοφός – чрезвычайно распространенное слово в греческом мире. Отнюдь не всегда, и даже не главным образом, оно обозначает нечто возвышенное и недоступное. Приблизительное значение слова σοφός – «понимающий в чем-либо». Хороший башмачник называется σοφός в башмачном ремесле, потому что умеет мастерски изготавливать обувь; а поскольку он умеет это делать мастерски, он способен научить этому других. Поэтому σοφός – это тот, кто отличается от остальных превосходным умением в какой бы то ни было области. В ходе развития этого значения слово σοφός в конце концов стало означать того, кто в силу превосходства в познаниях способен научить других всему, что связано с образованием, с воспитанием гражданина и т. д.: оно стало обозначать софиста, σοφιστής.
В форме причастия слово, выражающее идею философствования, существовало, как явствует из приведенного текста, уже во времена Геродота. Тем не менее, существительное «философия» (φιλοσοφία) возникло, вероятно, лишь в кругу сократиков. Во всяком случае, именно в этом кругу оно приобрело новый и точный смысл, заключающий в себе противопоставление мудрости как таковой. Дело в том, что в Греции слова σοφός и σοφία следовали также другой линии традиции, нежели та, которую мы только что упомянули. Тот σοφός, о котором у нас шла речь до сих пор, – это, в конечном счете, всего лишь человек, «понимающий» в своем деле и способный передать свое умение путем научения. Но с самых давних времен σοφία означала также особый тип знания: знание о мире, о частной и общественной жизни, – знание высшей пробы, наделяющее своего обладателя не просто способностью учить, но властью руководить и управлять. Это знание – Мудрость. Именно таковы были «семь мудрецов», σοφοί, к коим причисляли Солона. Образ семи мудрецов доминировал над всем греческим мышлением и греческим миром. В этом смысле образ мудреца существовал и на Востоке. Греки знали об этом, чему свидетельство – немногие фрагменты, сохранившиеся от юношеского труда Аристотеля «О философии». Но только в Греции мудрость была соотнесена с созерцанием, с теорией, и это внутреннее единство софии и теории явилось замечательным творением греческого духа. Именно поэтому великие философы – Гераклит, Парменид, Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит – были «великими мудрецами».
Так вот, перед лицом этих мудрецов, претендовавших на обладание мудростью, Сократ и его последователи заняли иную позицию, по видимости более скромную, а в действительности, может быть, несколько высокомерную. Эта позиция состояла в том, чтобы заявить: «я ничего не знаю», и это знание себя незнающим есть единственное знание, которым мы на самом деле обладаем. Единственная мудрость есть незнание. Поэтому σοφία – это не знание, которым уже обладают, а знание «искомое», которого ищут ради наслаждения им: сама σοφία есть не более чем «фило-софия». Это иная форма знания, нежели, например, «фило-калия» (φίλοκαλία), то есть любовь к прекрасному: такая форма знания, в которой главное состоит именно в искомости. Поэтому она представляет собой не столько доктрину, сколько жизненную позицию – новую жизненную позицию. Именно с этой позиции Сократ сталкивается с теми, кто до сих пор считал себя σοφος, мудрецом; в первую очередь – с прославленными философами. Согласно Ксенофонту, он упрекал их в том, что при всей своей теории, даже если отвлечься от их взаимных разногласий, они не способны узнать о Природе то, что всего нужнее для жизни: каким образом человек может предсказывать события и управлять ими. Но Сократ вступает в конфронтацию и с теми более приземленными людьми, которые считали себя σοφός в смысле «понимающего» в чем-либо. Прежде всего, он сталкивается с «понимающими» в общественной жизни – с софистами, которые притязают на то, чтобы учить гражданской добродетели. Их он ставит перед главным вопросом: есть ли добродетель (ἀρετή) нечто такое, чему можно научить и научиться. Во вторую очередь, если принять свидетельство Аристотеля и платоновский образ Сократа (в эту историческую проблему мы сейчас углубляться не будем), Сократ сталкивается со всяким «понимающим» в чем-либо, будь то личные качества людей или повседневные дела. Им он задает каверзные вопросы: что такое добродетель, справедливость, управление, счастье и т. д., – чтобы заставить их понять, что они, по существу, не знают того, что, как думали, знают лучше всего: можно ли кого-то назвать справедливым, мужественным, счастливым, добродетельным, управляющим и т. д. И эти вопросы не просто позволяют удостовериться в незнании, но и настоятельно побуждают к самопознанию («познай самого себя»). В результате человек должен отыскать внутри самого себя «понятие» того, что подвергается исследованию и что было ему неведомо, и отчеканить это понятие в «дефиниции». Незнание здесь – не просто состояние, оно – метод: метод сократической майевтики. В этом познании самого себя Сократ усматривал новый образ жизни: счастье, эвдаймонию, доставляемую знанием, которое исходит из самого человека и тем самым приносит ему полное удовлетворение. Таков идеал жизни, который снижается в малых сократических школах (у киников, киренаиков и т. д.). С другой стороны, то была первая попытка воспитать новый тип гражданина: почтительного к законам, но и непреклонно критичного по отношению к ним.
Платон довел эти указания Сократа до последних философских пределов. Термином сократической дефиниции становится уже не вещь, в ее вечной изменчивости, а то, что́ вещи неизменно «суть». Это бытие Платон назвал Идеей: тем, что постигается только в умном ви́дении, в Нусе. Такое видение не только является отчетливым, то есть не только позволяет строго отличить бытие одной вещи от бытия другой, но также позволяет постигнуть в Идее внутреннюю артикуляцию ее отличительных черт и ее связей с другими Идеями: ее определение. Майевтика превращается в диалектику Идей. Вот то, что понимал под философией Платон.
Именно в этом сократовско-платоновском кругу Аристотель выковал свое понимание философии: действительно новую идею философии. При этом ему пришлось иметь дело со всеми аспектами вопроса о σοφός, софии и философии, которые можно свести к трем:
Философия как форма знания. – Что именно знает философ, когда философствует? Вернее, что он должен знать, по мнению Аристотеля, – не в силу его каприза, а в силу того, что, как он полагал, составляет вечную тему философствования? Ответ на этот вопрос станет великим открытием Аристотеля.
Философия как интеллектуальная функция. – Какую роль играет философское знание в жизни в целом?
Философия как вид деятельности, как способ бытия философа.
Вот те три позиции, с которых нам предстоит последовательно бросить быстрый взгляд на аристотелевское представление о философии.
I. Философия как форма знания
Знать, εἰδέναι, означает обладать в уме истиной вещей. И Аристотель в первой строке «Метафизики» говорит нам: «Все люди по природе стремятся к знанию» (πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσετ, 980 a 21). Стало быть, речь идет о некоем стремлении (ὄρεξις), желании, которое присуще самой человеческой природе. Несомненно, Аристотель помнил фразу платоновского Федра: «Ибо некая философия, друг, по природе вложена в разумение человека» (φύσει γάρ, ὦ φίλε, ἔνεστι τις φιλοσοφία τῇ τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ, 279 a). Но Аристотель обращается не столько к разумению (διάνοτα), сколько к более скромному свойству – к желанию, стремлению (ὄρεξις). Знание, к которому мы стремимся по природе, есть не какое угодно знание, а именно εἰδέναι: знание, в котором мы утверждены в истине вещей. И знаком (σημεῖον) того, что это желание свойственно нам по природе, служит наслаждение, удовольствие, получаемое от ощущений (ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησίς). Мы увидим, что для Аристотеля эта по видимости легковесная фраза исполнена глубокого смысла, о котором мы будем говорить в третьей части этой лекции.
Это стремление к знанию, говорит Аристотель, человек до некоторой степени разделяет с животным, потому что начатки этого знания вложены в само чувствование, в αἴσθησις. Во-первых, сам факт чувствования означает действительное присутствие чего-либо. А во- вторых, некоторые животные (Аристотель исключает из их числа пчел) обладают способностью сохранять, удерживать почувствованное. И тогда простое чувствование, которое само по себе есть некая совокупность беглых впечатлений, подобных бегущей врассыпную армии, постепенно реорганизуется благодаря этому «удерживанию» (μνήμη): одно чувственное восприятие прочно закрепляется, к нему присоединяется другое, и т. д. И так, последовательно, устанавливается порядок. Этот порядок, организованный удерживающей способностью чувственной памяти, Аристотель называет опытом, эмпирией (ἐμπειρία). Поэтому о животных, имеющих больший опыт, мы говорим, что они в некотором смысле более умные.
Однако у человека есть и другие способы познания, свойственные исключительно ему. Другие способы познания, которые принадлежат к разным видам, но все опираются на опыт, на эмпирию, организованную посредством памяти: техне (τέξνη), фронесис (φρόνησις), эпистеме (ἐπιστήμη), нус (νοὒς) и софия (σοφία). Первым идет техне; латиняне перевели это слово термином ars: «искусство», «способность производить что-либо». Не будем обсуждать этот перевод, просто примем его к сведению и будем употреблять наряду с транслитерированным греческим словом: техне. Вторым идет фронесис, благоразумие. Третьей – эпистеме, наука в строгом смысле слова. Четвертым – нус, собственно «ум». Пятой – софия, мудрость. Эти пять способов познания, говорит Аристотель, суть способы ἀλήθεύειν. Этот глагол образован от существительного ἀλήθεια (истина); обычно его прекрасно переводят как «делать явным», но я предпочитаю более буквальный перевод: «пребывать в истине». Пять способов познания суть пять способов пребывать в истине чего-либо.
a) Техне. Человек «делает» вещи, причем придает слову «делать» точный смысл: «производить», «изготавливать» и т. д. Греки называют это пойесис (ποίησις). В делании то, в силу чего человек делает вещь, находится не в самих вещах, а в голове ремесленника, в отличие от природы (φύσις), заключающей в себе самой порождающее начало вещей. Поэтому техне – не природа. Так вот, было бы ошибкой думать, будто техне заключается в самом производстве. Речь идет не об этом. Для грека техне состоит не в том, чтобы делать вещи, а в том, чтобы уметь их делать. Момент знания: вот то, чем созидается техне. Именно поэтому Аристотель говорит, что техне есть способ – первичный и элементарный способ – знания, пребывания в истине вещей. Например, знание о том, что вот это лекарство вылечило Иванова, Петрова, Сидорова, есть опытное, эмпирическое знание; но знание о том, что вот это лекарство излечивает страдающих желчной болезнью, – уже не опыт, а искусство, в данном случае медицинское искусство (τέχνη ἰατρική). На первый взгляд, трудно уловить разницу между опытом и техне, тем более что обладающий опытом подчас достигает исцеления более успешно, чем врач. Это правда, но только в отношении производства того, что предполагается произвести. Так как больной всегда единичен, а опыт имеется о единичном, во многих случаях эмпирик оказывается успешнее медика. Но все это относится только к произведению намеченных следствий, а не к знанию об их произведении. В качестве знания, говорит Аристотель, техне намного превосходит знание опытное, эмпирическое, причем превосходит его в трех отношениях. Во-первых, тот, кто обладает техне, то есть τεχνίτης, «искусник», лучше знает вещи, нежели тот, кто обладает лишь опытом. Эмпирик знает, что такой-то человек болен, и что (ὁτι) он исцелится, если давать ему такое-то лекарство. Тот же, кто обладает техне, знает, почему (διότι) он исцелится. Оба знают, быть может, одно и то же, но врач знает это лучше. Знать, почему: вот отличительный признак техне. Техне – это не просто ловкость, но делание «со знанием причин». Поэтому, говорит Аристотель, способность руководить государством заключается не в ловкости манипулирования гражданами, а в знании причин применительно к общественным делам, политическое искусство (τέχνη πολιτική). Дело в том, что, согласно Аристотелю, вещи не просто «суть» (ὄντα), но в само их εἰναι, в то, что мы называем их «бытием», вписано, как их внутренний момент, нечто такое, что мы называем (рискнем употребить это неаристотелевское выражение) «резоном бытия». Вещи «суть» в той форме «бытия», которая представляет собой «бытие на основании причин» [ «резонное» бытие], или, если угодно, «бытие-резон».
Во-вторых, техне не только знает лучше, чем опыт, но также знает больше, чем опыт: знает больше вещей. В самом деле, благодаря опыту мы знаем несколько, знаем много больных; но благодаря техне мы знаем всех страдающих, например, желчной болезнью. Опытное, эмпирическое знание единично; знание в техне – универсально.
Наконец, в-третьих, по этой же самой причине обладающий техне лучше умеет передавать свое знание и учить ему других. То, что знаемо в техне, «научаемо» (μάθημα).
В этом тройном превосходстве (лучше знать, больше знать и знать, как научить) заключается высший характер того способа знания, каким является техне. И этот способ знания, взятый в качестве навыка (ἕξις), есть то, что делает обладающего им человека, «искусника», «мудрым», σοφός. Этот σοφός есть тот, кто обладает «навыком делать вещи сообразно истинному резону» (ἕξις τις μετὰ λόγου ἀληθοὒς ποιητική, 1140 a 21). Термином такого знания выступает пойесис, делание дела (ἕργον). Когда дело, эргон, выполнено и завершено, завершается также произведшая его операция.
b) Но наряду с этим знанием в техне человек обладает также знанием на уровне причины бытия, знанием всеобщим, которое относится не к операциям, не к пойесису человека над вещами или над самим собой как над вещью, а к действиям его собственной жизни. Это – знание, присущее фронесис, которую латиняне называли prudentia, благоразумием. Того, кто обладает выдающейся фронесис, мы также называем σοφος. Благоразумие – это не умение изготавливать вещи. Если пойесис, изготовление, делает дело, эргон, то человек живет, осуществляя действия: он не делает дело, а находится в деятельности. Если угодно говорить о деле, то нужно сказать, что это такое дело, которое заключается в самом делании: это не операция, производящая нечто отличное от самого делания. Этот тип дела, эргона, термин которого заключается в самой деятельности, Аристотель назвал «энергией» (ἐνέργεια), пребыванием в действии, в деятельности. Одна из разновидностей знания, связанного с этой деятельностью, с этой энергией, есть именно фронесис (φρόνησις). Поэтому термином фронесис является не пойесис, а праксис (πράξις). Праксис – это деятельность в действии, чистая энергия. Для Аристотеля праксис, то есть практическое, взятое в этом греческом смысле, не противостоит теоретическому. Наоборот, теория, как мы увидим, есть высшая форма праксиса – деятельности, которая самодостаточна, потому что не производит ничего вне себя самой.
Доставляемое благоразумием знание, о котором нам говорит Аристотель, – это не только знание того, как следует действовать в определенных частных обстоятельствах. Это всеобщее знание, потому что оно относится к жизни и благу человека вообще: это знание о том, как поступать в жизни, взятой как целое. Такое знание не могло бы существовать, если бы не имело конкретного объекта. И этот объект – добро и зло (ἀγαθὸν καὶ κακόν). Знать, как действовать в жизни сообразно добру и злу для человека: вот что такое для Аристотеля фронесис, благоразумие. Это «практический навык, сообразный истинному резону, в отношении блага и зла для человека» (ἕξις ἀληθὴς μετὰ λόγου πρακτικὴ περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαθὰ καὶ κακά, 1140 b 5).
Сколь бы различными ни были техне и благоразумие, им свойственны, тем не менее, две общие черты. Первая черта: они представляют собой знание, обладающее причинным характером и всеобщностью. Вторая черта: как эргон, то есть объект «делания» (пойесис), так и энергия жизненного праксиса «суть» неким определенным образом; благодаря этому мы можем познавать их причины с универсальной точки зрения. Но то и другое «могло бы быть и иначе». Поэтому эти два модуса знания страдают хрупкостью, неотъемлемой от их объекта: то, что «есть» одним способом, могло бы быть и другим. Более того, даже если фактически данный объект всегда пребывает одним и тем же способом, он не «есть» этим способом с необходимостью.
Этим двум модусам знания противостоят другие, высшие модусы. Такие модусы знания, несомненно, представляют собой также праксис, а значит, энергию, но относятся к тому, что может быть только так и не иначе: к чему-то такому, что по необходимости «есть» – «всегда есть», ἀεὶ ὀν, как называли это греки, подразумевая, что «всегда» здесь означает «с необходимостью». Здесь само «бытие», εἶναι, не только включает в себя «резон бытия», но этот резон бытия к тому же абсолютно необходим. Такое «необходимое бытие» составляет термин трех модусов знания.
c) Первый способ знать абсолютно необходимое не только кажет нам (δεξἶς) причину чего-либо, но и доставляет нам истинное знание о конституирующей его необходимости в ее внутренней артикуляции. Знание этой артикуляции есть уже не казание, а доказательство (απόδειξις). И наоборот, доказательный способ знания относительно чего-либо может относиться только к тому, что необходимо «есть». Именно это знание Аристотель называет в строгом смысле επιστήμη, наукой. Наука – это навык (ἕξις) доказательства. Эпистеме – не просто scire (Wissen, «знание», как сказали бы немцы), а scientia (Wissenschaft, «научное знание»). Это действительно истинное знание вещей. Определение точной и строгой структуры этого конкретного вида знания составило одно из великих достижений Аристотеля: идею научного знания.
Объектом эпистеме, науки, является не просто всеобщее «почему» (в этом наука совпадает с техне), а необходимое всеобщее «почему». Поэтому наука состоит в том, чтобы заставить объект – то, что́ он собой представляет (τι) – показать (δεῖξις) из самого себя (ἀπό) вот этот момент «почему» (διότι), в силу которого ему с необходимостью присуще некоторое свойство. Стало быть, такое доказательство, πόδειξις, есть нечто очень близкое выказыванию (выставлению напоказ, επίδειξις). Ибо доказательство, демонстрация, означает для Аристотеля прежде всего не рассуждение, а выказывание вещью своей необходимой внутренней структуры. Здесь «демонстрация» употребляется в том же смысле, в каком мы говорим, например, о публичной демонстрации силы.
Такое доказательство осуществляется в ментальном акте, обладающем совершенно конкретной структурой: в логосе. Утверждение, что некий объект S с необходимостью обладает неким свойством P, есть логос; и поэтому та ментальная структура, которая приводит к этому логосу, именуется логикой. Логика – это путь (μέθοδος), приводящий к логосу того, что́ вещь с необходимостью «есть». Будучи ментальной структурой, логос заключает в себе несколько моментов. Пока мы должны исходить из того, что в логосе истинно выражается тот факт, что объект S внутренне, в самом своей бытии, заключает момент M, который есть момент «почему». Но мы к тому же нуждаемся в таком логосе, который истинно выразил бы характер, сообразно которому этот момент с необходимостью служит основанием свойства P, – другими словами, показал бы его «почемуйный» характер. Только тогда логос «S с необходимостью есть P» получает обоснование и в результате становится выводом из двух предыдущих логосов, именуемых поэтому пред-посылками. Предпосылки суть то, «откуда» вытекает необходимость вывода. Всякое «откуда» (ὅθεν) представляет собой начало (ἀρχή), ибо начало есть именно то, «откуда» нечто берется. Поэтому логосы, каковыми являются предпосылки, суть начала (ἀρχαί) логоса вывода. Это сопряжение логосов Аристотель назвал силлогизмом (συλλογισμός): связкой (συν) логосов. Именно это необходимое сопряжение, взятое в качестве пути, обычно называют также «демонстрацией» в смысле доказательства. Но демонстрацией оно является не в силу этой формальной сопряженности, а в силу того, что в нем совершается вы-казывание, ἀπόδειξις, выставление напоказ внутренней артикуляции той необходимости, которая присуща бытию чего-либо. Доказательство не потому есть доказательство, что оно представляет собой силлогизм, а наоборот: силлогизм есть доказательство потому, что сопряжение логосов в самой вещи заставляет нас увидеть в ней структуру ее необходимого бытия. Это сопряжение есть ἀποδειξις.
Достигнутое таким образом знание Аристотель называет эпистеме, наукой. Эпистеме – это доказательное постижение. Стало быть, знать означает здесь не только точно отличать то, чем является одна вещь, от того, чем является другая вещь; не только точно определять внутреннюю артикуляцию того, что́ есть данная вещь, ее τί. Знать означает демонстрировать внутреннюю необходимость того, что не может быть иначе. Научное знание есть аподиктическое знание. Таково было гениальное свершение Аристотеля.
d) При всем том, говорит Аристотель, эта наука ограниченна, потому что хотя она и кажет нам необходимость, но кажет ее ограниченным образом. Не все то, что свойственно не могущему быть иначе, поддается доказательству. Дело в том, что любое доказательство, как мы видели, опирается на некие начала, ἀρχαί. Эти начала суть не только и не столько посылки доказательного рассуждения, сколько первичные предпосылки, которые в самой вещи составляют основание ее необходимости. Поэтому базовые начала недостижимы путем доказательства. Во-первых, потому, что, хотя многие начала демонстративного силлогизма могут быть доказаны и доказываются, в свою очередь, другими силлогизмами, в какой-то момент мы должны будем прийти к тому, что недоказуемо: в противном случае весь корпус доказательств окажется лишенным основания. А во-вторых, и это главное, начала – в смысле конститутивных предпосылок чего-либо – составляют такое основание необходимости некоторых свойств, которое, в свою очередь, на чем-то основано. В конечном счете, они опираются на некоторые начала, которые составляют последнее основание исследуемой нами необходимости. Так вот, ἀπόδείξις кажет нам, исходя из самой вещи, внутреннюю артикуляцию ее свойств, но не кажет нам аподиктически саму необходимость ее начальных базовых моментов. Стало быть, наука ограниченна в этом двойном смысле – логическом и реальном. Она не кажет нам всей необходимости вещи.
Человек познает базовые начала необходимости чего-либо другим способом познания: посредством умного постижения (νοὒς). Аристотель понимает здесь «умное постижение» (νοὒς) не в смысле акта некоей способности, а в смысле способа познания. Это слово νοὒς часто переводили как «Разум» [Razόn].
Что представляют собой эти начала? В первую очередь, как я уже говорил, это не высказывания, а предпосылки, составляющие в самой вещи основание аподиктической необходимости. Например, математика аподиктически познает необходимые свойства треугольника; но это предполагает, что нам уже известно: то, о чем идет речь, есть треугольник. Любая необходимость есть необходимость чего-то; и это что-то, предпосланное любой необходимости, это нечто, чьей необходимостью является необходимость, есть бытие-треугольником. Так вот, треугольник «как таковой» отнюдь не тождествен множеству более или менее треугольных вещей, предлагаемых нам чувственным восприятием, потому что треугольник есть всегда как единый и самотождественный. Способ, каким мы познаем, что это бытие «есть всегда», представляет собой своего рода высшее усмотрение, Нус. Платон считал его непосредственным и врожденным ви́дением. Аристотель полагал, что речь идет о ноэтическом ви́дении «в» самих чувственных вещах. Не будем углубляться в эту проблему. Единственное, что здесь для нас важно, – этот сам факт, что Нус представляет собой особый модус знания, посредством которого мы усматриваем вещи в их неизменном бытии, и это бытие есть начало любого рода доказательств. Естественно, Аристотель ограничивает Нус некоторыми высшими постижениями, высшими усмотрениями бытия вещей. Только таким образом возможно аподиктическое постижение. Аподиктическое знание относится не прямо к треугольным вещам, а к треугольнику «как таковому». Поэтому ноэтическое ви́дение треугольности есть начало всецелой науки о треугольнике.
е) Так вот: эти начала – не объект науки, а ее предпосылки. Наука не спрашивает о них, а исходит из них как данности. Геометрия не задается вопросом о том, имеются ли треугольники; она задается вопросом об их свойствах. Сплошь и рядом одна наука заимствует свои начала у другой. Если бы существовал такой способ познания, который заключался бы одновременно в усмотрении начал и в усмотрении необходимости, с которой из них выводится аподиктическое знание, то такой способ познания превышал бы науку и Нус. Именно его Аристотель называет Мудростью (σοφία). Мудрость – это внутреннее единство Нуса и эпистеме в знании. Это – целостное знание чего-либо, потому что только в таком знании мы вполне знаем, что такое бытие, которое с необходимостью есть всегда. Фидий и Поликлет, говорит Аристотель, – образцы мудрости в искусстве, потому что они не только умели чудесно ваять свои статуи (что было бы равносильно эпистеме), но и обладали усмотрением (Нусом) прекраснейших из всех возможных статуй. Неоднократно, особенно когда речь идет о философии, Аристотель также называет это знание просто «эпистеме»; но это такая эпистеме, которая заключает в себе Нус. Об этой мудрости он говорит, что она есть «знание и Нус вещей, которые по своей природе – благороднейшие» (τὢν τιμιωτάτων τη φύσει, Eth. Nik., 1141 b 2): знание наивысших вещей.






