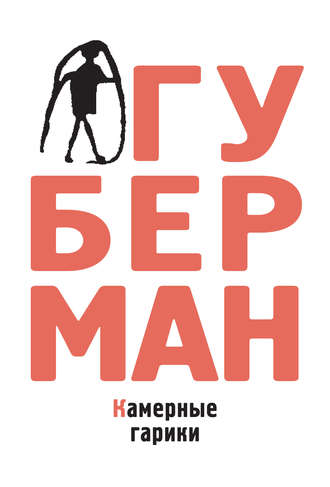
Игорь Губерман
Камерные гарики
Моей жене Тате – с любовью и благодарностью
ОБГУСЕВШИЕ ЛЕБЕДИ
Благодарю тебя, Создатель,
что сшит не юбочно, а брючно,
что многих дам я был приятель,
но уходил благополучно.
Благодарю тебя, Творец,
за то, что думать стал я рано,
за то, что к водке огурец
ты посылал мне постоянно.
Благодарю тебя, Всевышний,
за все, к чему я привязался,
за то, что я ни разу лишний
в кругу друзей не оказался.
И за тюрьму благодарю,
она во благо мне явилась,
она разбила жизнь мою
на разных две, что тоже милость.
И одному тебе спасибо,
что держишь меру тьмы и света,
что в мире дьявольски красиво
и мне доступно видеть это.
ВСТУПЛЕНИЕ 1-е
Прекрасна улица Тверская,
где часовая мастерская.
Там двадцать пять евреев лысых
сидят – от жизни не зависят.
Вокруг общественность бежит,
и суета сует кружит;
гниют и рушатся режимы,
вожди летят неудержимо;
а эти белые халаты
невозмутимы, как прелаты,
в апофеозе постоянства
среди кишащего пространства.
На верстаки носы нависли,
в глазах – монокли,
в пальцах – мысли;
среди пружин и корпусов,
давно лишившись волосов,
сидят незыблемо и вечно,
поскольку Время – бесконечно.
ВСТУПЛЕНИЕ 2-е
В деревне, где крупа пшено
растет в полях зеленым просом,
где пользой ценится гавно,
а чресла хряков – опоросом,
я не бывал.
Разгул садов,
где вслед за цветом – завязь следом
и зрелой тяжестью плодов
грузнеют ветви,
мне неведом.
Далеких стран, чужих людей,
иных обычаев и веры,
воров, мыслителей, блядей,
пустыни, горы, интерьеры
я не видал.
Морей рассол
не мыл мне душу на просторе;
мне тачкой каторжника – стол
в несвежей городской конторе.
Но вечерами я пишу
в тетрадь стихи,
то мглой, то пылью
дышу,
и мирозданья шум
гудит во мне, пугая Цилю.
Пишу для счастья, не для славы,
бумага держит, как магнит,
летит перо, скрипят суставы,
душа мерцает и звенит.
И что сравнится с мигом этим,
когда порыв уже затих
и строки сохнут? Вялый ветер,
нездешний ветер сушит их.
БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ
Это жуткая работа!
Ветер воет и гремит,
два еврея тянут шкоты,
как один антисемит.
* * *
А на море, а на море!
Волны ходят за кормой,
жарко Леве, потно Боре,
очень хочется домой.
* * *
Но летит из урагана
черный флаг и паруса:
восемь Шмулей, два Натана,
у форштевня Исаак.
* * *
И ни Бога нет, ни черта!
Сшиты снасти из портьер;
яркий сурик вдоль по борту:
«ФИМА ФИШМАН,
ФЛИБУСТЬЕР».
* * *
Выступаем! Выступаем!
Вся команда на ногах,
и написано «ЛЕ ХАИМ»
на спасательных кругах.
* * *
К нападенью все готово!
На борту ажиотаж:
– Это ж Берчик! Это ж Лева!
– Отмените абордаж!
* * *
– Боже, Лева! Боже, Боря!
– Зай гезунд! – кричит фрегат;
а над лодкой в пене моря
ослепительный плакат:
* * *
«Наименьшие затраты!
Можно каждому везде!
Страхование пиратов
от пожара на воде».
* * *
И опять летят, как пули,
сами дуют в паруса
застрахованные Шмули,
обнадеженный Исаак.
* * *
А струя – светлей лазури!
Дует ветер. И какой!
Это Берчик ищет бури,
будто в буре есть покой.
БОРОДИНО ПОД ТЕЛЬ-АВИВ
Во снах существую и верю я,
и дышится легче тогда;
из Хайфы летит кавалерия,
насквозь проходя города.
Мне снится то ярко, то слабо,
кошмары бессонницей мстят;
на дикие толпы арабов
арабские кони летят.
* * *
Под пенье пуль,
взметающих зарницы
кипящих фиолетовых огней,
ездовый Шмуль
впрягает в колесницу
хрипящих от неистовства коней.
Для грамотных полощется, волнуя,
ликующий обветренный призыв:
«А идише! В субботу не воюем!
До пятницы захватим Тель-Авив!»
* * *
Уже с конем в одном порыве слился
нигде не попадающий впросак
из Жмеринки отважный Самуилсон,
из Ганы недоеденный Исаак.
У всех носы, изогнутые властно,
и пейсы, как потребовал закон;
свистят косые сабли из Дамаска,
поет «индрерд!» походный саксофон.
* * *
Черняв и ловок, старшина пехоты
трофейный пересчитывает дар:
пятьсот винтовок, сорок пулеметов
и обуви пятнадцать тысяч пар.
Над местом боя солнце стынет,
из бурдюков течет вода,
в котле щемяще пахнет цимес,
как в местечковые года.
Ветеринары боевые
на людях учатся лечить,
бросают ружья часовые,
Талмуд уходят поучить.
Повсюду с винным перегаром
перемешался легкий шум;
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» —
поет веселый Беня Шуб.
* * *
Бойцы вспоминают минувшие дни
и талес, в который рядились они.
* * *
А утром, в оранжевом блеске,
по телу как будто ожог;
отрывисто, властно и резко
тревогу сыграет рожок.
* * *
И снова азартом погони
горячие лица блестят;
седые арабские кони
в тугое пространство летят.
* * *
Мы братья – по пеплу и крови.
Отечеству верно служа,
мы – русские люди,
но наш могендовид
пришит на запасный пиджак.
КУХНЯ И САНДАЛИЙ
Все шептались о скандале.
Кто-то из посуды
вынул Берчикин сандалий.
Пахло самосудом.
* * *
Кто-то свистнул в кулак,
кто-то глухо ухнул;
во главе идет Спартак
Менделевич Трухман.
* * *
Он подлец! А мы не знали.
Он зазвал и пригласил
в эту битву за сандалий
самых злостных местных сил.
* * *
И пошла такая свалка,
как у этих дурачков.
Никому уже не жалко
ни здоровья, ни очков.
* * *
За углом, где батарея,
перекупщик Пиня Вайс
мял английского еврея
Соломона Экзерсайс.
* * *
Обнажив себя по пояс,
как зарезанный крича,
из кладовой вышел Двойрис
и пошел рубить сплеча.
* * *
Он друзьям – как лодке руль.
Это гордость наша.
От рожденья имя – Сруль,
а в анкете – Саша.
* * *
Он худой как щепочка,
щупленький как птенчик,
сзади как сурепочка,
спереди как хренчик.
* * *
Но удары так и сыпет!
Он повсюду знаменит,
в честь его в стране Египет
назван город Поц-Аид.
* * *
Он упал, поднялся снова,
воздух мужеством запах;
«Гиб а кук! – рыдали вдовы. —
Не топчите Сруля в пах!..»
* * *
Но – звонок и тишина...
И над павшим телом —
участковый старшина
Фима Парабеллум.
* * *
...Сладкий цимес – это ж прелесть!
А сегодня он горчит.
В нем искусственная челюсть
деда Слуцкера торчит.
* * *
Все разбито в жуткой драке,
по осколкам каждый шаг,
и трусливый Леня Гаккель
из штанов достал дуршлаг.
* * *
За оторванную пейсу
кто-то стонет, аж дрожит;
на тахте у сводни Песи
Сруль растерзанный лежит.
* * *
Он очнулся и сказал:
«Зря шумел скандальчик:
я ведь спутал за сандал
жареный сазанчик».
ПРО ТАЧАНКУ
Ты лети с дороги, птица!
Зверь, с дороги – уходи!
Видишь – облако клубится?
Это маршал впереди.
* * *
Ровно вьются портупеи,
мягко пляшут рысаки;
все буденновцы – евреи,
потому что – казаки.
* * *
Подойдите, поглядите,
полюбуйтесь на акцент:
маршал Сема наш водитель,
внепартийный фармацевт.
* * *
Бой копыт, как рокот грома,
алый бархат на штанах;
в синем шлеме – красный Шлема,
стройный Сруль на стременах...
* * *
Конармейцы, конармейцы
на неслыханном скаку —
сто буденновцев при пейсах,
двести сабель на боку.
* * *
А в седле трубач горбатый
диким пламенем горит,
и несет его куда-то,
озаряя изнутри.
* * *
Он сидит, смешной и хлипкий,
наплевавший на судьбу,
он в местечке бросил скрипку,
он в отряд принес трубу.
* * *
И ни звать уже, ни трогать,
и сигнал уже вот-вот...
Он возносит острый локоть
и растет, растет, растет...
* * *
Ну, а мы-то? Мы ж потомки!
Рюмки сходятся, звеня,
будто брошены котомки
у походного огня.
* * *
Курим, пьем, играем в карты,
любим женщин сгоряча,
обещанием инфаркта
колет сердце по ночам.
* * *
Но закрой глаза плотнее,
отвори мечте тропу...
Едут конные евреи
по ковыльному степу...
* * *
Бьет колесами тачанка,
конь играет, как дельфин;
а жена моя – гречанка!
Циля Глезер из Афин!
* * *
Цилин предок – не забудь! —
он служил в аптеке.
Он прошел великий путь
из евреев в греки...
* * *
Дома ждет меня жена;
плача, варит курицу.
Украинская страна,
жмеринская улица...
* * *
Так пускай звенит посуда,
разлетаются года,
потому что будут, будут,
будут битвы – таки да!..
* * *
Будет пыльная дорога
по дымящейся земле,
с красным флагом синагога
в белокаменном селе.
* * *
Дилетант и бабник Мойше
барабан ударит в грудь;
будет все! И даже больше
на немножечко чуть-чуть...
МОНТИГОМО
НЕИСТРЕБИМЫЙ КОГАН
На берегах Амазонки в середине нашего века было обнаружено племя дикарей, говорящих на семитском диалекте. Их туземной жизни посвящается поэма.
Идут высокие мужчины,
по ветру бороды развеяв;
тут первобытная община
доисторических евреев.
* * *
Законы джунглей, лес и небо,
насквозь прозрачная река...
Они уже не сеют хлеба
и не фотографы пока.
* * *
Они стреляют фиш из лука
и фаршируют, не спеша;
а к синагоге из бамбука
пристройка есть – из камыша.
* * *
И в ней живет – без жен и страха —
религиозный гарнизон:
Шапиро – жрец, Гуревич – знахарь
и дряхлый резник Либензон.
* * *
Его повсюду кормят, любят —
он платит службой и добром:
младенцам кончики он рубит
большим гранитным топором.
* * *
И жены их уже не знают,
свой издавая первый крик,
что слишком длинно обрубает
глухой завистливый старик...
* * *
Они селились берегами
вдали от сумрака лиан,
где бродит вепрь – свинья с рогами, —
и стонут самки обезьян.
* * *
Где конуса клопов-термитов,
белеют кости беглых коз,
и дикари-антисемиты
едят евреев и стрекоз.
* * *
Где горы Анды, словно Альпы,
большая надпись черным углем:
«Евреи! Тут снимают скальпы!
Не заходите в эти джунгли!»
* * *
Но рос и вырос дух бунтарский,
и в сентябре, идя ва-банк,
собрал симпозиум дикарский
народный вождь Арон Гутанг.
* * *
И пел им песни кантор Дымшиц,
и каждый внутренне горел;
согнули луки и, сложившись,
купили очень много стрел.
* * *
...Дозорный срезан. Пес – не гавкнет.
По джунглям двинулся как танк
бананоносый Томагавкер
и жрец-раскольник Бумеранг.
В атаке нету Мордехая,
но сомкнут строй, они идут;
отчизну дома оставляя,
семиты – одного не ждут!
А Мордехай – в нем кровь застыла —
вдоль по кустам бежал, дрожа,
чем невзначай подкрался с тыла,
антисемитов окружа...
Бой – до триумфа – до обеда!
На час еды – прощай, война.
Евреи – тоже людоеды,
когда потребует страна.
* * *
Не верьте книгам и родителям.
История темна, как ночь.
Колумб (Аид), плевав на Индию,
гнал каравеллы, чтоб помочь.
Еврейским занявшись вопросом,
Потемкин, граф, ушел от дел;
науки бросив, Ломоносов
Екатерину поимел.
Ученый, он боялся сплетен
и только ночью к ней ходил.
Старик Державин их заметил
и, в гроб сходя, благословил.
В приемных Рима подогретый,
крестовый начался поход;
Вильям Шекспир писал сонеты,
чтоб накопить на пароход.
* * *
...Но жил дикарь – с евреем рядом.
Века стекали с пирамид.
Ассимилировались взгляды.
И кто теперь антисемит?
* * *
Хрустят суставы, гнутся шеи,
сраженье близится к концу,
и два врага, сойдясь в траншее,
меняют сахар на мацу.
* * *
В жестокой схватке рукопашной
ждала победа впереди.
Стал день сегодняшний – вчерашним;
никто часов не заводил.
* * *
И эта мысль гнала евреев,
она их мучила и жгла:
ведь если не смотреть на время,
не знаешь, как идут дела.
* * *
А где стоят часы семитов,
там время прекращает бег;
в лесу мартышек и термитов
пещерный воцарился век.
* * *
За пищей вглубь стремясь податься,
они скрывались постепенно
от мировых цивилизаций
и от культурного обмена.
* * *
И коммунизм их – первобытен,
и в шалашах – портрет вождя,
но в поступательном развитии
эпоху рабства обойдя,
и локоть к локтю, если надо,
а если надо, грудь на грудь,
в коммунистических бригадах
к феодализму держат путь...
СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
Мы все мучительно похожи.
Мы то знакомы, то – родня.
С толпой сливается прохожий —
прямая копия меня.
* * *
Его фигура и характер
прошли крученье и излом;
он – очень маленький бухгалтер
в большой конторе за углом.
* * *
Он опоздал – теперь скорее!
Кино, аптека, угол, суд...
А Лея ждет и снова греет
который раз остывший суп.
* * *
Толпа мороженщиц Арбата,
кафе, сберкасса, магазин...
Туг бегал в школу сын когда-то,
и незаметно вырос сын...
* * *
Но угнали Моисея
от родных и от друзей!..
Мерзлоту за Енисеем
бьет лопатой Моисей.
* * *
Долбит ломом, и природа
покоряется ему;
знает он, что враг народа,
но не знает – почему.
* * *
Ожиданьем душу греет,
и – повернут ход событий:
«Коммунисты и евреи!
Вы свободны. Извините»...
* * *
Но он теперь живет в Тюмени,
где даже летом спит в пальто,
чтоб в свете будущих решений
теплее ехать, если что...
Рувим спешит. Жена – как свечка!
Ей говорил в толпе народ,
когда вчера давали гречку,
что будто якобы вот-вот,
кого при культе награждали,
теперь не сносит головы;
а у Рувима – две медали
восемьсотлетия Москвы!
* * *
А значит – светит путь неблизкий,
где на снегу дымят костры;
и Лея хочет в Сан-Франциско,
где у Рувима три сестры.
* * *
Она боится этих сплетен,
ей страх привычен и знаком...
Рувим, как радио, конкретен,
Рувим всеведущ, как райком:
* * *
«Ах, Лея, мне б твои заботы!
Их Сан-Франциско – звук пустой;
ни у кого там нет работы,
а лишь один прогнивший строй!
* * *
И ты должна быть рада, Лея,
что так повернут шар земной:
американские евреи —
они живут вниз головой!»
* * *
И Лея слушает, и верит,
и сушит гренки на бульон,
и не дрожит при стуке в двери,
что постучал не почтальон...
* * *
Уходит день, вползает сумрак,
теснясь в проем оконных рам;
концерт певицы Имы Сумак
чревовещает им экран.
* * *
А он уснул. Ступни босые.
Пора ложиться. Лень вставать.
«Литературную Россию»
жена подаст ему в кровать.
* * *
62 – 67 гг.
ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК
Во что я верю, жизнь любя?
Ведь невозможно жить, не веря.
Я верю в случай, и в себя,
и в неизбежность стука в двери.
77 год
Я взял табак, сложил белье —
к чему ненужные печали?
Сбылось пророчество мое,
и в дверь однажды постучали.
79 год
* * *
Друзьями и покоем дорожи,
люби, покуда любится, и пей,
живущие над пропастью во лжи
не знают хода участи своей.
* * *
И я сказал себе: держись,
Господь суров, но прав,
нельзя прожить в России жизнь,
тюрьмы не повидав.
* * *
Попавшись в подлую ловушку,
сменив невольно место жительства,
кормлюсь, как волк, через кормушку
и охраняюсь, как правительство.
* * *
Свою тюрьму я заслужил.
Года любви, тепла и света
я наслаждался, а не жил,
и заплатить готов за это.
* * *
Серебра сигаретного пепла
накопился бы холм небольшой
за года, пока зрело и крепло
все, что есть у меня за душой.
* * *
Когда нам не на что надеяться
и Божий мир не мил глазам,
способна сущая безделица
пролиться в душу как бальзам.
* * *
Среди воров и алкоголиков
сижу я в каменном стакане,
и незнакомка между столиков
напрасно ходит в ресторане.
Дыша духами и туманами,
из кабака идет в кабак
и тихо плачет рядом с пьяными,
что не найдет меня никак.
* * *
В неволе зависть круче тлеет
и злее травит бытие;
в соседней камере светлее,
и воля ближе из нее.
* * *
Думаю я, глядя на собрата —
пьяницу, подонка, неудачника, —
как его отец кричал когда-то:
«Мальчика! Жена родила мальчика!»
* * *
Несчастья освежают нас и лечат
и раны присыпают слоем соли;
чем ниже опускаешься, тем легче
дальнейшее наращиванье боли.
* * *
На крайности последнего отчаянья
негаданно-нежданно всякий раз
нам тихо улыбается случайная
надежда, оживляющая нас.
* * *
Страны моей главнейшая опора —
не стройки сумасшедшего размаха,
а серая стандартная контора,
владеющая ниточками страха.
* * *
Тлетворной мы пропитаны смолой
апатии, цинизма и безверия.
Связавши их порукой круговой,
на них, как на китах, стоит империя.
* * *
Как же преуспели эти суки,
здесь меня гоняя, как скотину,
я теперь до смерти буду руки
при ходьбе закладывать за спину.
* * *
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьезность идиота
и хмурая старательность его.
* * *
Здесь радио включают, когда бьют,
и музыкой притушенные крики
звучат как предъявляемые в суд
животной нашей сущности улики.
* * *
Томясь тоской и самомнением,
не сетуй всуе, милый мой,
жизнь постижима лишь в сравнении
с болезнью, смертью и тюрьмой.
* * *
Плевать, что небо снова в тучах
и гнет в тоску блажная высь,
печаль души врачует случай,
а он не может не найтись.
* * *
В объятьях водки и режима
лежит Россия недвижимо,
и только жид, хотя дрожит,
но по веревочке бежит.
* * *
Еда, товарищи, табак,
потом вернусь в семью;
я был бы сволочь и дурак,
ругая жизнь мою.
* * *
Я заметил на долгом пути,
что, работу любя беззаветно,
палачи очень любят шутить
и хотят, чтоб шутили ответно.
* * *
Из тюрьмы ощутил я страну —
даже сердце на миг во мне замерло —
всю подряд в ширину и длину
как одну необъятную камеру.
* * *
Бог молча ждет нас. Боль в груди.
Туман. Укол. Кровать.
И жар тоски, что жил в кредит
и нечем отдавать.
* * *
Я ночью просыпался и курил,
боясь, что то же самое приснится:
мне машет стая тысячами крыл,
а я с ней не могу соединиться.
* * *
Прихвачен, как засосанный в трубу,
я двигаюсь без жалобы и стона,
теперь мою дальнейшую судьбу
решит пищеварение закона.
* * *
Прощай, удача, мир и нега!
Мы привыкаем ко всему;
от невозможности побега
я полюбил свою тюрьму.
* * *
У жизни человеческой на дне,
где мерзости и боль текущих бед,
есть радости, которые вполне
способны поддержать душевный свет.
* * *
Там, на утраченной свободе,
в закатных судорогах дня
ко мне уныние приходит,
а я в тюрьме, и нет меня.
* * *
Империи летят, хрустят короны,
история вершит свой самосуд,
а нам сегодня дали макароны,
а завтра – передачу принесут.
* * *
Когда уходит жить охота
и в горло пища не идет,
какое счастье знать, что кто-то
тебя на этом свете ждет.
* * *
Здесь жестко стелется кровать,
здесь нет живого шума,
в тюрьме нельзя болеть и ждать,
но можно жить и думать.
* * *
Что я понял с тех пор, как попался?
Очень много. Почти ничего.
Человеку нельзя без пространства,
и пространство мертво без него.
* * *
Мой ум имеет крайне скромный нрав,
и наглость мне совсем не по карману,
но если положить, что Дарвин прав,
то Бог создал всего лишь обезьяну.
* * *
Мы жизни наши ценим
слишком низко,
меж тем как, то медвяная, то деготь,
история течет настолько близко,
что пальцами легко ее потрогать.
* * *
Я теперь вкушаю винегрет
сетований, ругани и стонов,
принят я на главный факультет
университета миллионов.
* * *
С годами жизнь пойдет налаженней
и все забудется, конечно,
но хрип ключа в замочной скважине
во мне останется навечно.
* * *
В любом из нас гармония живет
и в поисках, во что ей воплотиться,
то бьется, как прихваченная птица,
то пляшет и невнятицу поет.
* * *
Не знаю вида я красивей,
чем в час, когда взошла луна
в тюремной камере в России
зимой на волю из окна.
* * *
Для райского климата райского сада,
где все зеленеет от края до края,
тепло поступает по трубам из ада,
а топливо ада – растительность рая.
* * *
Россия безнадежно и отчаянно
сложилась в откровенную тюрьму,
где бродят тени Авеля и Каина
и каждый сторож брату своему.
* * *
Был юн и глуп, ценил я сложность
своих знакомых и подруг,
а после стал искать надежность,
и резко сузился мой круг.
* * *
Душа предметов призрачна с утра,
мертва природа стульев и буфетов,
потом приходит сумерек пора,
и зыбко оживает мир предметов.
* * *
Из тюрьмы собираюсь я вновь
по пути моих предков-скитальцев;
увезу я отсюда любовь,
а оставлю оттиски пальцев.
* * *
Последняя ночная сигарета
потрескивает искрами костра,
комочек благодарственного света
домашним, кто прислал его вчера.
* * *
Бывает в жизни миг зловещий —
как чувство чуждого присутствия —
когда тебя коснутся клещи
судьбы, не знающей сочувствия.
* * *
Устал я жить как дилетант,
я гласу Божескому внемлю
и собираюсь свой талант
навек зарыть в Святую землю.
* * *
В неволе все с тобой на «ты»,
но близких вовсе нет кругом,
в неволе нету темноты,
но даже свет зажжен врагом.
* * *
Судьба мне явно что-то роет,
сижу на греющемся кратере,
мне так не хочется в герои,
мне так охота в обыватели!
* * *
Допрос был пустой, как ни бились...
Вернулся на жесткие нары.
А нервы сейчас бы сгодились
на струны для лучшей гитары.
* * *
В беде я прелесть новизны
нашел, утратив спесь,
и, если бы не боль жены,
я был бы счастлив здесь.
* * *
Не тем страшна глухая осень,
что выцвел, вянешь и устал,
а что уже под сердцем носим
растущий холода кристалл.
* * *
Сколько силы, тюрьма, в твоей хватке!
Мне сегодня на волю не хочется,
словно ссохлась душа от нехватки
темноты, тишины, одиночества.
* * *
Не требуют от жизни ничего
российского Отечества сыны,
счастливые незнанием того,
чем именно они обделены.
* * *
Когда судьба, дойдя до перекрестка,
колеблется, куда ей повернуть,
не бойся неназойливо, но жестко
слегка ее коленом подтолкнуть.
* * *
Разгульно, раздольно, цветисто,
стремясь догореть и излиться,
эпохи гниют живописно,
но гибельно для очевидца.
* * *
Зачем в герое и в ничтожестве
мы ищем сходства и различия?
Ища величия в убожестве.
Познав убожество величия.
* * *
В России слезы светятся сквозь смех,
Россию Бог безумием карал,
России послужили больше всех
те, кто ее сильнее презирал.
* * *
Я стараюсь вставать очень рано
и с утра для душевной разминки
сыплю соль на душевные раны
и творю по надежде поминки.
* * *
Впервые жизнь явилась мне
всей полнотой произведения:
у бытия на самом дне —
свои высоты и падения.
* * *
С утра на прогулочном дворике
лежит свежевыпавший снег
и выглядит странно и горько,
как новый в тюрьме человек.
* * *
Грабительство, пьяная драка,
раскража казенного груза...
Как ты незатейна, однако,
российской преступности Муза!
* * *
Сижу пока под следственным давлением
в одном из многих тысяч отделений;
вдыхают прокуроры с вожделением
букет моих кошмарных преступлений.
* * *
В тюрьме я учился по жизням соседним,
сполна просветившись догадкою главной,
что надо делиться заветным
последним —
для собственной пользы, неясной,
но явной.
* * *
Жаль мне тех, кто тюрьмы не изведал,
кто не знает ее сновидений,
кто не слышал неспешной беседы
о бескрайностях наших падений.
* * *
Тюремная келья, монашеский пост,
за дверью солдат с автоматом,
и с утренних зорь
до полуночных звезд —
молитва, творимая матом.
* * *
Вокруг себя едва взгляну,
с тоскою думаю холодной:
какой кошмар бы ждал страну,
где власть и впрямь была народной.
* * *
В тюрьме я в острых снах переживаю
такую беготню по приключениям,
как будто бы сгущенно проживаю
то время, что убито заключением.
* * *
Когда уход из жизни близок,
хотя не тотчас, не сейчас,
душа, предощущая вызов,
духовней делается в нас.
* * *
Не потому ли мне так снятся
лихие сны почти все ночи,
что Бог позвал меня на танцы,
к которым я готов не очень?
* * *
Всмотревшись пристрастно
и пристально,
я понял, что надо спешить,
что жажда покоя и пристани
вот-вот помешает мне жить.
* * *
У старости есть мания страдать
в томительном полночном наваждении,
что попусту избыта благодать,
полученная свыше при рождении.
* * *
Не лезь, мой друг, за декорации —
зачем ходить потом в обиде,
что благороднейшие грации
так безобразны в истом виде.
* * *
Вчера сосед по нарам взрезал вены;
он смерти не искал и был в себе,
он просто очень жаждал перемены
в своей остановившейся судьбе.
* * *
Я скепсисом съеден и дымом пропитан,
забыта весна и растрачено лето,
и бочка иллюзий пуста и разбита,
а жизнь – наслаждение, полное света.
* * *
Я что-то говорю своей жене,
прищурившись от солнечного глянца,
а сын, поймав жука, бежит ко мне.
Такие сны в тюрьме под утро снятся.
* * *
Вот и кости ломит в непогоду,
хрипы в легких чаще и угарней;
возвращаясь в мертвую природу,
мы к живой добрей и благодарней.
* * *
Все, что пропустил и недоделал,
все, чем по-дурацки пренебрег,
в памяти всплывает и умело
ночью прямо за душу берет.
* * *
Блажен, кто хлопотлив и озабочен
и ночью видит сны, что снова день,
и крутится с утра до поздней ночи,
ловя свою вертящуюся тень.
* * *
Где крыша в роли небосвода —
свой дух, свой быт, своя зима,
своя печаль, своя свобода
и даже есть своя тюрьма.
* * *
Мое безделье будет долгим,
еще до края я не дожил,
а те, кто жизнь считает долгом,
пусть объяснят, кому я должен.
* * *
Наклонись, философ, ниже,
не дрожи, здесь нету бесов,
трюмы жизни пахнут жижей
от общественных процессов.
* * *
Курилки, подоконники, подъезды,
скамейки у акаций густолистых —
все помощи там были безвозмездны,
все мысли и советы бескорыстны.
Теперь, когда я взвешиваю слово
и всякая наивность неуместна,
я часто вспоминаю это снова:
курилки, подоконники, подъезды.
* * *
Чуть пожил – и нет меня на свете —
как это диковинно, однако;
воздух пахнет сыростью, и ветер
воет над могилой, как собака.
* * *
Весной я думаю о смерти.
Уже нигде. Уже никто.
Как будто был в большом концерте
и время брать внизу пальто.
* * *
По камере то вдоль, то поперек,
обдумывая жизнь свою, шагаю
и каждый возникающий упрек
восторженно и жарко отвергаю.
* * *
В неволе я от сытости лечился,
учился полувзгляды понимать,
с достоинством проигрывать учился
и выигрыш спокойно принимать.
* * *
Тюрьмой сегодня пахнет мир земной,
тюрьма сочится в души и умы,
и каждый, кто смиряется с тюрьмой,
становится строителем тюрьмы.
* * *
Ветреник, бродяга, вертопрах,
слушавшийся всех и никого,
лишь перед неволей знал я страх,
а теперь лишился и его.
* * *
В тюрьме, где ощутил свою ничтожность,
вдруг чувствуешь, смятение тая,
бессмысленность, бесцельность,
безнадежность
и дикое блаженство бытия.
* * *
Тюрьмою наградила напоследок
меня отчизна-мать, спасибо ей,
я с радостью и гордостью изведал
судьбу ее не худших сыновей.
* * *
Когда, убогие калеки,
мы устаем ловить туман,
* * *
какое счастье знать, что реки
впадут однажды в океан.
* * *
Здесь ни труда, ни алкоголя,
а большинству беда втройне —
еще и каторжная доля
побыть с собой наедине.
* * *
Напрасны страх, тоска и ропот,
когда судьба влечет во тьму;
в беде всегда есть новый опыт,
полезный духу и уму.
* * *
А часто в час беды, потерь и слез,







