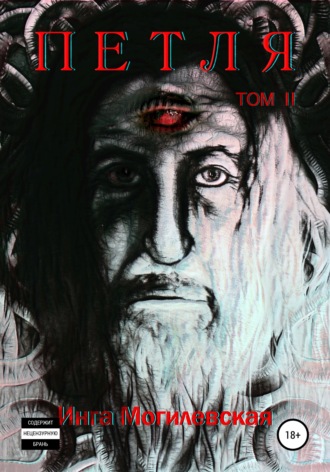
Инга Александровна Могилевская
Петля. Том 2
Част 1
I
– Где ребенок, Рауль?! – индеец набрасывается на него прямо с порога, – Где он?!
– Хакобо…Тито… – выпученные глазенки прыгают по лицам ворвавшихся к нему в дом людей. Чего в них больше – страха или безумия? Безумия – да! Это лицо ненормального: сморщенное, подергивающееся нервным тиком, сминающееся в непроизвольных гримасах – жутких и отвратительных обезьяньих корчах.
– Что ты с ним сделал?! Где он?! –надрываясь вопит профессор.
– Я говорил тебе, не лезть не в свое дело! Не знаю я никакого ребенка! – и снова эта рожа комкается рытвинами складок.
Хакобо хватает жалкого дребезжащего человечишку за грудки, вздергивает:
– Я пришел забрать мальчика. Говори, где ты его прячешь, не то я…!
– Нужно подвал проверить, – перебивает Тито, и сдвигает в сторону ковер, прикрывающий люк в полу, – Черт… Тут замок.
– Рауль – ключи, – шепчет индеец.
– Черта-с два я вам дам ключи, – глазки снова запрыгали еще неистовей, губы судорожно изогнулись, словно два насаженных на крючки червя, – Вы… вы не понимаете… Вы думаете, это ребенок… Никакой это не ребенок! Это демон! Это сам Сатана! И раньше был таким, но сейчас… Будто с цепи сорвался, – нездоровый нервно – дрожащий от злобы смешок, – Сидит на цепи, а с цепи сорвался… Вы этого не понимаете… Нет… Будь он человеком, он давно бы сдох! Но он не человек – нет! Дьявольское отродье – вот он кто! А его голос… Я сказал ему – еще слово, и я язык отрежу! Так он глазами начал. Дьявол… вы не видели его глаза! Они у него как синие пиявки – он ими души высасывает… Я знаю… Уж я-то знаю! Чувствовал, как он это делает… Чувствовал, как он тянет из меня душу… своими ледяными глазами… Словно кишки из пуза… И тогда я взял нож и… Я хотел… Я должен был их выколоть…
– Господи… – Тито хватается за сердце. Хакобо хватается за револьвер.
– Я сейчас тебе сам в глаз выстрелю, если не отдашь ключи, – цедит он сквозь зубы, приставляя дуло к глазнице Рауля.
– Вы… вы просто не понимаете…
– Считаю до трех! Раз…
– Второй… второй ящик в шкафу… Но я предупреждаю! Не лезьте в подвал, не выпускайте его! Он не человек!
Тито уже бросается туда, выдвигает, роется в беспорядочно наваленном хламе, пытаясь выудить ключ. Хакобо тем временем снимает со стены веревку, быстро и крепко опутывает ее вокруг шеи своего полоумного пленника.
– Нашел! – в руках профессора блестит связка с двумя ключами, и он бежит назад к люку, трясущейся рукой с трудом пропихивает замысловатые зубцы в скважину, лязгает, скрежещет ими, пока не раздается победоносный щелчок – и стремглав вниз, по лестнице. Индеец спешит за ним, волоча за конец веревки запнувшегося и упирающегося Рауля.
– Только не туда! Не бросайте меня к нему… Умоляю! – кряхтит безумец, но индеец игнорирует его жалкие стенания.
– Господи… нет! Боже мой! – снова раздается из подвала отчаянный и сдавленный возглас Тито. Хакобо силой вталкивает своего пленника в отверстие люка, слышит грузный шлепок его упавшего на пол тела и гулкие постанывания, не обращая внимания на лестницу, сам спрыгивает вниз.
В тусклом, едва пробивающемся с открытого люка свете он кое-как умудряется разглядеть спину Тито. Тот стоит в немом оцепенении, уставившись на лежащий в метре от него какой-то маленький, слабо бледнеющий во мраке комочек. Замер, как вкопанный, не решаясь ни подойти ближе, ни даже вздохнуть. Что же его так напугало? Проморгавшись, Хакобо присматривается к этому непонятному светлому холмику…
– Поздно… Слишком поздно, – думает он, чувствуя, как взрывается от прилива крови сердце, как внезапно и непроизвольно начинает дрожать тело. И все равно продолжает всматриваться, и все равно подходит ближе, чтобы убедится – ему не мерещится…
А ведь он не хотел сюда ехать. Ей богу, не хотел – просто поддался на уговоры Тито, на все эти его призывы и упреки, словно сделав одолжение: – Ладно, ладно, поехали вместе к Раулю, посмотрим, что там с эти малолетним гринго, если тебе от этого полегчает…. Так он ответил? – Да, так он ответил, нагоняя скачущую во всю прыть клячу профессора. И до этого проклятого момента даже толком не представлял, зачем он это сделал, ради чего? Мог просто остаться дома, со своим диковатым, нерадивым сыном, и мучительными, но светлыми воспоминаниями о покойной жене. Мог никуда не ехать. И ему было бы плевать на все остальное. Но нет. Ведь, нет! Вот он – здесь! И то, что раскрывается перед его взором в беспробудном, стылом мраке этого подвала, за один краткий миг крушит фундамент его мира, его веру в правильность, его априори. Это ужас – даже прежде, чем мозг успевает расшифровать отпечатанный на сетчатке глаза образ – его охватывает ужас… Ужас, что сминает рассудок в своем безжалостном стальном кулаке, а после, рвет его на части, как никчемную ветошь, ужас, что, проникнув под кожу, словно инфекция расползается и распадается внутри на миллиарды колких, режущих крупиц, ставя дыбом каждый волосок на теле, ужас, от которого хочется вопить, и хочется бежать прочь, а вместо этого не остается ничего другого, кроме как стоять неподвижно и смотреть прямо ему в лицо. Ужас невозможного, немыслимого, невыносимого, неприемлемого… Но реального? Произошедшего? – Ужас уступает место ярости.
– Ты что с ним сделал!? – орет Хакобо не своим голосом.
– Он не человек! Не ребенок! Он – Сатана! Слышишь? Сатана!
Он не слышит, он хватает конец обвитой вокруг шеи безумца веревки и тянет за него, тянет – со всей силы, со всей ярости, от всего отчаяния. Кровь пульсирует в голове, заливает глаза, закладывает уши. Он больше ничего не слышит: ни надрывные предсмертные хрипы Рауля, ни хруст его шейных позвонков, ни собственное звериное рычание… Приходит в себя только от тихого леденящего шепота Тито:
– Хок… мальчик еще жив…
Перешагнув через труп задушенного, он подлетает к этому… к этому… Как он может быть еще жив?! Этот наполовину зарытый в грязь крошечный, сжавшийся в позе зародыша скелетик, обтянутый серовато-бурой от сплошных синяков и кровоподтеков кожей. И то не везде. На спине, как будто и вовсе ее нет – одна сплошная рана – плотная скорлупа заскорузлой крови и гноя. Собачья цепь вокруг тонкой шейки, туго стянутые грубой веревкой стебельки рук… Расковывает, развязывает, растирает. Такие холодные! А его лицо? Откидывает слипшиеся от грязи и крови волосы – даже под этой коркой замечет их странное лишь слегка поблескивающее серебром бесцветие. Серое мертвое личико ребенка: впалые щеки, острые скулы, огромная нарывающая ссадина от левого виска и до синеватых чуть приоткрытых губ: сухих, искусанных и потрескавшихся… Жирная черная муха проползает по бесчувственной коже остренького подбородка и присасывается к разбухшей в уголке рта язве… – Пошла прочь! – и глаза… Господи! Глаза, завязаны грязной черной тряпкой… Зачем?! Глаза-то зачем?! Тянется, чтобы потрогать, развязать – по ладони пробегает едва ощутимый ветерок его дыхания.
– Хакобо, подожди. Не снимай повязку. Давай не здесь, – останавливает его Тито.
– Да… – скинув с себя пончо, он осторожно укутывает в него это маленькое серое существо, поднимает на руки. Какой же легкий… хрупкий! Страшно шаг ступить – словно он держит фигурку из пепла. Страшно дышать на него – словно любой неосторожные вздох способен унести прочь душу так отважно и отчаянно хватающуюся за непригодное для жизни тельце.
– Ладно. Надо уходить, – еле слышно проговаривает он.
– Ступай. Я сейчас, разберусь с трупом и догоню, так же сдавлено и тихо отзывается Тито.
Они выехали из деревни еще до рассвета. К счастью, никто им по дороге не встретился, никто не видел. Тело задушенного мерзавца Тито подвесил к потолку в подвале, уложив под ним опрокинутый навзничь табурет. Когда его обнаружат, решат, что самоубийство. Скорбеть по нему особо никто не будет. У этого психа не осталось ни семьи, ни родственников. Разве что их бывшие сотоварищи… Нет, эти уж точно не будут переживать по поводу его смерти! После того случая год назад, Рауль, видно посчитав, что вынесенного из поместья добра ему недостаточно, заделался процентщиком и обобрал всех своих не блиставших умом односельчан до нитки, да еще в долги вогнал. Так что, они, наконец, вздохнут спокойно. Здесь все гладко. Не гладко на сердце. Гадко. Очень гадко…
Хакобо едва находит в себе силы взглянуть на запрокинутую голову мальчика, покоящуюся на его напряженной, крепко вцепившейся в поводья руке. В свете зарождающейся зари замечает, как слегка подрагивает натянутая жилка на тоненькой истертой цепью шее и, кажется, немного шевельнулись губы. Пончо, в которое он укутал несчастного, уже все насквозь промокло – пытаясь устроить искалеченное дитя поудобнее, он нечаянно задел подсохшие струпья на его костлявой спине, и те снова начали сочиться сукровицей, кровью и гноем. Теперь вот липнет к рукам. И запах… Запах мертвечины. От него еще тревожнее на душе. Страшно. Надо бы промыть раны, и обмотать чем-то чистым. Только пока нечем. Придется обождать до дому. Лишь бы маленький дотерпел… Ладно… Ладно… Это еще полбеды. Повязка на глазах – вот что пугает его больше всего… Что она скрывает? Может, под ней уже давно нет глаз, а лишь две черные заглатывающие дыры? Если этот скотина сделал, что хотел, если он выколол их… Не думай об этом! Нет смысла уже об этом думать! Но, если у мальчонки, и правда, уже нет глаз, как же тогда? Что делать? – Все возможное. В любом случае, СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ СПАСТИ.
– Останови лошадь, – говорит он Тито, – нужно посмотреть, что с малышом.
– Да… Только давай чуть левее. Там, кажется, река.
Действительно, где-то неподалеку – журчит, словно зазывая. Они сворачивают в направлении этого звука. Не река – ручеек: поблескивает призрачной нитью меж гладких камней. Тито первый спрыгивает с лошади, подходит к Хакобо, осторожно принимает в руки укутанного мальчика и, не проронив ни слова, поспешно направляется с ним к воде. Опускает подле себя на покрытые мхом камни, наклоняется, разворачивает, вытягивает его ножки, ручки. Начинает осторожно ощупывать.
– Переломов, похоже, нет…, – поясняет он подошедшему – индейцу, потом положив обе свои огромные ладони на впалый животик, вдавливает пальцами куда-то вверх, под торчащие ребра.
– Ты что делаешь?
– Проверяю… Все эти побои, увечья… Но главное, чтобы у него органы были целы.
– И как? Целы?
Тито лишь неопределенно подергивает плечом.
– Но, если бы у него был разрыв, он бы не выжил, так? – настаивает индеец, – Раз он выжил, значит все в порядке, так?
– Порядком тут и не пахнет, – не отрываясь от своего занятия, чуть слышно бурчит профессор. И через минуту, издав натужный вздох, – Деформация есть, но пока не чувствую каких-то серьезных внутренних повреждений. Впрочем, я не уверен. Если малыш очнется, там и станет ясно. Вот только… – боязливо проводит рукой по серому личику, – Не знаю, сколько дней этот изверг морил его голодом, но пить не давал уже как минимум дня два. У мальчика полное обезвоживание, – и, набрав в стиснутые ладони воды, подносит их к приоткрытым губам ребенка,
– Приподними его голову…
Осторожно, по капелькам переливает серебрящуюся жидкость в маленький ротик. И снова зачерпывает.
– У тебя есть с собой фляжка?
– Да.
– Набери. Будешь ему время от времени давать по дороге. Только смотри, чтоб не попало в дыхательные пути.
– Да… – он набирает полный сосуд, прячет обратно за пояс.
Тито тем временем проводит влажными ладонями по лицу мальчика, стирая с него пыль и грязь. Проступившая кожа кажется какой-то неестественной – белесо-фарфоровой. И волосы – упавшие и струящиеся в течении ручья длинные пряди, будто пролитое молоко, даже еще белее, с холодным платиновым отблеском. Абсолютно седые. Он смотрит на мальчика как завороженный.
– Я же говорил тебе, что он необычный, – шепчет Тито.
Хакобо не отвечает. Он думает, что этот мальчик похож на ангела. Он думает, каким чудовищем нужно быть, чтобы довести это небесное создание до такого… Каким дьявольским отродьем нужно стать, чтобы поднять руку на это крошечное, слабое, беззащитное существо – на это воплощение невинности и чистоты. Он думает, сколь велика его вина перед несчастным. Он думает, сможет ли он теперь вернуть его к жизни. Он думает, как пугающе смотрится черная повязка поперек его лица – так же пугающе, как если бы нечто сорвало шкуру с лазури небосвода, разделив его черной полосой вакуума. Он думает, какими могут быть глаза у столь дивного малыша. Или могли быть…
И лишь когда Тито, отмыв лицо ребенка, переворачивает его на бок, чтобы заняться ранами на спине, Хакобо отходит в сторону, не находя в себе силы даже взглянуть. Тошнота подступает к горлу, в ноздри снова ударяет густой запах гноя. Он закуривает. Ждет. Ждать приходится долго. И мучительно.
– Насколько все плохо? – наконец, не выдержав, спрашивает он.
–…Очень плохо… – цедит Тито, и, помедлив, – Не пойму, чем он его бил… Раны такие глубокие, до кости. И сильно загноились. У себя дома я бы мог найти средство, чтобы остановить сепсис, но пока даже, не знаю…
– А он дотянет до дому?
– …Не знаю, Хок…
– Не знаешь. Да что ты вообще знаешь! Тоже мне, профессор!
Тот не отвечает, но на секунду индеец чувствует кольнувший его осудительный взгляд. У него за спиной снова слышится какое-то копошение, возня, плеск воды. Потом – тихий дрожащий нотками нежности голос Тито: – Ну, все, маленький, все… Спинку мы более-менее промыли. Теперь давай-ка, ты еще немного попьешь, и поедем. Все позади. Осталось совсем чуть-чуть потерпеть. А дома я сделаю так, чтобы тебе не было больно, хорошо? Держись, детка. Я о тебе позабочусь, обещаю…
– Он что, очнулся?! – вскрикивает Хакобо, резко оборачиваясь.
– Нет.
Нет. Все такой же – словно безвольная игрушка в руках профессора – сорвавшаяся с ниток марионетка: ручки раскинуты в стороны, головка свешивается на бок…
– Черт! – с долей разочарования и досады, – А чего ж ты тогда с ним разговариваешь?!
– А что, нельзя?
– Даже не думай об этом, Тито, – шепчет он, – О нем Я буду заботиться. Ясно? Я его тебе не отдам.
– Раулю так, значит, отдал, а мне не отдашь? – в тоне профессора сквозит горькая и раскисшая от слез ирония.
– Я его больше никому не отдам!
И снова его собеседник подбирает слова для очередного укола, но в последний момент передумав:
– Ладно. Потом это обсудим. Сейчас пора ехать.
– Постой. Ты его глаза уже что, проверил?
– Нет.
– Ну, так давай! Чего тянешь?
Профессор опускает голову и какое-то время стоит молча, напряженно разглядывая повязку, рассекающую поперек бледный лик ангела непроницаемо черной пустотой.
– Давай сам, – выдавливает он, и, поймав испуганный взгляд индейца, добавляет, – Если уж собрался забрать его себе, то ты должен быть готов ко всему.
Хакобо судорожно сглатывает – Тито прав – медленно подходит к ребенку. Взяв себя в руки, осторожно дотрагивается до повязки, пытается нащупать. Впалые глазницы, но там, под веками – выпуклое, круглое… Кажется, уловил какое-то движение. Один глаз – другой. Он вздыхает. Развязывает тугие узлы на затылке мальчика.
– Слава богу… Глаза, хоть, не тронул… – тоже с облегчением выдыхает Тито, всматриваясь в слабо подергивающиеся веки ребенка – припухшие и воспаленные – два живых розоватых пятнышка на бесцветно-мертвенной белизне лица, – Смотри, Хок… Он пошевельнулся. По-моему, он сейчас очнется.
– Дай-ка мне его.
Уложив к себе на колени начавшее подавать признаки жизни тельце, и поддерживая его голову одной рукой, другой индеец достает фляжку, открывает, подносит ко рту:
– Может сам начнет пить.
И действительно, синеватые искусанные губки прижимаются к горлышку сосуда, и тут же начинают жадно втягивать воду.
– Не давай сразу все. Лучше чаще и понемногу, – предупреждает Тито.
Сделав еще пару глотков, мальчик сам отворачивает голову в сторону. Его едва различимое до этого момента дыхание вдруг учащается, становится отрывистым и громким, а крохотное сердечко пускается в такой бешеный галоп, что даже расслабленные тонкие тростинки ног подрагивают от резонирующей пульсации.
– С ним что-то не так… – растерянно бормочет Хакобо
– Судороги?!
– Не знаю… Не похоже. Кажется, он… – осекается на полуслове: веки мальчика приподнимаются – буквально на долю секунды, но этого вполне достаточно, чтобы он заметил – даже не заметил, а почувствовал, как его полосонула холодная пронизывающая синева радужек. Словно острые края отколовшегося айсберга – только насыщеннее, ярче, ледянее… Но вот уже снова спрятались за стиснутыми веками, за крохотными ладошками. Малыш тихо застонал. Пальчики с длинными поломанными ногтями судорожно вцепились в кожу лица, будто пытаясь вырвать эту болезненную вопящую синеву из своих глазниц…
– Тише, сынок, спокойно… Что случилось? – Хакобо попытался отнять от сморщившегося личика цепкие ручонки. Мальчик застонал громче и вдруг, как-то странно и неестественно вывернувшись, выскользнул из укутывавшего его нагое тело пончо на землю. Попытался подняться на ноги… Не продержался и секунды – пошатнулся, упал, пополз. Глаза зажмурены, личико сжалось от боли, а он все равно ползет прямо через ручей, по воде, по камням, отчаянно перебирая стертыми локоточками…
Оправившись от изумления, Хакобо в один прыжок нагоняет малыша, хочет поймать, но боится – содранные струпья ран на тощей спине сочатся свежей кровью – страшно дотронуться, и лодыжки: такие тонкие, хрупкие, ухватишься за них – хрустнут. Кое-как все-таки решается придержать его за плечи.
– Куда же ты, сынок? Все хорошо. Ты в безопасности. Никто тебя здесь не обидит.
Мальчик будто и вовсе его не слышит – перевернулся на бок, не открывая глаз, брыкается, отбивается, царапается. Да так неистово, с таким безумным отчаянием! Стремительный поток ручья срывает вьющиеся кровавые нити с его ран, оплескивает фарфоровое личико, попадает в ноздри, в приоткрывшийся от учащенного судорожного дыхания ротик – он фыркает, покашливает, отплевывается, но все равно продолжает биться. Вот в грудь Хакобо ударяет острая бурая от синяков и ссадин коленка, и тут же крошечная ладошка проскальзывает зубцами поломанных ногтей по его щеке. Ухватить бы эти верткие лапки, сдавить, угомонить, прижать к себе, обнять – обнять крепко, тепло, чтобы понял, что он не враг и не злодей, что он хочет лишь помочь ему. Что он его любит. Да, именно – теперь любит! Но, господи, как нужно дотронуться до него, чтобы не сломать?!
– Хакобо, отступись, умоляю, – лепечет позади него Тито, – отпусти его. Разве не видишь, он тебя боится.
– Я просто хочу…
– Оставь. Ты только хуже делаешь. Пусть… пусть сам…Он все равно далеко не сможет убежать. Но дай ему осознать, что он в безопасности и на свободе.
Нехотя, индеец все-таки отпускает ребенка, чуть отодвигается в сторону.
– Откуда в нем столько силы, – задумчиво шепчет он, потирая царапины на лице, и не сводя изумленных глаз с пытающегося отдышаться мальчонки.
– Увы, это не сила, Хакобо, – его спутник присаживается рядом на корточки, – Силы в нем давно иссякли. Страх, боль и ярость… Что угодно, но только не сила.
– Но дерется он…
– Дерется не за жизнь, а на смерть. Взгляни, еще немного, и у него бы просто лопнуло сердечко…
А ведь и правда: припал на четвереньки, а как дышит! Будто загнанный зверек. От каждого вдоха грудная клетка вздувается так, что, кажется, его ребрышки вот-вот прорвут эту тонкую, едва ли не прозрачную кожу. Смотреть на него больно… и страшно… Но и отвернуться невозможно. Бедное дитя!
Но, вот, вроде, начал потихоньку успокаиваться…Непроизвольно заваливается на бок, и чуть склонив голову, подставляет приоткрытый ротик к струящейся под ним воде – все не может напиться… Снова делает робкую попытку приоткрыть глаза, и тут же – хриплый вскрик, нисходящий в протяжный стон. Заслоняет лицо одной рукой, а другой начинает поспешно шарить вокруг себя, словно пытаясь что-то нащупать.
– Что он ищет? – недоумевает Хакобо.
Тито покачивает головой: – Кажется, догадываюсь… – потом поднимается, медленно подходит к ребенку. Тот настораживается, заслышав рядом хлюпающие по воде шаги, напрягается, будто снова готовясь к схватке, дрожит, пробует отползти назад, но, упершись разодранной спинкой в торчащий из воды валун, шикает от боли, замирает, еще плотнее сжимает веки.
– Ты это потерял, малыш? – Тито извлекает из кармана тот грязный черный лоскут, которым недавно было стянуто лицо ребенка, и осторожно опускает на упиравшиеся в камни ладошки. В ту же секунду мальчик хватает тряпку, быстрыми, но неуклюже скованными из-за травм движениями накрывает ею глаза, закручивает на затылке узел, и снова принимает ту же оборонительную позу.
– Все – все. Не бойся, маленький, не трону. Ухожу.
Тито возвращается обратно к индейцу.
– Ты совсем сдурел?! – гневно шепчет Хакобо, – Что все это значит?!
– Похоже, он сам себе повязывал глаза, – мрачно поясняет Тито.
– Что? Зачем?
Профессор пожимает плечом: – Не знаю… Может, этот псих его приучил, а может, чтобы уберечь … Понял, как они бесят его мучителя и вот, догадался.
– Это атрибут пленника, идиот! Он ему больше не нужен! Я не хочу, чтобы он когда-либо снова надевал эту гадость! – Хакобо подрывается было к мальчику, чтобы снова стащить с его глаз эту чертову тряпку – стащить раз и навсегда, но Тито придерживает его за руку.
– Стой…Не трогай. Малыш черт знает, сколько времени провел в подвале. Единственный свет, что он видел, был тот – из люка, и означать он мог лишь одно – его снова идут мучить и бить. Дай ему привыкнуть. Постепенно. Если ему так спокойнее, то пусть. Да и глазам еще нужно время, чтобы адаптироваться. Яркие солнечные лучи – не лучший вариант.
Индеец тяжело вздыхает. Снова с горечью смотрит на этого крошечного несчастного человечка, съежившегося не то от страха, не то от холода меж гладких влажных камней. Его и без того невыносимо бледная кожа в прогалинах темных гематом теперь отливает каким-то голубоватым цветом, дыбится мурашками мелкой дрожи, сгоняющими ледяные капли по покатым канальцам межребрия. Взлохмаченная белокурая головка неуверенно покачивается на шее из стороны в сторону, словно бутон цветка – слишком большой и тяжелый для столь тонкого и хрупкого стебелька.
– Ладно… Все равно надо выманить его из воды. Он уже весь продрог.
– Только осторожней.
Хакобо приближается к ребенку на пару шагов. Замечает как рука мальчика, скользнув вниз, захватывает небольшой булыжник… Еще шаг. Рука приподнимается, готовясь метнуть в него камень…
– Не бойся. Я тебя не трону… Все хорошо… – мягко заговаривает он, – Я хочу помочь.
Рука с камнем не опускается. Предплечье округляется крошечным холмиком напрягшейся мышцы.
– Ты в безопасности. Не нужно меня бояться, сынок…
До него вдруг доходит, что, называя мальчика «сынок», он даже не потрудился узнать его имя. А ведь, может, с этого и надо было начать? С этого простого, доверительного:
– Скажи, милый, как тебя зовут?
Мальчик молчит.
– Ты помнишь свое имя?
Мальчик молчит.
– Ты говоришь по-испански? Понимаешь меня?
Молчит.
Он выжидает. Никакой реакции.
– Ты можешь говорить?
Тишина.
– Нет?
Тишина.
– Кивни, если хотя бы понимаешь.
Ничего. Малыш не собирается ни говорить, ни как-либо еще отзываться. Даже наоборот, как ему показалось, еще плотнее поджимает синеватые губки.
Индеец растерянно поворачивается к своему другу, в поисках поддержки и совета.
– Ты на их языке хоть какие-нибудь слова знаешь? Может, попробуешь на нем спросить? – предлагает Тито.
– Язык гринго? Терпеть его не могу.
– Потерпишь. Если что-то знаешь, попробуй спросить на нем.
– А ты сам? Ты, ведь…
– Хок, ты вызвался заменить ему отца. Так, давай!
Индеец задумывается, тормоша память в поисках нужных звукосочетаний.
– Отс Ёр нэйм? 1– наконец выдавливает он.
И снова никакого ответа. Ни намека на понимание. Нет, постой… Ему показалось, или бледное личико малыша, действительно, чуть подернулось, словно в ухмылке? Впрочем, рано радоваться – причина подобной реакции скорее в кружащейся возле его ротика мошкаре, а вовсе не в этом уродливом нагромождении звуков. Но он все равно продолжает:
– Ай хэлп. Ноу харм. Ю сэйф.2
Молчит.
– Бой, кам хир. Ю сэйф.3
–…
– Айм йо френд…йо папа. Кам хир…4
Нет. Бесполезно.
– Он ничего не понимает, – разочарованно покачивает головой Хакобо, обращаясь к Тито, – Или, может быть, глухонемой.
– Не глухой точно. А вот немой ли он, или не понимает…А может, просто не желает говорить с тобой, – пожимает плечами.
– Что ты хочешь сказать? Думаешь, он… – внезапная мысль врывается в его сознание, вздымая вихри противоречивых, невнятных чувств. Страх, жалость, вина, боль, отчаяние, стыд, раскаяние – голосят, вопят, многозвучно громыхают внутри него, будто какофония бессвязных нот, выбиваемая из клавиш рояля пальцами безумца, – Думаешь, он помнит, что я…
– Кто знает, что он помнит, а что нет? – перебивает профессор, – Кто знает, что сейчас творится в его головке, Хок?
Индеец закрывает глаза, пытаясь успокоиться. Легкий удар по лодыжке заставляет его вздрогнуть. Мальчик все-таки бросил камень. Не сильно – нет – откуда у него силы? Так, слегка задел. Но, видно решив, что враг поражен, предпринимает новую попытку бежать. И снова неудача – снова ножки подкашиваются. Плюхается плашмя, распластавшись на сырой траве, утыкается личиком в густую зелень, топя в ней шквал мучительных, душераздирающих стонов.
– Все. Хватит… – выдыхает Хакобо, потянувшись к валявшемуся на земле пончо.
– Не надо! Не делай этого! – вскрикивает Тито, но уже поздно.
В долю секунды индеец подлетает к мальчику, накрывает его, будто пойманного мотылька, ловко и крепко, укутывает, зажимает… Хрупкое стянутое тельце в его руках порывисто дергается, прогибается, извивается, из-под спеленавшей его с головой ткани продолжают доноситься все те же жуткие стоны, постепенно переходящие в сдавленное мычание.
А потом, вдруг, разом утихает, расслабляется, становится неестественно мягким, податливым. Хакобо аккуратно сдвигает эту «смирительную рубашку», полностью открывая его личико.
– Нет… Нет… господи! Я же ничего не сделал… я просто хотел придержать… Сынок, не надо… Дыши, умоляю! – испуганно причитает он, легонько похлопывая бесчувственные щеки.
Профессор уже тут как тут. Поспешно прижимает два пальца к шее ребенка. Стоит так какое-то время, хмурясь.
– Что с ним?! Говори!
– Ему поесть нужно, – мрачно заключает Тито, – поехали, пока он еще жив.
Долгое время они ехали молча. Плелись шагом, поскольку мало того, что Хакобо приходилось держать ребенка, да еще держать его нужно было так, чтобы не повредить и без того покалеченную спину. Периодически он боязливо дотрагивался пальцами до бледной шейки, или сжимал спичечное запястье, чтобы убедиться, что сердце бедняжки еще трепещет. Да, оно трепыхалось: слабо, тихо, медленно, словно едва заметное колыхание океана в штиль.
– До моего дома еще два часа езды, а до твоего такими темпами минимум шесть, – внезапно проговаривает Тито, – Я что предлагаю: ты подождешь меня у деревни, а я возьму мальчика к себе, осмотрю, как следует, подлечу его раны, если очнется, попытаюсь накормить. Потом верну.
– Я тоже зайду к тебе.
– Хок, ты в розыске. Тебе в населенных пунктах лучше пока не появляться. Особенно там, где тебя знают.
– Да ничего. Рискну.
– Нельзя тебе сейчас рисковать, – возражает профессор, – Если хочешь стать настоящим отцом хотя бы для этого малыша, то постарайся не сесть за решетку. Сегодня сделаем так. А потом либо я к тебе буду приезжать, делать мальчику перевязку, либо пусть твой сын его ко мне привозит. Мне было бы удобнее делать это у себя дома, где все под рукой. Так что скажи ему…
– Рамин?… – индеец морщится, – Я даже не представляю, как он отнесется к появлению малыша. Как отреагирует…
Тито укоризненно цокает языком.
– Тебе стоило бы получше знать своего родного сына. Думаешь, бесенок может не принять его?
Хакобо пожимает плечами.
– Этот малыш – белый.
– Дети бывают умнее нас – они не обращают внимания на цвет кожи, а смотрят глубже.
– Может… Но, не только в этом дело. Знаешь, года два-три назад Рамин говорил о том, что хочет братика или сестренку, чтобы было не так скучно оставаться одному. А потом он увлекся книгами – научил его читать на свою голову! Кажется, теперь ему все остальное стало пофиг. Что уж тут говорить о каком-то брате, когда ему даже я больше не нужен. Ты прав, я его не знаю и не понимаю… Пытался, но… Давеча глянул, какую он книжку мусолит – «Классовая борьба и классовая ненависть». Представляешь?! Это в его-то возрасте! Я сам ее лет в двадцать прочитал, а понял только годам к сорокам. А он уже, что-то выписывает, обдумывает…
– Я заметил. Он смышленый парнишка. Умен, не по годам.
– Пугает меня этот его ум.
– Бояться тут нечего. Но я бы сказал, что бесенку нужен наставник. Учитель. И, кстати, я не против давать ему уроки, – осторожно предлагает Тито.
– Вот, значит, как? – голос Хакобо вдруг становится едким и язвительным, – Небось, давно об этом мечтал?
– С самого его рождения, – ничуть не смущаясь, признается профессор, – А что?
– И чему ты собрался его учить? Он итак как полоумный с этими книжками, а ты собираешься еще добавить?
– Тебе бы нужно гордиться этим, а не осуждать. Или, тебе просто обидно, что твой мальчишка тебя переплюнул?
– В чем же это он меня переплюнул, хотелось бы знать? – фыркает индеец.
– Да, во многом.
На какое-то время Хакобо отворачивается, решая, следует ли ему принимать эти слова, как оскорбление, следует ли ему вообще сейчас поднимать эту тему… И так и не придя ни к какому выводу, резко бросает:
– Ну и черт с ним! Захочет ходить к тебе на занятия, я мешать не буду. Сейчас мне главное, чтобы он понял и принял тот факт, что этот малыш будет жить с нами, в моем доме. Все.
– Поставишь его перед фактом, не дав решить самому? Не слишком правильно…
– Нечего решать. Я решил. Если он мне сын то, должен будет это принять.
– А если не примет?
Хакобо поджимает и без того тонкие губы, давая понять, что отказывается даже думать над подобной проблемой.
– Если твой сын его не примет, – настойчиво повторяет Тито, – можешь отдать его мне.
– Кого из них? – холодно шепчет индеец.
– А тебе все равно?
– Нет. Уже нет.
Индеец опускает взгляд на белокурую головку, покоящуюся на его руке. Суровость сползает с его лица, словно пугливая согнанная тень, глаза поблескивают влагой накатывающих слез.
– Господи… Бедняга! Тито, я так виноват перед этим малышом! Мне и жизни не хватит, чтобы искупить вину. Я никому его больше не отдам. Никогда. Готов сделать все, что угодно, лишь бы он простил меня! Я молюсь, чтобы он забыл, что это из-за меня…
– По-моему, сейчас нужно в первую очередь молиться, чтобы он выжил, – тихо перебивает его профессор, уставившись на дорогу, – Если он выживет, молись, чтобы он оказался нормальным. Этот малыш был свидетелем того, как мы убивали его родных, и сам пережил такие ужасы, что даже трудно представить. Чудо, если после всего этого, он сохранит хоть крупицу рассудка. Ты сам видел, что творилось с ним пару часов назад. Он не говорит и не понимает. И я не уверен, что он сможет когда-нибудь научиться этому. Но если это произойдет…если он хотя бы начнет понимать…Тогда и решим, что он должен помнить, а что ему будет лучше забыть.



