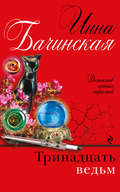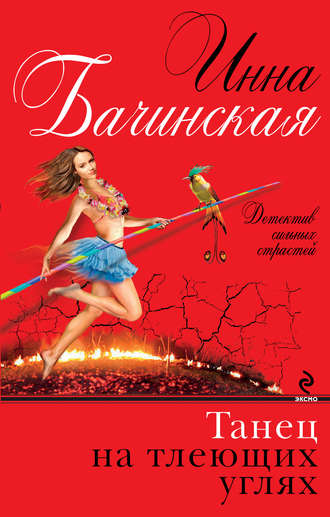
Инна Бачинская
Танец на тлеющих углях
Глава 4
К вопросу о профессиональной этике
Шибаев рассматривал свою физиономию в зеркале. Ванная комната была воздушна и благоухала так, как его собственная ванная никогда не благоухала и вряд ли будет. Бесчисленное множество флаконов, баночек с кремом, большие и маленькие полотенца, пушистый коврик на полу. Бледно-голубая, раскрашенная под аквариум с желтыми и синими рыбками занавеска для душа. Матовые светильники. Здесь можно отдыхать душой и прятаться от несовершенства мира. «Художница», – вспомнил Шибаев, с любопытством озираясь.
Царапина на лице уже перестала кровоточить, потемнела, и под правым глазом наливался сочный синяк. Он подумал: если бы не Григорьева, он убил бы тех двоих. Мысль была неприятной. То, что произошло в грязном подъезде, говорило о его озверении и состоянии души в целом. Он потерял голову – такое с ним бывало нечасто. Все случаи можно перечесть по пальцам. Последний раз это имело место в Нью-Йорке, когда он добрался до подонка по кличке Серый…
Дверь приоткрылась, и вошла Григорьева. Он вздрогнул и повернулся к ней. Она была в белом свитере и короткой черной юбке. На ногах – красные шелковые домашние туфли, расшитые райскими птицами.
– Дайте посмотрю. – Ирина приподнялась на цыпочки и взяла его лицо в ладони. Шибаев смутился. – Не видно, – сказала она, подталкивая его к краю ванны. – Сядьте!
И он послушно уселся, а она, стоя, стала рассматривать его лицо. Потрогала пальцем рану. Он украдкой взглядывал на нее, всякий раз сразу же отводя взгляд. От нее слабо пахло горьковатыми духами, пахли ее волосы, кожа, руки. Ему вдруг показалось, что рядом Инга. Женщина стояла так близко, что он ощущал ее тепло. Ее колено прикоснулось к его колену, и он дернулся, как от удара током, и отодвинулся. И тут же почувствовал себя глупо – похоже, что он удирает от нее.
– Я обработаю перекисью, – сказала она, не заметив его маневров. Или делая вид, что не заметила. – Будет щипать, чуть-чуть. Не бойтесь!
– Не буду, – пообещал он, но не выдержал, зашипел сквозь стиснутые зубы. Она подула на царапину, дыхание у нее было теплое.
– Как вас зовут? – спросила она вдруг, и Шибаев, не догадавшись соврать, назвался. – А меня Ирина. Спасибо, Саша, если бы не вы…
Он пробормотал что-то нечленораздельное.
– А хотите, можно смазать йодом, – предложила она. – Или зеленкой. – Шибаев хмыкнул, представив себя с раскрашенной физиономией. Действительно, художница. – Я пошутила, – засмеялась она. – Сейчас зеленкой уже никто не мажется. Я даже не знаю, есть ли она в продаже. У меня в аптеке…
Она, повернувшись к нему боком, подняла руки, раскрыла стенной шкафчик. Свитер на ее груди натянулся, локти замелькали у лица Шибаева. Он сглотнул невольно и отвел взгляд. Она достала маленький тюбик, принялась размазывать по его физиономии пахнущую аптекой мазь. Руки у нее были мягкие, и Шибаеву казалось, что она ласкает его. При этом она приговоривала:
– Ну вот… все в порядке… все будет в порядке… и никаких следов… красиво, а если останется… чуть-чуть… тоже красиво… мужественно, как ритуальный шрам. Все!
Она отступила, словно любуясь своей работой, все еще держа его лицо в своих ладонях. Улыбаясь, смотрела ему в глаза. Шибаев побагровел. Фотография не передавала и сотой доли ее… как бы это сказать, затруднился Александр. Алик Дрючин сумел бы изобразить, а он нет. Ауры? Личности? Эманации? Что это такое, кстати? Нужно будет спросить у Алика. Слово почему-то пришло ему в голову. У нее красивые глаза… брови… свои, как отметил Алик. Хорошая улыбка. Темные, чуть с рыжинкой волосы, забранные черной бархатной лентой, как и в первый раз, когда он ее увидел. Некрашеные! Несколько седых ниточек на висках, что даже красиво. Нужно будет рассказать Алику. И длинные сверкающие серьги с тремя кусочками хрусталя… как она назвала его? Сваровски. Где-то он слышал раньше это название… Продолговатые, красиво ограненные кристаллы – красно-дымчатый, сизый и темно-желтый, неяркие, тускловатые, подвижные. Шибаев, никогда не обращавший особого внимания на женские украшения, вдруг подумал, что серьги удивительно подходят ей. Ничего подобного он раньше не видел, так как по художественным салонам не ходил, но сразу понял, что вещь непростая. У его бывшей, Веры, были золотые кольца и кулоны с яркими розовыми и красными камнями, она любила «гарнитуры» – чтобы на пальцах, в ушах и на шее все было одинаково, видимо, подсознательно выражая этим свою страсть к порядку и основательности. У Инги маленькое платиновое колечко с бриллиантом на безымянном пальце. Она оцарапала ему плечо этим бриллиантом, до сих пор остался след, расстроилась, сорвала кольцо и швырнула на пол. Наверное, подарок того, уж очень она расстроилась. А на Григорьевой, кроме серег, никаких украшений. Даже обручального кольца нет.
Он невольно сравнивал Ирину со своими пассиями и ничего не мог с собой поделать, хотя всегда был уверен, что сравнивать женщин гиблое дело. Она все держала его лицо в своих ладонях. Смотрела пристально, серьезно, без улыбки, стояла неподвижно. Только серьги посверкивали, чуть раскачиваясь.
– Спасибо, – сказал он, и она тут же отняла руки. Он поднялся. Покосился на себя в зеркало. Красная полоса на щеке побледнела, синяк, наоборот, проявился и налился свинцом. Тоже блестел, видимо, она не пожалела мази, есть такая, от синяков.
Он сразу двинул в прихожую, ему хотелось убраться отсюда как можно скорее. У него возникло чувство, что он, как неосторожная и глупая мышь, угодил в мышеловку. Для полноты картины не хватало, чтобы заявился Григорьев. С клиентами драться ему еще не приходилось. Хотя, если придется, он с удовольствием… поговорит с ним. Ирина бесшумно пошла следом и неуверенно сказала ему в спину:
– Может… кофе? Или чай?
– Спасибо, я спешу. – Собственный голос ему не понравился, он откашлялся и добавил, чтобы сгладить отказ: – Меня ждут, как-нибудь в другой раз. – Получилось все так же грубо.
Она стояла молча, опираясь о дверной косяк, и лицо у нее стало такое… угасшее. Будто у нее отняли всякую надежду на счастливое будущее. И синяк на щеке… Она дотронулась до него и отдернула руку. Казалось, она только сейчас вспомнила, что с ней призошло.
Шибаев не терпел притворства, чуял его за версту, даже невинное, женское, оно было ему отвратительно и сбивало всякое настроение. Алик Дрючин называл это «большевизмом» и доказывал, что есть правила игры, а именно – в любви все притворяются и распускают хвост, кто больше, кто меньше, всем хочется выглядеть лучше и значительнее. Мужчины врут про драки, деньги, карьеру, даже рыбалку, а женщины изображают влюбленность, восхищение и наивность. Закон природы. Не все, возражал ему Шибаев. Я – нет. Не свисти, отвечал Алик, ты тоже. Возможно, неосознанно. Все до одного!
Вообще надо заметить, в вопросах любви между ними было много разногласий, но результат всегда оказывался одинаковым, что у одного, что у другого.
Григорьева не притворялась. Она как-то сразу угасла, будто ее выключили. Даже лицо потемнело. Стояла, опираясь плечом о дверной косяк, опустив руки. Не изображала обиды, не смотрела взглядом брошенной собаки, вообще не смотрела на Шибаева, но выглядела как человек, чей праздник закончился. Она даже покраснела от его отказа. Есть порода женщин, которые краснеют, если им отказать.
Шибаев, понимая, что делает глупость, озабоченно поднес к глазам руку с часами, чтобы убедиться, что у него, оказывается, есть еще полчаса до важной встречи. Сказал:
– Кофе неплохо бы…
Он был неприятен самому себе, потому что отказ его уже выглядел как притворство, которого он так не терпел в других. Как набивание себе цены. Кроме того, налицо явная бесхребетность.
Она посветлела, рассмеялась и воскликнула:
– Я быстро! Ничего, если мы на кухне? – Взглянула вопросительно, чутко готовая тут же переиграть, пригласить в гостиную, мелькни на его лице хоть тень недовольства.
– Нормально, – отозвался он. – Я люблю на кухне. Только кофе, ничего больше.
– Конечно, – ответила она. – У меня и нет ничего. Мужа нет, я и не готовлю.
Это прозвучало двусмысленно – то ли вообще мужа нет, то ли нет в данный момент. Шибаев не стал уточнять. Притворился, что не услышал. Но облегчение испытал.
Он выпил кофе, отказался от второй чашки. Ирина говорила о том, что стоят последние теплые дни – бабье лето, позднее в этом году. И скоро зима. По тому, как она это произнесла, Шибаев понял, что она ждет перемен, хотя бы в виде снега. И не подозревает о замыслах супруга и о том, что в ближайшем будущем перемен в ее жизни будет дальше некуда. Она говорила про Новый год, и в голосе ее звучала ностальгия по детству, когда все чисто, ясно и красиво. И мандарины под елкой. А Шибаев думал о Григорьеве, жлобе и хаме с несчитаными деньгами. Клиентов не выбирают, равно как некоторые другие вещи в жизни, оправдывался он, но все равно на душе было гадко, особенно в данный момент. Он вспоминал слова Григорьева о жене, воспринимая их сейчас уже по-другому – тогда она была абстракцией, сейчас – живым человеком. В словах банкира, в его тоне не было ревности, обиды, жажды мести, что вроде естественно для обманутого мужа, вдруг открывшего свой позор. Страсти не было. А звучало нечто другое, с определением чего Шибаев затруднился. Нетерпение, пожалуй. Банковская деловитость. Казалось, Григорьеву известен заранее результат шибаевских усилий, он уже приговорил жену и никаких оправдательных приговоров не потерпит. Он знает, что она ему неверна, и жаждет доказательств. Бумаг с печатями. Вещдоков. А Шибаев взялся ему эти вещдоки предоставить. За деньги, потому что работа у него такая.
Он пил кофе, поминутно взглядывал на Ирину Сергеевну и безуспешно пытался поставить ее рядом с Григорьевым. Она улыбалась, всплескивала руками, говорила возбужденно и чуть истерично, пребывая в состоянии эйфории после пережитого шока. Сверкали глаза, сверкали длинные серьги. Классическая постдраматическая реакция. Она нисколько не напоминала Шибаеву сдержанную черно-белую женщину с фотографии.
Он откланялся наконец. Она сказала:
– Спасибо, – и, кажется, собралась заплакать. Тоже классика. Сначала возбуждение, потом слезы. Шибаев видел ее в истерике где-нибудь на тахте или на широкой супружеской постели. Она рыдает, захлебываясь слезами. Рыдает всласть, громко, колотя кулачками в подушку. И никого рядом. Рыдать в одиночку примерно то же самое, что и напиваться в одиночку. Последнее дело, но иногда жизнь и обстоятельства прижмут так, что терпеть выше человеческих сил…
Спускаясь в лифте, Шибаев подумал, что она не любит мужа. Такая женщина не может любить Григорьева. Тут скорее вопрос – любила ли?
Он шагал по улице, вспоминая ее слова, темные с рыжинкой волосы и покачивающиеся длинные серьги, вдруг высверкивающие от ее движений тускло-красным, тускло-сизым и тускло-желтым огнем. И пушок на верхней губе Ирины Сергеевны вспоминал Шибаев. И теплые ее руки. И смех. А также старинный буфет с окошечками и блеклыми картинками с фруктами и овощами на кухне. И громадную керамическую с потеками глазури бурую вазу с красными яблоками – из дизайнерских, не иначе, и запах и вкус кофе.
В общем, Шибаеву стало абсолютно ясно, что совершил он глупость, позволив Григорьевой затащить его к себе. Надо было распрощаться на улице, не знакомиться и не вступать в личные отношения. И кофе не пить, и физиономию не подставлять. Когда он уходил, из двери напротив высунулось сморщенное личико старухи, из тех, что на посту днем и ночью, поздоровалось сладко с Григорьевой и облило его рентгеновским взглядом. Свидетельница.
Что глупость, то глупость, не поспоришь. Но, странное дело, он об этом нисколько не жалел.
Ирина Сергеевна Григорьева, вопреки шибаевским прогнозам, не разразилась бурными рыданиями, не стала бить кулачками в подушку, а, сбросив красные атласные туфли, тихонько улеглась поверх богатого покрывала на широкой супружеской кровати. Закинула руки за голову, уставилась невидящим взглядом в потолок и задумалась безрадостно. И заплакала. И плакала с неподвижным лицом, не всхлипывая, не вытирая слез, давая им сбегать по вискам и пропадать в пышных вьющихся волосах, как раз в том месте, где уже пробились первые седые нитки…
Глава 5
Самокопание, а также острое недовольство жизненными обстоятельствами
– Браки вымирают, как динозавры, – глубокомысленно заметил адвокат Дрючин. Он-то уж знал это наверняка, кормясь бракоразводными делами. Да и собственных браков и разводов, выпавших на его долю, тоже хватало. Правда, перенес он их достаточно легко (в отличие от Шибаева, выстрадавшего и брак, и развод и теперь очень скучавшего по сыну) – только крику было много, детьми не обзавелся, и хоть зарекался на будущее, но по прошествии недолгого времени созревал для новых прекрасных отношений. Был он человек впечатлительный, романтичный и влюбчивый, даром что пьяница. Задеть его воображение было раз плюнуть даже женщине гораздо менее интересной, чем Григорьева с ее одной серьгой. Пытаясь замести следы и непринужденно подтолкнуть Шибаева к разговору о ней, он выдал сентенцию о браках, вымирающих, как динозавры. Шибаев, к его разочарованию, промолчал. Он лежал на своем раздолбанном диване, свет в комнате не горел, и Алик не заметил синяков и царапин на его лице. Был Шибаев смурен и молчалив.
– Ну как? – предпринял Алик еще одну попытку. – Что наша Григорьева?
– Ничего, – буркнул Александр. – Нормально.
– Темно тут у тебя, – заметил Алик и включил свет. Наткнулся взглядом на лицо приятеля и воскликнул: – О господи! Что это с тобой?
Шибаев пожал плечами. Оттого что он проделал это лежа, жест получился очень выразительным.
– Как это? – не понял Алик и выстрелил наугад: – Это… Григорьев? – И было непонятно, почему он вспомнил о банкире, – видимо, подсознательно уже связывал с ним возможные неприятности.
И снова Шибаев пожал плечами.
– Да скажи ты хоть что-нибудь! – заволновался Алик.
– На нее напали, – неохотно молвил Шибаев. – Ну и… вот.
– На Григорьеву? – поразился Алик. – Кто?
– Откуда я знаю, кто. Какие-то алкаши.
– И что?
– Затащили в подъезд, вырвали сумку…
– Ты их?..
– Замочил обоих.
Алик помолчал, переваривая новость. Испытующе смотрел на приятеля. Поверил, кажется, и спросил осторожно:
– Свидетели были?
– Нет вроде. А может, и были. Не видел.
– А Григорьева?
– Жива.
– А… как ты?
– Нормально, – ответил так же лаконично Шибаев. Он видел, что Алик помирает от любопытства, и ощущал странное чувство удовлетворения, испытывая терпение адвоката.
– А Григорьева? – снова спросил Алик. – Она… что?
– Ну, что… благодарила за спасение, рыдала.
– Ты с ней познакомился?
– Пришлось.
– И что было потом?
– Потом… – Шибаев задумался. – Потом мы с ней… как тебе сказать…
– Что?! – выдохнул Алик.
– Она пригласила меня к себе, и мне показалось неудобным отказаться.
– Ты был у нее дома?
– Был.
– И что?
– И ничего. Она замазала мне царапины какой-то дрянью… – Шибаев запнулся, вспомнив теплые ладони на своем лице.
– А потом? – ревниво спросил Алик.
– Потом я ушел.
– И… все? – не поверил адвокат.
– Ну, в общем, все.
– И как она?
– Никак. Женщина как женщина. С двумя серьгами. Кстати, они из хрусталя.
– И что теперь?
– И что теперь? – повторил Шибаев.
– А как же Григорьев?
– Пошлю я твоего Григорьева… подальше.
– Она тебе понравилась? – спросил Алик, прозревая истину.
– Не знаю.
– Ты будешь ей звонить?
– Нет. А ты, если хочешь, позвони. Скажи, что ты мой адвокат. На всякий случай, а то вдруг эти уроды подадут в суд.
– Ты же их замочил!
– Ну, их наследники. Ты ведешь дела о наследстве?
– Тебе все шуточки… – буркнул Алик Дрючин и задумался. Его интересовали подробности драки, квартира Григорьевой, то, как она перенесла нападение, что сказала, какими именно словами выразила свои чувства, что нападавшие успели с ней сделать – ну, травмы там, синяки… Одним словом, любая мелочь. Но он видел, что его друг неизвестно по какой причине не в настроении и делиться деталями не расположен. Хотя почему неизвестно? Известно. Вон физиономия какая… разукрашенная. Алик невольно вспомнил шибаевского кота Шпану, украшенного боевыми шрамами с кончика носа до пяток, если они у него имеются, и подумал, что между этими двумя много общего и самое главное – оба крутые мужики, постоянно ввязывающиеся в коллизии. Правду говорят, что животное перенимает нрав хозяина. Или наоборот.
– Ты решил ему отказать? – спросил он.
– Я уже сказал.
– Слушай, а что, если это он?
– В каком смысле? – не понял Шибаев.
– В смысле, хотел ее устранить!
Шибаев даже отвечать не стал на такой дурацкий вопрос. Банкир Григорьев был неприятным типом, но отнюдь не дураком, и приди ему в голову мысль устранить жену, сообразил бы что-нибудь похитрее. Например, падение с моста.
Алик на время оставил детектива в покое и отправился на кухню готовить ужин. Доставая разнокалиберные тарелки и раскладывая на них принесенные закуски, он пытался представить себе Григорьеву в интерьере собственного дома (интересно, есть ли там ее картины?), испытывая при этом легкие грусть и сожаление, что все это приключилось с Шибаевым, а не с ним. А Ши-Бон явно чего-то недоговаривает. Женщины, как известно, не приглашают к себе домой, чтобы показать вид из окна…
А детектив в это время лежал на диване, переживая приступ острого недовольства собой оттого, что не мог перестать думать о Григорьевой. Как дешевая шлюха, думал он, за ласковый взгляд, улыбку, теплые ладони готов бежать на край света. Он потрогал щеку. Дурак! Не стоило идти к ней, не стоило принимать ее заботу, ничего не нужно было. В то же время он понимал, что по-другому произойти и не могло, случай и обстоятельства сплелись таким образом, что ему пришлось подчиниться. Именно! Подчиниться. Ему показалось, он нащупал наконец причину своего недовольства – его вынудили подчиниться, ему не оставили выбора, он пошел на поводу и… и… вообще. А что, собственно, вообще? О чем сыр-бор? Спас женщину, пил с ней кофе, что не так? Какие претензии? Чутье, редко подводившее Шибаева, ощутимо посылало сигналы тревоги, мигало красной лампочкой, но зацепиться было не за что.
В разгар самокопания появился Алик и позвал его на кухню ужинать. Шибаев, почувствовав здоровый голод, с облегчением покинул осточертевший диван.
Они сидели на спартанской шибаевской кухне, и после третьей рюмки Алик задал свой главный вопрос:
– Как она тебе?
Александр только кивнул с набитым ртом – нормально, мол. Другого ответа у него просто не было. Прожевав, он вдруг спросил:
– Что такое «эманация»?
* * *
…Он летал по квартире, накрывая на стол. Не забывая мельком взглядывать на себя в зеркало, чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке. Тонкий, гибкий, похожий на подростка, с сияющими, полными ожидания глазами. Если не присматриваться, не видны сухие лучики, расходящиеся веером от уголков глаз и губ. Ему всегда шел черный цвет. Любимый черный шелковый свитерок, нежная белая кожа в вырезе, серебряный крестик на недлинной цепочке. Светлые тонкие прямые волосы, небрежно брошенные за уши, бледные руки, которые помнят…
От слабости в ногах он опустился на стул, потрогал крестик, которому придавал чуть ли не мистическое значение как символу тайны.
Из распахнутого окна тянет дождем и ранними сумерками. В комнате почти темно. На противоположных концах простого непокрытого скатертью деревенского стола два старинных серебряных подсвечника с длинными желтыми свечами. Сочетание грубых, потемневших от времени досок стола и ювелирной работы подсвечников бьет в глаза чарующим несообразием, в котором чувствуется подлинный артистизм. Сине-белый фарфор тарелок, тяжелый тусклый мельхиор вилок и ножей. Хрустальный караф[2] с красным бордо, их любимым вином. Низкие хрустальные рюмки с монаршей короной. В прозрачной прямоугольной вазе в центре небрежные веточки желтых орхидей. Орхидея – их цветок. Он учился дизайну у друга, взахлеб впитывая его методы, вкусы, пристрастия, внимание к деталям, их сочетаемости и цвету, и сейчас, полный томительного ожидания, вкладывал душу в убранство стола, комнат, спальни. На подушке в спальне лежит желтая орхидея, на богатом атласном желто-золотом покрывале – вишневый шелковый халат, на одноногом столике – шандал с тремя свечами и крохотная круглая шкатулка лиможского фарфора – голубые васильки в золотых ромбах на белом. В шкатулке – легкая белая пудра, пьяное зелье…
Он многому научился у него, назначив себя любимым и преданным учеником. Преданным и любимым… навсегда. Ничего не прошло, ничто не забылось. Внезапно его осеняет, что «преданный» можно читать по-разному. Преданный ученик и… преданный ученик. Он замирает на миг, пораженный открывшимся невольным смыслом. Невольным и несообразным – привычнее нашему уху звучало бы «преданный учитель». Чаще предают те, кто моложе, жаднее к жизни и ее разнообразию, кто привык получать. Те, кого любят. Чаще, но не всегда…
Замирает… и летит дальше. От волнения у него меркнет в глазах, сердце колотится в груди то справа, то слева, то в горле, готовое выпорхнуть на волю. Он летает по комнатам, кружась, полный возбуждения, заранее пьяный, хотя красное, почти черное вино в карафе не тронуто. У него мелькнула мысль налить себе чуть-чуть, чтобы унять волнение, но он отмел ее как предательскую.
Едва слышная музыка, любимая музыка его. Вскрики саксофона, от которых он вздрагивает в нервном ознобе. Бенни Гудмен. Он равнодушен к джазу, но тот его любит. Бенни Гудмен, орхидеи, свечи… диссонанс, больше подошла бы классика, семнадцатый век, плоский, блямкающий, наивный звук клавесина. Но сакс в отличие от классики заводит.
Он раскрывает дверь на балкон. Взметнулись тяжелые драпировки, рванувшийся в комнату запах мокрой травы сразу вытеснил запахи еды.
Взгляд его поминутно возвращается к высоким часам в углу. Часы начинают бить. Десять. Тот всегда был точен. Часы бьют неторопливо, размеренно, звук провожает его в прихожую. Он стоит у двери – замер, прислушиваясь, дыша глубоко, чтобы унять нетерпеливое биение сердца. Сейчас, сию минуту раздастся звонок! Он распахнет дверь, дрожащие пальцы с трудом справятся с замками…