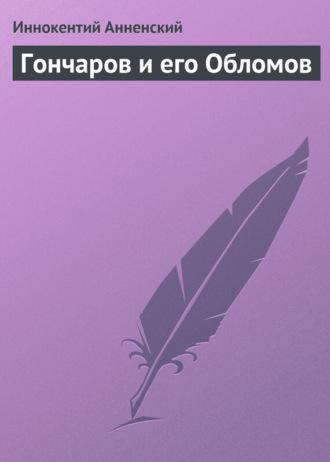
Иннокентий Анненский
Гончаров и его Обломов
По-видимому, здесь место для некоторой идеализации, для этой лирической дымки. Нет, Гончаров осторожен с «человеком», его симпатия и любовь к человеку оскорбилась бы от прикрас. И вот на Якубова льются лучи гончаровского юмора.
– Человек побежит в обход по коридору доложить – «Владимир Васильевич», скажет он, или: «граф Сергей Петрович». Якубов вместо ответа энергически молча показывает человеку два кулака.
Между тем гость входит сам:
– А! граф Сергей Петрович, милости просим! – радушно приветствует его моряк, – садитесь вот здесь! Эй, малый! – крикнет человеку, – скажи, чтоб нам подали закуску сюда, да позавтракать что-нибудь (IX, 67).
Или дает он крестнику белые перчатки для бала.
– Да это женские, длинные, по локоть, – сказал я, – они не годятся!
– Годятся, вели только обрезать лишнее, – заметил он.
– Да откуда они у вас?
– Это масонские, давно у меня лежат: молчи, ни слова никому! – шептал он, хотя около нас никого не было (ibid., 76).
Характерно для творчества самого Гончарова отношение Якубова к взяточникам:
– Хапун, пострел! – говорил Якубов при встрече с таким судьей и быстро перекидывался на другую сторону линейки, чтоб не отвечать на поклон (ibid., 93).
Мастерски очерчена в воспоминаниях Гончарова фигура губернатора Углицкого: жаль, что эскиз так эскизом и остался и не вошел в крупное произведение.
Для характеристики гончаровского отношения к людям всего интереснее следующее место в обрисовке Углицкого. Речь идет о рассказах Углицкого:
– Иногда я замечал при повторении некоторых рассказов перемены, вставки. Оттого полагаться на фактическую верность их надо было с большой оглядкой. Он плел их, как кружево. Все слушали его с наслаждением, а я, кроме того, и с недоверием. Я проникал в игру его воображения, чуял, где он говорит правду, где украшает, и любовался не содержанием, а художественной формой его рассказов.
Он, кажется, это угадывал и гнался не столько за тем, чтобы поселить в слушателе доверие к подлинности события, а чтобы произвести известный эффект – и всегда производил.[27]
Гончаров не очернил Углицкого: благодаря своему вдумчивому отношению к людям и справедливости он дал нам возможность выделить эту индивидуальность из десятка подобных Углицких.
В какую живую ткань далее в рассказе того же Углицкого из его молодости перемешано доброе и злое. Два закадычных приятеля устроили взаимные сюрпризы: один проиграл деньги, присланные другому из дому, где они были еле-еле сколочены, другой заложил в отсутствие приятеля все его ценные вещи, и оба простили друг другу.
Сколько в этом наивном коммунизме перемешалось и пошлого, и высокого, и как деликатно разбирает перед нами поэт эти нити. Говоря о Белинском, Гончаров прилагает к нему слова George Sand: «On ne peut savoir tout, il faut se contenter de comprendre».[28]
Не были ли эти слова и его собственным девизом? Гончаров любил покой, но это не был покой ленивца и сибарита, а покой созерцателя. Может быть, поэт чувствовал, что только это состояние и дает ему возможность уловить в жизни те характерные черты, которые ускользают в хаосе быстро сменяющихся впечатлений. Такой покой любил и Крылов. Он переживал в нем устои своих образов.
Посмотрите на портрет Гончарова. У него то, что немецкие физиономисты (напр., Piderit[29] «Mimik u. Physiognomik», Detmold,[30] 1886, 64, 186) называют Schlafriges Auge.[31] Это лицо созерцателя по преимуществу. Два раза – в Райском-ребенке и старике Скудельникове – поэт дает нам заглянуть в область созерцательных натур.
Вот неопытный созерцатель-ребенок (IV, 51, 99):
…он прежде всего воззрился на учителя, какой он, как говорит, как нюхает табак, какие у него брови, бакенбарды; потом стал изучать болтающуюся на животе его сердоликовую печатку, потом заметил, что у него большой палец правой руки раздвоен посередине и представляет подобие двойного ореха. Потом осмотрел каждого ученика и заметил все особенности: у одного лоб и виски вогнуты в середину головы, у другого мордастое лицо далеко выпятилось вперед, там вон у двоих, увидал у одного справа, у другого слева, на лбу растут волосы вихорком и т. д., всех заметил и изучил – как кто смотрит. Один с уверенностью глядит на учителя, просит глазами спросить себя, почешет колени от нетерпения, потом голову. А у другого на лице то выступает, то прячется краска: он сомневается, колеблется. Третий упрямо смотрит вниз, пораженный боязнью, чтоб его не спросили. Иной ковыряет в носу и ничего не слушает. Тот должен быть ужасный силач, а этот черненький – плут; и доску, на которой пишут задачи, заметил, даже мел и тряпку, которою стирают с доски. Кстати, тут же представил и себя, как он сидит, какое у него должно быть лицо, что другим приходит на ум, когда они глядят на него, каким он им представляется?
– О чем я говорил сейчас? – вдруг спросил его учитель, заметив, что он рассеянно бродит глазами по всей комнате.
К удивлению его. Райский сказал ему от слова до слова, что он говорил.
– Что же это значит? – дальше спросил учитель. Райский не знал: он так же машинально слушал, как и смотрел, и ловил ухом только слова.
Для творчества Гончарова такая впечатлительность была определяющей силой.







