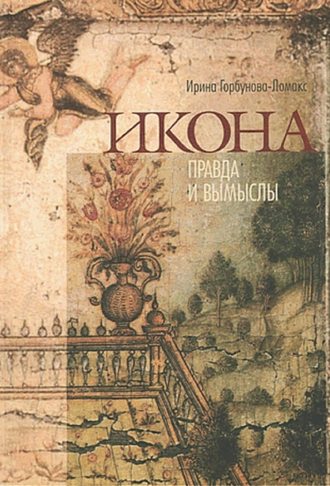
Ирина Горбунова-Ломакс
Икона. Правда и вымыслы
«Богословское» же отрицание «нерукодельных» пигментов есть чистейший предрассудок. Мы уже упоминали мнение св. Иоанна Дамаскина о равном достоинстве всех материалов, равно принадлежащих к тварному миру. И никакой контакт сырья или готового пигмента с «нечистыми» веществами или существами не делает их мистически непригодными для иконописи. Напоминаем, что рецепты, приводимые в «Ерминии», классическом руководстве, суммирующем опыт многих поколений афонских мастеров, весьма далеки от какого бы то ни было ложного пуризма. Иконописцам приходилось иметь дело с тухлым яичным белком, разваривать в клейкую массу звериные шкуры, выдерживать под слоем свежего навоза медную стружку[4] – и ни в одном из этих феноменов тварного мира, казалось бы воплощающих самую идею нечистоты и разложения, они не видели никакой мистической скверны.
В конце концов, всякая икона, на чём бы и чем бы она ни была написана, подлежит освящению в храме. Этим обрядом омывается, очищается её «предыстория», её вполне земное происхождение – трудом и волей того или иного смертного человека, из тех или иных бренных земных материалов, по технологии той или иной эпохи или школы. Эти характеристики потому и допускают разнообразие, что они вторичны. Главное в священном изображении – вовсе не материал и не техника исполнения, а нечто иное.
Итак, несмотря на то, что большинство икон действительно писано яичной темперой на дереве, мы никак не можем назвать эти «технические» характеристики определяющими. Тем более мы не можем называть «падшими» и «неистинными» иконы, написанные на иных основах, в иной технике, по другим технологическим предписаниям.
И ещё один пункт, не касающийся прямо иконного письма, но принадлежащий к области техники и технологии – применение золота в иконе. В популярном представлении золото фонов, нимбов, ассиста является ни много ни мало как эквивалентом нетварного света[5]. Поразительна лёгкость, с которой употребляется этот термин! Ведь речь идёт о феномене мира духовного, вещи невидимой по определению. Откуда же эта прямолинейность и уверенность суждений о невещественном божественном свете, о невозможности передать оный какими бы то ни было красками и о необходимости поэтому прибегать к золоту? Насколько – вдвое или всемеро – этот благородный металл способнее к передаче нетварного света, чем те минералы, из которых делаются краски, пока не установлено, но важность применению золота в иконе придаётся исключительная. Редкий автор-популяризатор иконы обходится нынче без лирических пассажей вроде: «горящие золотые краски иконы однозначно говорили, что мир, открывшийся человеку в иконе, – это мир запредельного, – мир Абсолютного, Вечного»[6]. Развивая далее эту лирику, случается, приходят и к занятным богословским заключениям: «Высшая красота теофании не в форме и цвете, а в огне бесформенном и очищающем, дающем жизнь»[7].
Между тем обычай употреблять золото в священных изображениях существовал задолго до христианства. Отчасти это объясняется стремлением приносить на алтарь божества самое дорогое и иметь предметами культа объекты большой ценности и высокой долговечности. Но порой и в языческих культах использованию золота приписывался мистический смысл, и блеск металла прямо связывался с солнечным светом, с животворным сиянием солярного божества, как бы оно ни называлось. Считается даже, что в царствование фараона Эхнатона, предпринявшего попытку построить монотеистическую религию на основе культа бога солнца Атона-Ра, концепция этой животворной эманации была весьма близка к идее нетварного света.
Примечательно, однако, что идолы, целиком отлитые из золота (как библейский телец израильтян) или сплошь позолоченные, свойственны лишь примитивным культам. В более развитых дохристианских культах уже предпочитали украшать позолотой или выполнять из золота второстепенные детали священных изображений, а лики божеств ваять в камне, дереве, слоновой кости – материалах, «гуманизирующих» изображение. Христианская икона также последовала этой разумной тенденции: позолота кладется на фон иконы, иногда – в виде тонких линий ассиста – на детали одежд, мебели, архитектуры, растительности. Это сделалось правилом, несмотря на то, что вовсе не упомянутые предметы, а Единое Божество источает тот нетварный свет, который, согласно известным теориям, передается при помощи сплава аигит более или менее высокой пробы. Процитируем здесь некоторые «конкретные наблюдения» и удивительные выводы из них, сделанные столетие назад, на самой заре открытия древнерусской иконы, кн. Е.Н. Трубецким.
«…в озарении Божьего света нередко прославляется ассистом и его окружение (чьё? Бога или света? – И. Г.-Л.), – то из окружающего, что уже вошло в божественную жизнь и представляется ей непосредственно близким. Так, ассистом покрываются сверкающие ризы “Софии Премудрости Божией” и ризы возносящейся к небу Богоматери (после Успения). Ассистом нередко искрятся ангельские крылья. Он же во многих иконах золотит верхушки райских деревьев. Иногда ассистом покрываются в иконах и луковичные главы церквей»[8].
Неужели Матерь Божия до Её успения менее близка божественной жизни, чем верхушки каких бы то ни было деревьев или луковичные главы? При всём отсутствии правильного богословского образования, мы никак не можем внутренне согласиться с таким мариологическим тезисом. А вот образчик христологии в красках:
«Вообще, потусторонние краски (сей термин вводится князем – без объяснений и без кавычек – впервые в данной фразе, и лишь из контекста ясно, что речь идёт об ассисте. – И. Г.-Л.) употребляются нашей древней иконописью, особенно новгородской, с удивительным художественным тактом. Мы не видим ассиста во всех тех изображениях земной жизни Спасителя, где Божество в Нём сокрыто “под зраком раба”. Но ассист тотчас же выступает в Его облике, как только иконописец видит его (ассист? облик? или Спасителя? – И. Г.-Л) прославленным или хотя бы хочет дать почувствовать Его грядущее прославление»[9].
По этой логике, иконописцы никогда не видят Христа прославленным и не хотят дать почувствовать грядущее Его прославление во всех бесчисленных иконах Распятия, ни даже – вопреки названию и надписанию – в более редком иконографическом изводе «Царь Славы», где Христос изображается по снятии со креста, со сложенными крестообразно руками: ассист в этих иконографических типах никогда «не выступает». Почти никогда, согласно Трубецкому, не прославляется Христос и в иконе Спаса Нерукотворного: и там «в облике», представленном лишь ликом, а не одеждами, ассист «не выступает» никогда (крайне редко ассистом прочерчиваются волосы). Следует, вероятно, думать, что только иконографический тип Пантократора, за счёт обычно (но не всегда) покрываемой ассистом полосы клава на плече Христа, таковое прославление выражает…
А вот ещё один образец всё той же безответственной лирики, в конце XX века всё ещё принимавшейся – да и сейчас порой принимаемой – за «первое и доселе единственное целостное, одновременно художественное, историческое и богословское истолкование древней русской иконы»[10].
«Особенно сильное художественное впечатление достигается употреблением ассиста там, где иконописцу нужно противопоставить друг другу два мира, оттолкнуть запредельное от здешнего. Это мы видим, например, в древних иконах Успения Богоматери. При первом взгляде на лучшие из этих икон (какие именно? и по каким критериям они лучшие? – И. Т.-Л.) становится очевидным, что лежащая на одре Богоматерь в тёмной ризе со всеми близкими, её (ризу? – И. Т.-Л.) окружающими, телесно пребывает в здешнем плане бытия, который можно осязать и видеть нашими здешними очами. Напротив, Христос, стоящий за одром в белом одеянии, с душою Богоматери в виде младенца на руках (лишь известная искусствоведческая подготовка позволяет нам понять этот пассаж в том смысле, что Христос держит на руках представленную в виде младенца душу Богоматери, а не в том смысле, что Христос имеет душу Богоматери, а сия последняя имеет вид младенца на руках. – И. Г.-Л.), производит столь же ясное впечатление потустороннего видения. Он весь горит, искрится и отделяется от умышленно тяжёлых здешних красок земного плана эфирной лёгкостью покрытых ассистом воздушных линий»[11].
Можно, конечно, спросить ещё, что следует понимать под ясным впечатлением потустороннего видения. Большинство смертных, включая автора сих строк, не располагают той глубиной потустороннего опыта, которая позволяет запросто оперировать такой терминологией. Не мешало бы и уточнить, что ассистом покрыты не некие воздушные линии, не лик и не руки, а одежды Христа. Вызывает недоумение и внезапное отыскание некоего умышленно тяжёлого, здешнего, осязаемого плана в иконе, до тех пор трактовавшейся как сплошная область неземного и надмирного… Но нам представляется, что процитированного материала уже с избытком довольно для того, чтобы дать представление об уровне – и научном, и литературном – теорий о золоте как о зримо проступающей в вещественных объектах божественной эманации.
В дальнейшем мы постараемся не досаждать читателю лирическими цитатами; здесь мы приводим их скорее как образец дилетантизма, субъективизма и пренебрежения к элементарной логике, столь распространенных в околоиконном богословствовании. В том рыхлом, непоследовательном потоке сознания, которым является текст кн. Е. Трубецкого, мы выделим существенное (им самим не только не названное, но и не осознанное), а именно: золото в качестве ассиста применяется в иконе факультативно, почти исключительно в изображениях предметов неодушевленных, и никакой пропорции «в чём больше золота – в том больше святости» в иконной традиции не существует. Даже в том, что касается одежд. Например, святые в чине преподобных не могут иметь золотых разделок на своих монашеских одеяниях, а вот князьям и царям такая разделка прямо полагается – даже царю Ироду или Понтию Пилату.
Но главное, конечно, не в этом, а в следующем: изображение того, что истинно свято – преображенной в Духе человеческой плоти, – вовсе обходится без золота. И для изображения Самого Бога Единого применяются всё-таки пигменты, то есть химические продукты или природные минералы, вплоть до самых неблагородных и лишенных какого бы то ни было блеска. Никакой профанации, никакого умаления божества тем не совершается, потому что перед Ним и Его славой чистое золото и простая охра, т. е. толчёная глина, равны в своём достоинстве.
Ничего богохульного не заключают в себе и те христианские священные изображения, где золото отсутствует вовсе, будь то по причинам экономическим или иным. Таких изображений не только среди «профанных», т. е. писанных в академической манере, но и среди традиционных, «византийских» икон великое множество. Даже нимб, символически передающий сияние, окружающее лик Божий или лик святого, не всегда бывает золотым. Он мог быть обозначен контурной линией алого или белого цвета, мог быть – особенно в настенных изображениях – желтым, голубым, зеленоватым, наконец, состоящим из нескольких цветных окружностей.
Во многофигурных композициях нимб может вообще отсутствовать у всех персонажей, кроме Спасителя и Богородицы. Так, свв. апостолов часто изображают без нимбов в праздничных иконах Успения, Сошествия Св.
Духа, Вознесения, в иконах на темы Страстной седмицы, на другие евангельские сюжеты. Лики праведников в таких иконах, как «Покров» или «О Тебе радуется», пишутся как с нимбами, так и без оных. Образ «Сорок мучеников Севастийских» иногда представляет этих стойких воинов с нимбами (и тогда мы видим лики только переднего ряда мучеников), а иногда без нимбов (и тогда показаны лики всех сорока), при этом все четыре десятка венцов помещены в небесах.
Можно ли усмотреть здесь какую-то закономерность и дать теологическое обоснование отсутствию нимбов в указанных случаях?
Закономерность здесь есть, но не теологическая, а композиционная: нимбы «исчезают», когда для них мало места, когда художник считает, что важнее показать лик святого, чем символический атрибут его святости. Отметим это предпочтение – оно совершенно в духе Православия, ставящего благодать выше закона.
В связи с темой «передачи нетварного сияния» в иконописи неплохо вспомнить, что и языческие боги, герои, цари иногда изображались с нимбом круглой или иной формы. Золотые венцы украшают главы обыкновенных людей на знаменитых фаюмских портретах[12] – вернее, на фаюмских культовых изображениях, писавшихся с живых людей. После смерти египтянина было принято прибавлять к его имени частицу «Усир», или «Озирис» – имя умершего и воскресшего божества, а на портрет наклеивать в виде венца листовое золото, в знак того что изображенный перешел в мир невидимый, таинственный, и сам сделался божеством. Эта традиция, предварившая (а возможно, и определившая) христианскую, есть лишь одно из бесчисленных свидетельств того, что и язычникам частично открывалась Истина, а также того, что христианское церковное искусство гораздо теснее связано с общечеловеческой духовной и художественной культурой, чем иногда думают.
Связь эта существует независимо от того, хотим ли мы её признавать или нет. Поэтому лучше не закрывать глаза на наше «тёмное языческое прошлое», но учиться различать в нем вещи, остающиеся важными для христиан, вещи, отказ от которых не причинит никакого вреда христианину, и, наконец, вещи, излишняя приверженность к которым может отвратить нас от собственно христианских ценностей. Ни к чему искать каббалистических истолкований техническим приёмам и художественным эффектам. Ни одна из этих выдумок не может ни углубить молитву перед иконой, ни помочь пониманию православной святости.
О допустимости написания иконы с живой модели
От фаюмских портретов, так легко трансформировавшихся в культовые объекты, будет естественно перейти к вопросу о допустимости написания иконы с натуры, вернее с живой модели. Ещё в самый первоначальный, так сказать эмбриональный, период формирования науки о древней иконе (1915 г.) князь Е.Н. Трубецкой с присущей ему эмоциональностью высказался по этому вопросу:
«Он (человек) не может войти в состав Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанного сердца и для разжиревшей, самодовлеющей плоти в этом храме нет места: и вот почему иконы нельзя писать с живых людей»[13] (выделено Е. Трубецким).
Простим некоторую неясность произведенной князем логической дедукции; мы приводим здесь эту цитату именно потому, что очень уж характерна такая фразеология и такая логика для многих писавших об иконе в XX веке. Но всё-таки, говоря о написании священного образа с живого человека, нужно особо рассматривать два случая. Первый – при жизни какого-либо лица с него пишется портретное изображение, впоследствии, по смерти и прославлении Церковью этого лица, становящееся иконой, и второй – художник приглашает позировать ему живую модель, внешность которой напоминает известные черты святого.
Достаточно распространенным является представление о том, что ни то, ни другое недопустимо[14]. Первое – потому что Церковь признает людей святыми лишь по завершении их жизненного пути, и недопустимой дерзостью было бы заранее писать с них тот особенный портрет, который только и может зваться иконой. А второе и подавно святотатство: что общего у какого-то первого встречного со святым? Внешность? Но ведь икона изображает не плоскую бездуховную внешность, а плоть, просветленную Духом, и, кроме того, вместо аутентичного контакта с уникальной личностью святого художник войдет в контакт с личностью натурщика, и таким образом икона потеряет весь свой мистический смысл[15].
Но так ли уж справедливо такое представление? Действительно ли оно имеет твердое основание в православном богословии и иконописной традиции?
Начнем с первого случая – о прижизненных изображениях, становящихся иконами. Хорошо известно, что Церковь, во всяком случае, не признает иконами фотографии и не помещает их в этом качестве в храмах (хотя в домашних иконостасах многих верующих фотографии святых присутствуют, иногда заменяя их иконы, а иногда наряду с оными). Не стали иконами и известные живописные портреты Серафима Саровского или Иоанна Кронштадтского, хотя и послужили иконописцам несомненными образцами для почти буквального подражания.
Но, с другой стороны, в церковной традиции прочно утвердилось представление о том, что св. апостол Лука, будучи художником, написал несколько портретов Божией Матери при Её жизни, и портреты эти сделались первыми Её иконами. Даже если экспертиза опровергает принадлежность к I в. н. э. некоторых приписываемых св. Луке икон, один только факт существования подобного предания, а также православных изображений св. Луки перед мольбертом за написанием иконы с Самой, предстоящей ему, Богородицы, говорит о том, что канонического запрета на писание икон с натуры не существует.
Рассматривать же этот факт как исключение из правила, сделанное для художника-апостола и Матери Божией, святость которых была несомненна и превосходна, мы позволить себе не можем. О том, как именно, с натуры или по памяти, писались первые иконы святых, у нас нет никаких прямых данных, но данные косвенные и здравый смысл с очевидностью говорят о том, что писались они с натуры, как обычные портреты. Например, в 4-й книге жития св. императора Константина говорится, что его подданные «чествовали его и умершего, совершенно так, как если бы он был жив, посвящением ему изображений: они изобразили на нарисованной красками картине вид неба, а поверх небесного свода с помощью живописи представили его отдыхающим в эфирном местопребывании»[16] – как видим, для агиографа достопримечательно и необычно именно посмертное, а не прижизненное изображение; прижизненные разумелись сами собою! Мы не можем указать на такие первые иконы-портреты – столетие иконоборчества оставило нам буквально крохи от художественного наследия предшествовавших ему веков. Но, скорее всего, если бы даже десятки тысяч древних памятников дошли до наших дней, мы и тогда бы не знали наверняка, какой Никола или какой Георгий суть «те самые», первые, и чьей кисти они принадлежат, и писаны ли непосредственно с натуры – такое множество списков с чтимых икон распространялось в Церкви, так мало значило авторство и такой прямой виделась связь каждой чтимой иконы не только с Первообразом, но и с первообразцом, т. е. хороший список почитался наравне с образцом и вскоре с ним вполне отождествлялся в сознании народа. Именно так, по вере народной и великим чудотворениям, продолжает Церковь приписывать непосредственно св. Луке иконы, которые эксперты признают за позднейшие списки.
Но, к счастью, мы имеем возможность сделать некоторые выводы из рассмотрения дошедших до нас прижизненных портретов царей, храмоздателей, клириков, донаторов, изображенных в молитвенном предстоянии Господу или святым на иконах. Именно потому, что эти люди не стали святыми, их портреты, включенные в иконы, никогда не списывались для других икон и остались единственными, уникальными объектами, о которых мы можем, несмотря на протекшие столетия, твердо сказать: это прижизненный портрет. Так вот, эти портреты живых и вовсе не святых людей, являющиеся частью иконы, стилистически ничем не отличаются от соседних с ними изображений святых. И не только стилистически, но и по своему типажу, т. е. никак нельзя сказать, что какая-то особенная, бросающаяся в глаза бездуховность и грубость черт выдает несвятость тех или иных включенных в икону персонажей. Единственное средство отличить святых от несвятых на традиционной иконе – нимб и надписание. Если же оные отсутствуют (как это часто бывает в многофигурных композициях), то без знания сюжета иконы, канонического или традиционного расположения фигур известных святых, их внешних черт и свойственной им одежды зритель лишен всякой возможности определить, какие персонажи суть святые, а какие нет.
Всё сказанное в предыдущем абзаце относилось к прижизненным портретам, включенным по желанию заказчика в икону или храмовую роспись. Но всё это равным образом справедливо для неизмеримо более многочисленных «незаказанных» изображений несвятых в составе праздничных, житийных, евангельских сюжетов. Этот необходимый по сюжету «народ» далеко не всегда настроен благоговейно, а порой иконописцу случается изображать язычников, грешников, палачей. Но пропорции тел этих злодеев и этой черни так же благородны, как пропорции тел святых, лица их не обезображены низкими страстями. В житийных сценах, если эти несвятые не совершают прямых насилий, то мы не можем определить, кто из них плох, а кто хорош, без надписания, объясняющего смысл сцены.
Таким образом, мы убедились в том, что изображения на иконе святых – и несвятых, живых – и умерших, тех, кто сам служил моделью художнику, тех, чья внешность была ему известна из прежде писанных образцов, и тех, кого он просто-напросто «придумывал», изображения эти совершенно идентичны по манере письма и неотличимы по типажу. Уже одно это – неоспоримое! – наблюдение дает нам право утверждать, что работа с живой модели или по воображению, идёт ли речь о святом или вовсе не святом персонаже, никак не сказывается на манере изображения человека в иконе, не налагает никакой особой печати.
Но до сих пор мы говорили всё-таки о тех случаях, когда святые и несвятые были писаны «с самих себя» при их жизни. Оставив в стороне «статистов», непоименованных персонажей многофигурных сцен, к которым всё равно не обращаются с молитвой, мы перейдем ко второй части вопроса: может быть, действительно есть нечто мистически запретное в том, что художник, посадив перед собою убеленного сединами благообразного натурщика, писал с него св. Николая? Или, накинув пурпурную драпировку на голову молоденькой натурщицы, писал с неё Богородицу? Вопрос этот многосложен, и, прежде чем говорить здесь о православной мистике, хорошо бы убедиться, что мы не впадаем в мистицизм языческий.
Смысл портретирования в христианской (да и не только христианской) культуре – прежде всего в передаче внешнего сходства. Времена, когда грубо слепленный идол – пара глаз, нос-рот, половые признаки – мог считаться мистическим двойником человека и в этом качестве быть объектом почитания или магических действий, – эти времена, в христианской Европе по крайней мере, давно прошли. Портреты живых людей, как в дофотографическую эпоху, так и сейчас, заказывают не первому встречному, который согласен посидеть известное время против модели, вступая с ней в некий контакт, и потом представить аутентичный продукт этого контакта на бумаге, холсте или в глине. Вовсе нет; от портрета требуется не аутентичность контакта художника с моделью, а сходство.
Профессиональный художник тем и отличается от дилетанта, что не ищет мистической связи с натурой (живой или неживой), а, зная, как добиться сходства изображения с натурой, создает схожее с нею изображение. И уже от себя, в меру своего таланта и в соответствии со своими эстетическими, нравственными и духовными установками, вносит в свою работу то, что превращает портрет из просто схожей с натурой ученической штудии в произведение искусства. Он может сообщить портретируемому особую значительность, или эмоциональную тонкость и глубину, или душевную чистоту и благочестие, или сексуальную привлекательность, или одухотворенность и сосредоточенность. Портреты, писанные с одного и того же лица разными художниками, могут по-разному характеризовать его психологически, интеллектуально, духовно, сохраняя при этом внешнее сходство.
Средства добиться этого сходства для разных художников будут тоже разными: это может быть ряд длительных сеансов со строгим соблюдением условий освещения, позы, расположения складок одежды, а могут быть и быстрые зарисовки, на основе которых портрет будет писаться – сколь угодно долго и тщательно – уже в отсутствие оригинала. Художник может прибегнуть к услугам наёмного натурщика, усадив его в позу и нарядив в костюм портретируемого, может использовать в тех же целях манекен, может обращаться к ранее написанным, нарисованным, изваянным (им самим или другими) портретам того же лица или к его фотографиям. Но работа художника будет оцениваться, во всяком случае, с точки зрения сходства портрета с оригиналом и желательности духовно-психологического акцента, сообщенного портрету.
Позволим себе для наглядности несложную притчу. Представим, что некто написал непосредственно с натуры никуда не годный портрет короля. Но признавать свою неудачу он и не думает. Он всерьёз доказывает, что работа его ценна мистической силой аутентичного контакта с королём во время многочасовых сеансов. И вдобавок обличает своего более талантливого коллегу-портретиста: он-де писал королевский портрет не с натуры, а пригласил позировать какого-то сомнительного типа, найденного на улице. Что ответят такому демагогу, если вообще сочтут нужным отвечать на его галиматью? Ему ответят, что короля правдиво изображает тот портрет, на котором Его Величество можно узнать без подписи, и не только узнать, а ещё и подивиться, как верно схвачены его благородство, мудрость, величие. Если в скромнейшем из королевских подданных художник сумел разглядеть эти черты, тем лучше для них обоих, а государя этим оскорбить никак нельзя. Оскорбит государя скорее уж тот, кто, написав с него явно неудачный, несхожий, недостойный его портрет, настаивает на всеобщем признании аутентичности этого изображения.
Таков будет совершенно резонный, трезвый ответ шарлатану и бездарности в «светской» ситуации.
Но почему же в иконописи подобному шарлатанству и нездоровому мистицизму, отбрасывающему нас в эпоху глиняных терафимов, охотно предоставляется место? Почему возникло и утвердилось это грубое, в зубах навязшее противопоставление: вот богохульник Рафаэль, пишущий Божию Матерь с легкомысленной девчонки, а вот череда подлинных иконописцев, никогда не осквернивших свое искусство… чем, спрашивается? Копированием натуры?
Здесь нам придётся сделать небольшое отступление. Дело в том, что выражение «копировать натуру» употребляется известной школой богословия иконы с такой лёгкостью, как будто и в самом деле нет ничего естественнее, как будто все не-иконописцы (вот ведь какие бездуховные!) только и делали, что штамповали копию за копией: как же иначе, реализм – значит копия. Стало почти общим местом, с лёгкостью принимаемым на веру, вульгарное сравнение академической школы живописи с фотографией или даже видением Христа глазами духовно слепой толпы. Такое сравнение видится блестящим доказательством невозможности показать божественную природу Христа при посредстве реалистического изображения[17]. В действительности, ничего подобного не доказывая, такое сравнение только свидетельствует о незнании или намеренном игнорировании азбучных законов изображения натуры художником.
Художник никогда не копирует натуру механически, как делает это фотографический аппарат. Даже картины так называемых фотореалистов, целью своей ставящих именно безличное, механическое копирование фотоснимков (им известна принципиальная невозможность механического копирования натуры), даже их картины носят слабый отпечаток индивидуальной манеры автора. Любое же «копирование» собственно натуры всегда является творческим и натуру неизбежно преображает. Именно особенности этого преображения и составляют специфику искусства, его raison d’être[18]. Они дают нам представление о внутреннем мире художника, об уровне его одаренности и профессионализма, о школе, эпохе, национальности, к которым он принадлежит (именно эти ясно читаемые специалистами данные служат основой для атрибуции и оценки). Для зрячего человека свидетельствами бытия Божия и возможности Боговоплощения могло бы служить уже одно несказанное, неисчерпаемое богатство таких индивидуальных видений натуры, каждое из которых – явление само по себе чудесное, аутентичная и воплощенная в косной материи проекция макрокосма в микрокосме.


