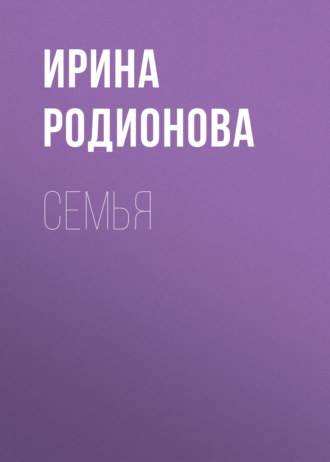
Ирина Родионова
СемьЯ
– Молчишь и в стену пялишься, а глаза стеклянные! – причитала Мила, кружась вокруг. – Ты нормально? Нигде не болит?..
– Нигде у нее не болит, – Женя пнула валяющиеся на полу серые доски и ткнула дрожащим от гнева пальцем на дверь. – А вот мы все из-за нее сдохнем.
– Хватит… – слабо попросила Саша и привалилась к стене. Мир перед глазами кружился, словно Саша утратила последнюю точку опоры. – Что я такого сделала?..
– Что ты сделала? Что ТЫ сделала?! – Женя поперхнулась яростью. Если бы Юра не схватил ее, она наверняка бы ударила Сашу еще раз. И еще.
И еще.
От Егора будто осталось лишь бледное лицо, висящее в полумраке – Саша видела его плотно сжатые губы и прикрытые веки. Женя в это время разъярялась сама от себя, раздувала тлеющие угли в полыхающее пламя.
– Ты не подумала, чё там может сидеть, а? Не пр-росто так кто-то заколотил эти двер-ри, бестолочь! «Что я такого сделала», нет, вы послушайте! Дур-ра тупая!
Оскорбления вперемешку со злобой лились из ее рта.
– Говори, – Саша, придерживаясь за стену, нетвердо поднялась на ноги. Сзади к ней шагнул Егор, невесомо поддержал под локоть, но она этого даже не заметила. – Говори, говори. Можешь врезать мне еще раз, ну, чего стоишь-то…
И в Жене вдруг будто лампочка перегорела. Она вырвалась из Юриных рук, метнула взгляд и процедила сквозь зубы:
– Какая же ты тупая, боже… Я бы тебе башку пр-роломила. Но я не бью слабых.
– И с чего же это я слабая? – Саша чуть шагнула вперед. Женины кулаки сжимались и разжимались, костяшки то белели, то наливались кровью – почему-то именно эти костяшки, едва различимые в полумраке, крепко отпечатались в Сашиной памяти.
– Потому что ты ничтожество. Только и можешь, что молчать и косячить. Ты слабая, безвольная дур-ра, котор-рая сгниет в этой пр-реисподней, потому что…
– Хватит! – Костя вырос перед ними, выставил ладони в стороны. – Нам идти а надо, а вы…
– Ну, почему же! Пускай она бьет, раз такая сильная и смелая, а не просто языком мелет, – выплюнула Саша в отчаянии. Вид запертой комнаты лишил ее молчаливого смирения.
– Да пошла ты! – Женя ринулась вперед, и если бы не Костя с подоспевшим на помощь Егором, Саша наверняка сцепились бы с ней на полу в безобразной драке. Юра молчаливо наблюдал за потасовкой, его усталое лицо ничего не выражало.
Но в тот миг, когда рвущаяся Женя шипела и клятвенно обещала разбить Сашину морду, та поняла вдруг, что…
Что Женино лицо очень похоже на ее собственное.
Она нечасто видела свое лицо таким – только в минуты крайнего отчаяния, разрушительной злобы, что будет гнить изнутри, если не дать ей выйти наружу. Помнится, мама даже водила Сашу к психологу, потому что вспышки Сашиной агрессии заражали всех вокруг, сбивали с ног приливной волной и волочили по каменистому дну…
– Саш, – Юра крепко стиснул ее плечи, встряхнул и наконец-то поймал затравленный взгляд. – Успокойся.
Костя вкрадчиво объяснял что-то Жене, но Саша ни слова не могла разобрать. Женино лицо наливалось кровью, темнело, по нему ходили желваки, но кулаки к тому моменту уже разжались.
Хороший знак.
– Посмотри на меня, – повторил Юра. Саша послушалась. – Что ты там увидела?..
– Загляни в комнату и сам…
– Нет. Что ты, – пауза, – там увидела?
– Я не могу, – одними губами пробормотала Саша, испытывая жгучее желание прижаться к нему, теплому и крепкому, обвить руками и застыть, спрятавшись от всего вокруг. По телу прошла судорога. – Там дети, господи… Мертвые дети.
Лицо Юры скривилось и отяжелело: казалось, он с трудом справился с чем-то, что грозило проступить в его чертах.
– Егор, – хрипло позвал он. – Помоги Саше. Я проверю.
Сашу усадили у стены, а взбешенная Женя, понимая, что подраться ей никто не даст, накинулась на Милу. Куртка на маленькой Валюшке оказалась расстегнута, и Женя, присев перед девочкой, завозилась с ее пуговицами, бормоча себе под нос такие слова, от которых даже Мила порозовела и принялась оправдываться:
– А смысл крепко застегивать? Все равно все насквозь мокрые…
Саша следила за Юрой. Коридор резкими чертами ударил по ее глазам: на стенах сливаются блики от фонариков, под потолком раскачивается лампочка на облезлом шнуре. С низких стен ощеривается слезающая кусками краска. Юра шагает медленно, будто оттягивает, будто не верит Саше, но все же немного опасается того, что притаилось за дверью.
Луч его фонаря бьет в комнату, и Саша прикрывает глаза здоровой рукой. Кажется, что эти мертвые дети сейчас вцепятся в Юру и утащат его внутрь, а бродяги заорут и бросятся по сторонам, как тараканы, и если хотя бы еще раз в жизни Саша столкнется с Женей, то та попросту вскроет ей горло, приговаривая:
– А я говор-рила, что ты всех погубишь, слабая, слабая, слабая…
Пока Юра светом фонаря обшаривает каждый закоулок, щеки его бледнеют, и Саша смотрит на это из-под полуприкрытых век. Сердце стучит так сильно, что кажется, будто это чьи-то шаги: вот-вот оно выйдет из-за угла, скрюченное и черное, изломанное, и Саша закричит, захлебываясь криком…
– Боже, – выдыхает Юра. – Сашка, ты и правда дура. Иди сюда.
Саша молчит. Она самой себе напоминает безжизненную куклу, марионетку с отрезанными нитями, она почти мертвая изнутри, и они скоро догадаются, что ее больше нет, оставят в пыльных коридорах…
Любопытная Мила заглядывает в проем, и лицо ее искажается, но это не похоже на смертельный ужас. Скорее на брезгливость.
– Иди сюда! – приказывает Юра и резко поднимает Сашу с пола. Она шагает за ним, ослабевшая, на ватных ногах, заглядывает в комнату, пока он светит фонарем. И сразу же отшатывается прочь.
– Спокойно, – уговаривает Юра, крепко берет ее за руку и они смотрят снова, но там больше нет никаких детей, никаких мертвых тел.
Только куклы.
Огромные голые куклы с багровыми бантами. Маленькие куколки с пухлыми нарисованными губками. Длинные манекены, навечно замершие в одной позе. У некоторых даже нет лиц – только бледный пустой овал.
Куклы. Не дети.
Не люди.
– Видишь? – Юра все еще крепко держит ее за руку, и Саша стискивает его ладонь. – Просто куклы. Ну, нормально же, чего ты…
Саша в молчании разглядывает каждую уродливую куклу, которой только касается луч фонаря. Мила переминается с ноги на ногу рядом, скрюченными пальцами держит Валюшку.
– Куклы-то куклы, но… Что с ними со всеми случилось?
– Да мало ли какие идиоты вокруг, – отвечает Юра и, притянув Сашу, аккуратно обнимает ее за плечи, стараясь не потревожить сломанную руку. Это именно то, что ей нужно – Юра теплый, почти горячий, и даже его влажная куртка, к которой прижимается ее щека, будто бы согревает. Саша мелко дышит, глотками пьет застоявшийся воздух, понимая, что никогда уже не забудет эту картину.
У всех кукол с лицами зашиты глаза. У кого-то пластмассовые веки перечеркнуты темной нитью, у кого-то затянуты паутиной из толстой бечевы, у кого-то и вовсе вырезаны ножом. Ни одной целой куклы не осталось.
И, что самое жуткое, кажется, будто куклы и правда закрыли глаза. Саша знает, что это невозможно – они пластиковые, их глаза нарисованные, веки нельзя стянуть ниткой, но…
Они сидят рядами, плечи плотно прижаты друг к другу. Они слепо смотрят на дверь, будто ждут одного-единственного, кто должен прийти и потянуть на себя серые доски. Они будто бы здесь только ради Саши.
И вообще, откуда столько кукол?..
– Какой псих притащил в канализацию детские игрушки? Да еще и изуродовал их… – спрашивает Мила, и голос ее, вроде бы беспечный, срывается на полуслове. Она щурится, словно бы ее глаза заслезились от тусклого света.
– Да какая разница, – говорит Юра, все еще глядя на белые силуэты манекенов. – Я… Я не знаю. Но все это неважно.
Тишина в ответ. Затхлый воздух пахнет плесенью.
– Я хочу куклу, – Валюшкин голос звенит, словно натянутая леска. Мила пятится назад:
– Зачем, солнышко? Ты посмотри, какие они страшные…
– Они не страшные, это им страшно. Мне их жалко.
В груди у Саши скребется писк, но она молчит, плотно сжав губы.
– Давай поищем других кукол, хорошо? – лепечет Мила.
– Нет! – Валюшка вскидывает упрямые глаза. – Я хочу вон ту. В углу.
– Какую?.. – шепчет Юра.
– Ой, ты же не думаешь! – вклинивается Женя.
– Вон ту, – талдычит Валя, указывая пальцем на большую куклу. – Она красивая. Но ей грустно.
В голове у Саши будто переключатель щелкает, и пустота разливается киселем вместо бессвязных мыслей. Эта кукла и вправду красивее всех – в кремовом платье с оборками, в лакированных туфельках… Кудри вьются жесткими пружинками, нарисованные губы поджаты и искривлены, будто бы кукла пытается не плакать.
Ее глаза неровно сшиты черной нитью. Огромные дыры в пластике, будто бы от шила, и черные тонкие стежки.
– Можно я ее возьму? – спрашивает Валюшка у Милы.
Но та в ответ лишь качает головой.
В тот же миг Костя захлопывает дверь перед их лицами и ругается так отчаянно, что все вокруг втягивают головы в плечи. Между бровями у Кости пролегает толстая складка – прямо как у Сашиного папы.
– Бараны, – резюмирует Костя. – Никаких кукол, все. Такими темпами мы до второго пришествия идти будем. Угомонитесь и пошли.
А Валя, широко распахнув рот, заходится криком.
* * *
Весна. Детство. Как же это было давно…
Саша просунула голову в пыльный полумрак, внутри которого сновали силуэты горбатых мужиков в комбинезонах. Справа от них визжала болгарка, разбрасывала в стороны золотые искры, пока работяги суетились и переругивались, пытаясь переорать друг друга.
– Всем привет! А папа где? – крикнула Саша во всю мочь легких.
Ее не услышали.
Она прошмыгнула в тесную каморку автомастерской, забитую двумя машинами: серебристой иномаркой и трухлявыми жигулями, из-под которых слышался отборный мат. Железно громыхали инструменты, воздух дрожал от бензиновых паров.
– Сашка! – окликнул кто-то, и она обернулась.
Это был дядь Вова, которого на самом деле звали Михаилом Матвеевичем, старинный папин друг. Почему тогда Вова? Никто не знал. Папа, пригубив водочки, обычно усмехался и повторял:
– Не, ну ты глянь на него! Типичный же Вовик…
Сейчас дядь Вова щурился, разглядывая низенькую Сашку. В зубах он пожевывал сплющенную сигарету:
– Чё шастаешь тут, а?
– Не бубни, дядь Вов. Где папа?
– На улице, у ворот. Гринписовец сраный…
Саша удивленно приподняла бровь.
– Эх, да ну вас, ненормальных, – махнул рукой дядь Вова и побрел в самый темный угол автомастерской.
Папа проработает здесь еще несколько месяцев, а потом уволится. Или его уволят, он никогда не уточнял это. Может, хозяин устанет от папиных пьянок, когда тот с похмелья даже ключ не сможет удержать в руках, кто знает. Дядь Вовы не станет через несколько лет – он умрет от рака поджелудочной, хоть и провел всю жизнь с вонючей сигаретой в зубах.
Жизнь тоже бывает ироничной.
Но пока Саша всего этого не знает.
Она прошмыгнула через мастерскую, споткнувшись о разложенные инструменты и выслушав много нового о своей скромной персоне. Нашла выход из прокуренного помещения на свежий воздух – настоящее блаженство.
Папа нашелся в полынных зарослях. Хмурясь, он прикладывал друг к другу доски, пытаясь сколотить их в добротный короб, шаря по земле рукой в поисках разбросанных гвоздей.
– Помочь? – спросила Саша, подходя к нему.
Папа просиял.
– Сашка, здорово! Ты чего не в школе?
– Погоду-то видел, старче? Разве можно учиться, когда на улице такая благодать?
– А мамка голову не оторвет? – прищурился он.
– Она не знает. И не узнает, – в Сашином голосе против воли скользнул слабый вопрос. Папа лишь кивнул и вернулся к своим доскам.
– Ты ей так и не звонил? – проронила Саша.
Папа сделал вид, что не расслышал.
День и вправду стоял погожий: солнце пригревает совсем по-весеннему, даже куртку можно скинуть с плеч и усесться на поваленное дерево, от которого отпилили макушку, чтобы дорогу не загораживала, да так и оставили валяться на обочине. По сторонам – ржавеющие гаражи, где-то вдалеке из колонок поет шансон, и папа едва слышно присвистывает, ища очередной гвоздь.
– Что, машины кончились, решил себе телегу сколотить? – насмешливо спросила Саша. Она не для того ехала в папину мастерскую через весь город, чтобы молчать.
– Почти. Она просто трусливая.
– Кто? Телега?..
– Нет. Сама скоро увидишь.
– А, загадки. Обожаю загадки. Ты бы лучше велосипед мне подклеил, раз работы мало.
– А кто тебе сказал, что ее мало?..
Из соседних кустов донесся то ли писк, то ли скрип.
– Вылазь, вылазь, – подбодрил папа. – Сашку бояться – себя не уважать.
– Пап!
Он расхохотался. Пару раз ударил молотком, сощурился, повертел короб перед носом. Саша внимательно следила за его руками – в детстве она обожала сидеть напротив, глядя, как папа перебирает двигатель или меняет какие-нибудь колодки. Дочурка ни черта не понимала в автомобилях, до сих пор не научилась даже отличать иномарки от отечественных (только знала жигули да оку), хоть и был у нее период увлечения игрушечными машинками. Только вот все равно ничего интереснее для Саши не было, чем папины творения.
– Может, вот так… – бубнил он себе под нос.
– Мишка уезжает, – сказала Саша.
Из гаражей лился чихающий рокот, гул и громкое ругательство, одно и то же, раз за разом. Визжала болгарка. И только над головой счастливо чирикали воробьи, пригретые солнцем, а у Сашиных ног пробивалась первая травка – чахлая и слабая, но уже зеленая.
– Мишка?.. – задумчиво переспросил папа. – Твой дружбан на века?
– Ты даже помнишь…
– Я вообще-то лучший родитель в мире.
– А мама не вспомнила.
– Вот поэтому я и лучший. Подожди… Мама же дружит с Мишкиной мамашкой? Мишкина мамашка… Как поэт прям сказал.
Саша с трудом улыбнулась:
– Мамашку его помнит, а Мишку нет. Говорит, мол, чего ты с мальчиками общаться начала. А мы с ним с началки дружим.
– Бывает, – видимо, папа не хотел обсуждать мамины заморочки. – Так куда он собрался, Мишка твой?
– Они в Анапу с родителями переезжают. Даже документы Мишкины из школы забрали. А я… Он обещает, что будет писать, звонить. Даже сказал, что может письма мне по почте отправлять, как средневековой барышне. Но все равно…
– Что? – папа снова застучал молотком.
– Он мой лучший друг, и он уезжает. Как я без него буду?..
– А можно еще чуть-чуть слезок в голос добавить? – с улыбкой спросил он.
– Ну пап! Я ж тебе душу открываю, а ты…
– А я давно тебе твержу, что жизнь – это не сахарная вата, – он отложил доски в сторону, сел на влажную, не прогревшуюся еще землю и достал сигареты. Лицо его, чумазое, поблескивало от пота. Ветерок донес до Саши слабый запах перегара, но она решила думать, что ей показалось. – Друзья уезжают. Папы уходят из семьи. И люди умирают, Сань… Жизнь такая, понимаешь? Если вы с Мишкой и правда такие потрясные друзья, отлично, будешь и дальше с ним общаться. Кто-нибудь у Мишки тут останется?
– Да. Бабушка и дед.
– Вот видишь. Значит, будут его в гости отправлять. Встретитесь тогда, погуляете. А в остальное время – комп. Вы же и так почти не ходите вместе, только сообщения строчите…
– Это другое, – слабо возразила Саша.
– Да неужели? – папа усмехнулся, чиркнул спичкой. – Не спеши горевать, дочура. Все с твоим Мишкой будет хорошо.
– А если мы будем общаться все меньше, меньше и меньше?..
– Ну, никуда уж не денешься. Дружба иногда разваливается, даже если тебе кажется, что это навсегда. Как же без расставаний?.. Не, в натуре я сегодня поэт. А ты посмотри, подумай, может, еще друзей себе подыщешь.
– Я не хочу других. Я хочу с Мишкой общаться.
– Так и общайся, кто вам не дает-то?
Полынь зашевелилась, заходила ходуном, и Саша подтянула к себе ноги. Папа с насмешкой глянул на нее. Кажется, даже музыка вдалеке чуть притихла. Кто там, за косматыми сухими ветками?..
Из зарослей высунулась умная собачья морда: уши торчком, черные блестящие глаза, шерсть клочьями. Собака пригнулась к земле и завертела хвостом, показывая, что хочет подружиться. Здоровенная, махина, но добродушная…
– Вот, еще и Шлакоблока можешь в друзья взять, если по Мишке скучать сильно будешь.
– Кого-о?!
– Шлакоблока, – повторил папа и зарделся, схватившись за доски. – Лучше не спрашивай. Привезли его в гаражи и выкинули, а он старый уже. Куда ему?
– Но Шлакоблоком называть – это вообще, – Саша поманила к себе собаку. – Ну, идем. Идем…
Он опасливо приблизился, заглядывая в глаза и поджимая уши. Скользнул к ее руке, подставляя макушку под ладонь, зажмурился от удовольствия. Весело тявкнул и, привстав, положил чумазые лапы на Сашины коленки. Она засмеялась, потрепала Шлакоблока за ушами.
– Ты для него стараешься, да? – спросила тихонько.
– Ага. Будку делаю. Поможешь?
– Еще бы.
– Тогда идите сюда. Только умоляю, не прибей себе палец молотком. Твоя маманя нас двоих закопает…
– Не бубни, – Саша еще раз потрепала пса по голове.
На душе у нее немного потеплело.
* * *
– С папой всегда можно говорить о чем угодно, – Саша неловко улыбнулась, почувствовав, как приоткрывает перед ними, бродягами, свою душу. Понимающие взгляды помогали ей говорить. – Если я не успею… Мама никогда не даст денег на поезд. Я хочу устроиться на подработку, но везде копейки платят… Надо будет копить, и очень долго копить. Может, папа вообще уже вернется к тому времени.
– А он хочет вернуться? – Саша не расслышала, кто задал этот вопрос. Да ей это было и неважно. Бледные лица бродяг тонули в полумраке.
Она подумала недолго:
– Нет. Нет, он точно не захочет возвращаться. После развода папа ушел с работы, устраивался в разные конторы и сервисы, даже доставщиком еды подрабатывал. Ему здесь тяжело… Честно говоря, мне кажется, что только я и держу его в городе. Если бы и меня не было, он бы точно уехал на север. Там хоть платят больше.
Юра хмыкнул.
Все закивали, сосредоточенно пережевывая рыбу. Сегодня это была пара банок сайры в томатном соусе – лица бродяг выпачкались ярко-алым, и Саше порой чудились кровавые сгустки в уголках их губ.
Егор пристально вглядывался в ее лицо, когда думал, что она этого не замечает. Он снова сидел в уголу, почти неразличимый во мраке, и торопливо зачерпывал еду из алюминиевой чашки.
– Воды у нас мало, – буркнул Костя, когда Саша примолкла, собираясь с духом. – Пейте понемногу. Где еще накипятить получится…
– Да поняли мы, поняли… А что мама? – вклинилась Мила, и Саше подумалось, что только она одна и смогла бы задать этот вопрос.
– С матерью тяжелее. Она думает, что я ее собственность. И делать я должна только то, что она говорит. Тоталитаризм какой-то… – трудное слово завязло в зубах.
– Может, это просто любовь у нее такая?
– Нет. Раньше она себя так не вела. Теперь ей нужны точные данные, прямо сводки: где, когда и с кем. Если я звоню ей реже, чем раз в пару часов, она закатывает истерику. Она… Ей так проще мной манипулировать.
– А ты?
– А я думаю, что ей нравится играть с чужой жизнью. Я будто бы очередная вещь в ее квартире. Мама не понимает, что у меня могут быть свои интересы, тайны, свои… В общем, внешне у нас все нормально, но я не люблю с ней общаться.
– Понятно… Ты говорила, что она раньше такой не была. А из-за чего изменилась?
– Я… – Саша наморщила лоб и провела ладонью перед глазами, будто пытаясь снять паутину. – Я не помню, почему она… и когда…
– Вот, – Юра сунул ей бутылку с водой. – Попей хоть немного, раз есть не хочешь.
Саша механически кивнула и взяла бутылку под неодобрительным Жениным взглядом. В горле поселился тинистый привкус.
– Больше ешьте и меньше болтайте, – посоветовал Юра, уплетая жирную рыбу. Белые кости, торчащие из тушек, казались Саше омерзительными.
Бродяги оставили включенным один фонарик, и теперь только он освещал тесную комнату, в которую они едва протиснулись наперевес с тяжелыми рюкзаками. Кажется, эту комнату давным-давно превратили в склад: у стен громоздились сломанные стулья, трухлявая мебель и истлевшие паласы. Саша даже заметила темно-коричневые часы в углу – такие же, как у бабушки в квартире, что вечно висели на настенном ковре над диваном.
Все вокруг было присыпано пылью, и от каждого шага на бетоне оставались темные следы, словно по лунной поверхности впервые прошли астронавты в блестящих костюмах.
Разогнав мусор по углам, бродяги уселись в круг, по-турецки скрестили ноги. Помянули залитую водой керосинку, брошенную в одном из коридоров, зябко поежились в спертом воздухе.
Бродяги скребли ложками по тарелкам, чавкали, утирали испачканные губы. Женя делала вид, что в упор не видит сидящую напротив Сашу, а маленькая Валюшка жадно кусала рыбий хвост, то и дело повторяя:
– Еще! – и Мила, разломав вымазанную в томате тушку, протягивала девочке очередной кусочек.
Саша отводила от них глаза.
Бродяги привалили к двери платяной шкаф с единственной уцелевшей дверцей, и первобытный страх чуть отступил, сменившись усталостью. Казалось, что она пленкой обволокла сгорбленные фигуры.
Саша тоже только сейчас поняла, как тяжело ей было пробираться по тоннелям: сломанную руку тянуло, в мышцах поселилась каменная тяжесть, а глаза слипались все сильней. Слишком много впечатлений для одного дня. И комната с изуродованными куклами, и ревущий поток, будто из нефти, и бесконечный спуск в преисподнюю… Вот бы подремать хоть немного, расслабиться на миг, почувствовать, что не надо напружиниваться, не надо бежать.
Бродяги то и дело застывали, вслушиваясь в шорохи из коридора – руки коченели в воздухе, глаза заволакивало мутной пленкой, и тишина становилась невыносимой. Саша прислушивалась вместе со всеми, но там, за дверьми, все было спокойно.
Чем дальше они уходили от гнезда, затопленного теплым светом керосинки, тем неуютнее становилось в катакомбах, тем крепче Мила держалась за Валю, тем серьезнее становился неунывающий Костик.
Даже в закрытой комнате бродяги не могли забыть про опасности.
Саша все время вспоминала Юрины объятия. Она порой задерживала на нем взгляд, рассматривала сжатые в бледную полоску губы, темные глаза с хитринкой, растрепанные волосы. Когда Юра обнял ее, Саше на миг почудилось, что теперь все в порядке. Она нашла выход, обрела спокойствие. Да, спокойствие – вот чем он был на самом деле.
Юра поймал ее пристальный взгляд и прищурился. Саша смутилась.
– А вы? – спросила она, расковыривая пальцем дыру на покрывале, что сползло с перекошенного стола. – Я о себе говорю, а вы ничего не рассказываете. Неужели все сбежали из дома?
– Почему же, – Женя упрямо делала вид, что отвечает стене или шкафу, подпиравшему дверь, но Саша была рада и такому ответу. – Меня пр-росто вышвыр-рнули.
– И ты не пыталась вернуться?
Молчание. Женя, сгорбившись, смотрела в одну точку, и глаза ее промерзали изнутри.
– Жень, – толкнул ее Костя, облизывая грязные пальцы. – Ты домой пыталась вернуться?..
– Пыталась. Но дома у меня теперь нет, – она усмехнулась, но улыбка вышла жалкой и уродливой, а поэтому мигом стекла с губ. – Тепер-рь я живу здесь. И это не самый худший вар-риант.
Бродяги очищали тарелки, слизывали с них томатный соус. Саша раздирала пальцами трухлявое покрывало.
– У меня тоже наверху было не очень, – признался Костя, вытирая руки. – Мне иногда казалось, что тот мир вообще не для меня. Даже вспоминать не хочется. А тут, в подземельях, здорово. Мы сами решаем, что делать, боремся и выживаем… У меня есть семья. Есть ответственность за нее. Для меня это главное.
– А что именно? Что – главное?
– Мне кажется, это сложно объяснить… Просто тут надо каждый день просыпаться и делать все, чтобы никто не погиб. Да, тут не хватает воды, света, еды, даже простого теплого воздуха. Но тут жизнь острая. И интересная. Я бы ни на что ее не променял.
– А можно было как-то не так пафосно об этом рассказывать? – с улыбкой спросила Мила, и Костик махнул рукой.
– А я бы с удовольствием выбрался на волю, – мечтательно сказал Юра. – Надоело мне это место до чертиков. Кажется, что тысячу лет… Темно. Холодно. Грязно. Хочется погреться хоть немного…
– Так пошли со мной, – предложила Саша и сама поразилась этой смелости, сорвавшейся с губ. – Вернуться всегда успеешь…
Он глянул на нее со странным выражением лица – безысходность, замешанная на каком-то чужом, неясном чувстве. На горькой усмешке?.. Глаза потемнели еще сильнее, стали матовыми, без единого проблеска. Юра покачал головой.
– Может быть, потом. Когда-нибудь…
Их разговор прервала Валюшка, на чьих щеках расцветали алые пятна (Мила пыталась оттереть их засаленной тряпкой, но жирный томатный соус оказался сильнее). Девочка потянула Сашу за рукав, и та кивнула ей:
– Что такое?..
– Цветочек, – напомнила Валя с таким выражением, будто у Саши совсем не было мозгов.
– Какой еще цветочек?
– Синий. Как у динозавров… – Валино лицо мрачнело на глазах. Радостное предвкушение понемногу сменялось капризной гримасой.
Саша чуть приподняла сломанную руку, что висела на перевязи, но Валя не поняла намека:
– Цветочек! Нарисуй мне цветочек…
– Валька, не пищи, – поморщилась Женя, которая, крутя вспоротую жестяную банку, пыталась вылизать остатки рыбы. Толстый язык ловко скользил по зазубринам.
– Не ругай ее, – попросила Мила. – Она маленькая, и…
– Да мне пофигу, – не стала кривить душой Женя. – Пусть заткнется. И ты вместе с ней. Надо же, гусыня-наседка…
– Хватит, а, – даже молчаливая Саша не выдержала. Егор настороженно наблюдал за ними, сжимая ложку в кулаке так, будто готовился к кровопролитной битве. Юра с Костей делали вид, что поглощены облизыванием тарелок – чистой воды поблизости нет, а это значит, что мыть посуду придется по-собачьи.
– Заткнись, – Женя поморщилась. – Или здесь и останешься.
– Это мы еще посмотрим, – ответила Саша. – Хватит огрызаться на ребенка. Ты же вся такая сильная и крутая…
– Да ладно тебе, мы уже привыкли, – мягко вклинилась Мила, но ее даже не услышали.
– Хочешь – ори на меня, – продолжила Саша. – Ударь, обматери, шипи, как гадюка… Но не надо срываться на Вале.
Сашины щеки пылали, казалось, что у нее резко подскочила температура, а колкость рассыпалась под кожей мелким бисером. Женя открыла, было, рот, но их снова оборвал Костя:
– Ша! Хватит. Жень, собирай тарелки. Надо выдвигаться.
– Да пошли вы…
– Женя!
Она замокла, пыхтя, словно внутри нее булькал кипяток. Женя ни на кого не смотрела, а Саша, вглядываясь в ее коротко остриженный затылок, все думала о том, почему же она прибилась к ним, почему остается, если ненависть ко всему вокруг прожигает ее насквозь.
Валя устала дергать Сашу за рукав и поэтому, нахмурив светлые брови, сильно ущипнула за предплечье. Саша дернулась:
– Валь, ты чего?!
– Цветочек! – потребовала девочка.
– Смотри, у меня ведь рука сломана. Как же я буду рисовать?..
– Пр-равой, тупица, – не выдержала Женя, но от дальнейших комментариев благоразумно отказалась.
– Да и потом: на чем мы будем рисовать? – продолжала Саша, окаменев спиной. – И чем? У нас с тобой нет ни альбома, ни ручек… Давай потом, а? Я привезу тебе самые лучшие фломастеры!
Валя, нахмурившись, отвернулась. Саша осторожно погладила ее по голове, но Валя дернулась, не желая этого прикосновения.
Тарелки засунули в рюкзаки, банки из-под рыбной консервы оставили на ближайшем пыльном столе. Все же решили еще немного передохнуть – самую малость, всего десять минуточек. Костя бурчал, но спорить не стал – ему тоже надоело бесконечно брести по одинаковым тоннелям, а поэтому он уселся на пол и вытянул гудящие ноги.
Валя, мелькающая то тут, то там в рваных всполохах света, не сдавалась. Саша, прикрыв воспаленные веки и раздумывая, как же она вдруг оказалась в этом сумасшедшем мире, искоса поглядывала на девочку.
Бродяги удивительно быстро стали для Саши почти родными. Может, так действовал извечный страх, скопившийся в крови ядовитым газом, может, пустые тоннели, где одиночество было хуже смерти, хуже химеры. Но Саша уже успела полюбить их, чумазых и бледных, вылизывающих консервные банки и лениво переругивающихся, хоть встретились они всего лишь вчера.
Вчера… А кажется, что с момента ее падения в колодец прошли годы.
Но, какую бы теплоту Саша к ним не испытывала, ей все же хотелось поскорее попасть домой. Может, она будет приезжать к бродягам, привозить им продукты, купленные на первую жалкую зарплату, качать Валюшку на руках…
Но дома ждет папа. Прижаться бы сейчас, словно маленькой, к его заросшей щеке, почувствовать горечь бензина и машинного масла, что въелась в темные волосы. Проводить папу в дорогу.
А потом набрать полную ванну горячей воды (с лавандовой пеной), выкупаться и проспать несколько дней в чистой и мягкой постели…
Валя, крутившаяся возле Милы и выпрашивающая что-то едва слышно, появилась словно бы из воздуха – улыбнулась во все зубы и протянула Саше серый лист:
– Цветочек!
Ее голос был переполнен надеждой.
– Фломастеров нет, – извинилась Мила, зашнуровывая рюкзак. – Только карандаши. Они мокрые, но…
– Там еще листы есть, – лениво добавил Юра, что полулежал с закрытыми глазами. – Вон там, под часами. Какие-то чертежи, даже книги со схемами… Если что, я подам.
– Спасибо… – Саша не знала, почему, но внутри нее вдруг поселилась дрожь, словно слабое покачивание стебля под теплым ветром. Трепет, восторг… Робкое проклюнувшееся чувство.
Валя, устав ждать, тряхнула размокшей пачкой карандашей.
– Хорошо. Ну, давай попробуем…
Мила включила еще один фонарик и закрепила его так, чтобы чахлый луч бил в потолок, затапливая комнату молочным светом. Саша, отыскивая хоть немного свободного места, уползла почти что под стол, скрючилась там, сидя на коленях, и разгладила чистый лист.
Синего карандаша в коробке не было.
Валя подползла сбоку, прижалась к раскачивающимся ножкам стола и требовательно глянула на Сашу. Чего, мол, сидишь. Рисуй.
Кивнув, Саша взяла красный карандаш и принялась за цветочек. Он прорисовывался по-настоящему ужасным – кривой, с дрожащими линиями и заломами, самый жуткий цветок на свете. Левая рука, висящая на груди, вновь напомнила о себе от неудобной позы, но Саша, стиснув зубы, рисовала.
– Нет! – Валя потянула красный карандаш на себя. – Синий цветочек.
– Маленькая, ну нет синего карандаша… – Саша виновато отвела глаза. – Зато есть зеленый, желтый, красный…
Интересно, можно ли смешать штриховку двух других цветов, чтобы получился синий?
– Нет! Я хочу только синий, – Валя захныкала. Еще минута – и она зарыдает, лицо ее побагровеет от натуги, а успокаивать девочку придется всем вместе. Женя ведь уже недовольна из-за детских криков, и если новая истерика начнется из-за какого-то несчастного цветка, то не сносить Саше головы…
– На! – Женя чем-то ткнула Валю в бок. – Не ной только.
В слабом свете Саша едва разглядела ручку – обыкновенную синюю ручку из прозрачного пластика, внутри которой все еще дрожали капельки воды. Валя засияла и мигом принялась черкать ручкой по серому листу.





