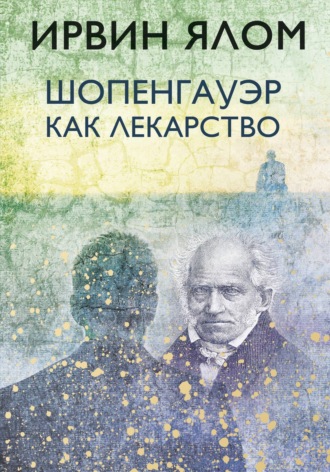
Ирвин Дэвид Ялом
Шопенгауэр как лекарство
Глава 10
Самая счастливая пора в жизни Артура
Именно потому что роковая активность половой системы все еще дремлет, а мозг уже работает в полную силу, детство – это высший период невинности и счастья, Эдем, потерянный рай, на который мы с тоской оглядываемся всю свою жизнь[22].
Когда Артуру исполнилось девять, отец пришел к выводу, что настало время заняться образованием сына. Для начала Генрих решил отправить Артура на два года в Гавр, в дом своего компаньона Грегуара де Блеземира, где мальчику предстояло обучаться французскому, светским манерам и, как выразился Генрих, «поднатореть в книжной науке».
В разлуке с родителями, вдали от родного дома – какой ребенок не воспринял бы это изгнание как настоящую трагедию? И тем не менее впоследствии Артур всегда будет называть эти годы «самой счастливой порой моего детства».
Что-то важное случилось в Гавре – возможно, Артур впервые ощутил на себе чье-то искреннее внимание и заботу и понял, что жизнь бывает радостна. Он всегда будет с нежностью вспоминать добрых и хлебосольных Блеземиров, среди которых наконец-то обрел нечто похожее на родительскую любовь. В письмах домой он станет так восторженно восхвалять своих любезных хозяев, что мать будет вынуждена напомнить ему о добродетелях и щедрости его собственного отца: «Вспомни, – напишет она ему, – как батюшка позволил тебе купить флейту слоновой кости за один луидор»[23].
И еще одно важное событие произойдет во время недолгого пребывания Артура в Гавре – у него появится друг, один из немногочисленных близких людей в его жизни: Антим, сын Блеземиров, был ровесником Артура. В Гавре мальчики подружились и, после того как Артур вернулся в Гамбург, еще некоторое время обменивались письмами.
Через несколько лет, когда обоим исполнится двадцать, молодые люди встретятся вновь и даже будут некоторое время вместе искать любовных приключений, затем их пути и интересы разойдутся: Антим станет коммерсантом и исчезнет из поля зрения Артура до тех пор, пока, тридцатью годами позже, между ними вновь не завяжется краткая переписка, в которой Артур станет просить у друга совета по финансовым вопросам. Когда же Антим ответит, что в качестве платы за свою услугу он хотел бы получить право распоряжаться всеми бумагами Артура, тот немедленно оборвет переписку – к тому времени он уже станет с подозрением относиться к людям и не будет доверять никому. Артур гневно отшвырнет письмо Антима, черкнув на обратной стороне конверта презрительный афоризм Грасиана, испанского философа, особенно почитаемого его отцом: «Стоит только войти в дела другого, чтобы забыть о своих».
Еще десятью годами позже Артур и Антим встретятся в последний раз – это будет крайне неловкая встреча, в продолжение которой друзьям почти нечего будет сказать. После этой встречи Артур сделает запись в дневнике, где назовет своего бывшего друга «несносным старикашкой» и добавит: «Если два друга юности после разлуки всей жизни снова встречаются стариками, то преобладающим чувством, которое возникает в них при виде друг друга и при воспоминании о юности, является полнейшее disappointment (разочарование) во всей жизни»[24].
И еще один инцидент произойдет, пока он будет в Гавре: Артур впервые столкнется со смертью. Умрет его гамбургский товарищ по играм Готтфрид Яниш, и хотя Артур никак не проявит своих чувств и даже скажет, что с тех пор никогда не вспоминал Готтфрида, он, судя по всему, так и не сможет забыть ни своего ушедшего товарища, ни того потрясения, которое он испытал от первого свидания со смертью, потому что тридцатью годами позже он запишет в дневнике такой сон: «Я оказался в какой-то незнакомой мне местности, в поле передо мной стояла группа каких-то людей и среди них худой, высокий мужчина, который, не знаю почему, был знаком мне как Готтфрид Яниш, и он приветствовал меня»[25].
Для Артура не представляло большого труда растолковать это сновидение: он жил в Берлине, где в то время свирепствовала холера. Сон, в котором он вновь встречает Готтфрида, мог означать только одно – то был знак приближающейся смерти. Поэтому он решил немедленно покинуть Берлин и переселиться во Франкфурт-на-Майне. Здесь, во Франкфурте, он и проведет последние тридцать лет жизни – главным образом потому, что будет считать этот город более всего защищенным от холеры.
Глава 11
Первое занятие Филипа
Наслаждаться настоящим и обратить это в цель своей жизни – величайшая мудрость, так как оно одно реально, все же остальное – только игра воображения. Но с одинаковым успехом можно было бы назвать это и величайшей глупостью; ибо то, чего уже больше нет в следующее мгновение, что исчезает, подобно сну, недостойно серьезного стремления[26].
Филип прибыл на свое первое занятие за пятнадцать минут до начала. В тех же брюках цвета хаки, помятой выцветшей рубашке в клетку и вельветовом пиджаке. В который раз подивившись равнодушию, с которым этот человек относился к себе, к вещам, к студентам – по-видимому, ко всему вообще, – Джулиус засомневался, правильно ли сделал, пригласив Филипа в группу. Что это было? Взвешенное профессиональное решение или старый приятель гонор снова зашевелился внутри?
Гонор. Дерзкая, нахальная бравада, бесцеремонная наглость, лучшей иллюстрацией которой могла служить история с тем парнем, который сначала зверски убил родителей, а потом умолял на суде помиловать несчастного сироту. Гонор – первое, что приходило Джулиусу на ум, когда он задумывался о собственном отношении к жизни. Скорее всего он носил его в себе с рождения, но впервые осознал в пятнадцать лет, в ту осень, когда переехал с родителями из Бронкса в Вашингтон. Это произошло вскоре после того, как его отца постигла очередная финансовая неудача. Они поселились на северо-западе Вашингтона в маленьком домике с террасой на Фаррагут-стрит. Загадка финансовых затруднений главы семейства хранилась за семью печатями, однако Джулиус был втайне убежден, что она имела какое-то отношение к ипподрому «Акведук» и к Красотке, лошади, которой отец владел вместе с Виком Вичелло, своим закадычным приятелем и давним партнером по покеру. Вик был скользкий тип. Он носил розовый платок в кармане желтой спортивной куртки и всегда тщательно избегал появляться в доме, если там была его мать.
В Вашингтоне отец устроился директором винного магазина. Владельцем магазина был его двоюродный брат, в самом расцвете сил выбитый из седла сердечной недостаточностью, этим злейшим врагом человечества, покалечившим или сведшим в могилу целое поколение сорокапятилетних ашкеназских евреев, вскормленных на сметане и жирной грудинке. Отец терпеть не мог свою новую работу, но она позволяла им держаться на плаву. Она не только приносила неплохие деньги, но и не подпускала отца к «Лаурелю» и «Пимлико», двум местным ипподромам.
В свой первый день в школе Рузвельта в сентябре 1955-го Джулиус принял судьбоносное решение: он начинает жизнь заново. В Вашингтоне его никто не знал, он был чист, как ангел, не запятнан мрачным прошлым. Три года, проведенные в прежней школе 1126 в Бронксе, не оставляли ни малейшего повода для гордости. Страсть к азартным играм перевешивала все, чем могла привлечь школа, так что Джулиус днями напролет болтался в боулинг-клубе, ставя на себя или на своего дружка Марти Геллера, короля по броскам левой. Кроме этого, он помаленьку промышлял букмекерскими операциями, предлагая всем желающим ставить десять против одного на трех бейсбольных игроков, которые в любой назначенный день проведут между собой шесть ударов. Это был беспроигрышный ход: на кого бы ни ставили несчастные агнцы – на Мэнтла, Кэлайна, Аарона, Вернона или Стэна (Супермена) Мьюжала, – им почти никогда не удавалось выиграть, если, конечно, не считать мелких неудач, которые тоже время от времени случались. Джулиус водил компанию с такими же бездельниками, как и он сам, и тщательно поддерживал образ несгибаемого уличного бойца, чтобы держать в страхе тех, кто вздумал бы водить его за нос; в школе был нарочито немногословен, сохранял невозмутимый вид и не упускал случая «забить» на урок-другой ради того, чтобы лишний раз полюбоваться тем, как Мэнтл держит центр на стадионе «Янки».
Все изменилось в тот день, когда директор школы вызвал его с родителями к себе в кабинет и предъявил всем троим букмекерский гроссбух, в тщетных поисках которого Джулиус провел несколько дней. И хотя постигшая кара была сурова – никаких прогулок по вечерам два месяца вплоть до окончания школы, никаких боулинг-клубов, стадионов, игр и карманных денег, – от Джулиуса не укрылось, что отец только делал вид, будто сердится, а на самом деле был, по-видимому, в совершенном восторге от его схемы с тремя игроками и шестью ударами. Как бы там ни было, Джулиус уважал директора школы и потому, так внезапно лишившись его расположения, не мог не почувствовать, что настало время для кардинальных перемен. К сожалению, было уже слишком поздно – ему удалось подтянуться разве что до слабого хорошиста. О новых друзьях не приходилось и мечтать: образ отчаянного головореза, над которым он так долго и тщательно трудился, мешал всем разглядеть в нем того нового Джулиуса, которым он решил сделаться.
Этот случай запомнился Джулиусу на всю жизнь; позже он всегда обращал особое внимание на феномен «устойчивого образа». Сколько раз он замечал, что окружающие не замечают глубоких перемен, произошедших в человеке, и продолжают относиться к нему так, будто ничего не случилось. То же самое происходит и в семьях. Многие пациенты признавалась ему, что испытывают адские муки, навещая родителей: они рассказывали, что им постоянно приходится быть настороже, чтобы их не втянули в их прежнюю роль, и тратить невероятные усилия, чтобы убедить домашних, что они стали совсем другими.
Для Джулиуса эксперимент по созданию нового «я» начался с переездом в Вашингтон. Стояло бабье лето, был восхитительный сентябрьский денек, когда он, шурша опавшими кленовыми листьями, в первый раз брел в школу Рузвельта, ломая голову над стратегией, которую стоит выбрать. Но когда перед входом в класс он увидел расклеенные на стенах плакаты с предвыборными лозунгами кандидатов на должность председателя класса, его осенило, и еще до того, как узнать местоположение мальчишеского туалета, он вписал свое имя в списки кандидатов.
Выборы старосты были процедурой многотрудной – пробиться в фавориты было немногим легче, чем победить на муниципальных выборах. Джулиус ровным счетом ничего не знал о школе и даже не успел познакомиться ни с одним из своих одноклассников. Стал бы прежний Джулиус баллотироваться в председатели класса? Черта с два. Но в этом все и дело. Именно поэтому он и решился на такой шаг. Да и если рассудить, чем он рисковал? Имя Джулиуса Хертцфельда будет у всех на слуху, и всем придется признать в нем силу, потенциального лидера, человека, с которым приходится считаться. К тому же он обожал действовать.
Конечно, соперники поднимут его на смех, будут отмахиваться от него, как от назойливой мухи, показывать пальцем – дескать, он никому не известный выскочка. Джулиус предвидел эти нападки и заранее приготовил внушительную речь про убедительные преимущества свежего взгляда, способного высветить пороки, незаметные развращенному глазу тех, кто слишком долго стоял у кормушки власти. Слава богу, язык у него всегда был хорошо подвешен, да и опыт с уламыванием простачков в боулинг-клубе тоже что-то значил. Новому Джулиусу было нечего терять, и поэтому он принялся бесстрашно переходить от одной кучки школяров к другой, говоря: «Привет. Я Джулиус, новенький, надеюсь, что вы проголосуете за меня на выборах. Я, конечно, ни черта не смыслю в вашей кухне, но, вы знаете, полезно бывает взглянуть со стороны. К тому же я абсолютно независим – не принадлежу ни к одной группировке, потому что никого не знаю».
Закончилось тем, что Джулиус не только изрядно развлекся, но и умудрился чуть не выиграть выборы. Школа Рузвельта переживала не лучшие времена: после восемнадцати футбольных проигрышей подряд, с баскетбольной командой, тоже не внушавшей особых надежд, школа была полностью деморализована. Два других кандидата занимали шаткую позицию: Кэтрин Шу-манн, тихоня-отличница, дочь коротышки-священника, читавшего проповеди перед общешкольными собраниями, была фигурой слишком положительной и не пользовалась особой популярностью, а Ричард Хейшман, рыжий красавец с бычьей шеей, имел слишком много врагов. Джулиус вознесся на гребне протестной волны. Вдобавок, к своему удивлению, он встретил единодушную поддержку со стороны еврейской части избирателей, составлявшей треть учеников в классе и до тех пор сторонившейся большой политики. Они возлюбили его той восторженной любовью, какую питают робкие и нерешительные маменькины сынки к бесстрашному и героическому еврею из Нью-Йорка.
Эти выборы стали поворотным моментом в жизни Джулиуса. Его так окрылил успех от собственной наглости, что он решил торжественно заложить это качество в фундамент своего будущего характера. Через некоторое время уже три школьных еврейских клана боролись за него, он был единодушно признан не только отчаянным смельчаком, но и обладателем того волнующего и неуловимого дара, который превыше всего ценит непокорная, мятежная юность, – индивидуальности. Вскоре он уже входил в столовую, окруженный толпой поклонников, и после школы появлялся на улице за ручку с красавицей Мириам Кэй, редактором школьной газеты и единственной ученицей, оказавшейся способной настолько затмить собой Кэтрин Шуманн, что ей даже поручили выступить с речью на выпускном вечере. Он и Мириам стали неразлучны. Она ввела его в мир искусства и научила ценить красоту, а он, как ни бился, не смог разъяснить ей высокую драму боулинга и бейсбола.
Да, гонор далеко его завел. Он культивировал гонор, гордился им и позже всегда расплывался в довольной улыбке, если кто-то называл его редким оригиналом, врачом, не боящимся браться за самые безнадежные случаи. Но гонор имел и темную сторону – уверенность в собственной непогрешимости. Сколько раз он взваливал на себя больше, чем мог унести, сколько раз требовал от клиентов невозможного и упорно, несмотря ни на что, продолжал следовать однажды выбранному курсу, заканчивая, в конце концов, оглушительным провалом.
Так что же все-таки заставило его надеяться, что он может перевоспитать Филипа, – искреннее желание помочь или все то же болезненное упрямство, глупая мальчишеская самонадеянность? Он не знал. Провожая Филипа в комнату для групповых занятий, Джулиус вгляделся в него внимательнее: гладко зачесанные рыжеватые волосы, туго натянутая на скулах кожа, настороженный взгляд, тяжелые шаги – Филип выглядел как осужденный, которого ведут на эшафот.
Джулиусу стало жаль его, и, стараясь говорить как можно мягче, он произнес:
– Знаешь, Филип, групповая терапия – вещь бесконечно сложная, но одно в ней можно предсказать с абсолютной точностью… – Если Джулиус ожидал, что собеседник заинтересуется, его ждало разочарование: Филип не проронил ни слова. Сделав вид, что не заметил, Джулиус продолжил так, будто Филип уже осведомился, что же это такое в групповой терапии «можно предсказать с абсолютной точностью»: – И оно состоит в том, что на первом занятии новичок всегда чувствует себя совсем не так неловко, как ожидал вначале.
– Я не чувствую никакой неловкости.
– Ну, что ж, тогда просто прими к сведению – на всякий случай.
Филип остановился перед дверью в кабинет, где они беседовали несколько дней назад, но Джулиус тронул его за локоть и подтолкнул к следующей двери. Они вошли в комнату: с трех сторон от пола до потолка тянулись книжные полки; широкое окно в деревянной раме смотрело на японский садик с изящными карликовыми соснами, каменными горками и узким прудиком восьми футов в длину, в котором плавно скользил золотистый карп. Комната была обставлена просто, по-деловому: прямо за дверью – небольшой стол, семь удобных плетеных кресел, расставленных по кругу, и еще два в углу.
– Ну, вот мы и пришли. Это моя библиотека и комната для групповых занятий. Пока мы ждем остальных, позволь вкратце рассказать правила. По понедельникам за десять минут до начала я открываю дверь, и каждый сам проходит сюда. Я прихожу в половине пятого, и мы сразу же начинаем. Заканчиваем в шесть. Чтобы облегчить мою бухгалтерию, все платят сразу после сеанса – просто оставляешь чек на столе у двери. Вопросы?
Филип покачал головой и, потянув носом воздух, обвел глазами комнату. Оглядевшись, он решительно направился к полкам и, приставив нос к кожаным корешкам, снова принюхался, всем своим видом изображая крайнее наслаждение. Оставшееся время он провел там, стоя спиной к дверям и сосредоточенно изучая содержимое полок.
Комната постепенно наполнялась людьми. Входя, каждый бросал взгляд на спину Филипа. Но Филип ни разу не повернулся, даже не шелохнулся, увлекшись библиотекой.
За тридцать пять лет работы с группами Джулиус навидался всякого. В подобных случаях дело, как правило, обстоит так: новичок, терзаемый сомнениями, пересекает порог и робко представляется членам группы, которые в ответ приветствуют неофита и называют себя. Правда, бывает и так, что молодая группа, наивно полагая, что польза от занятий прямо пропорциональна вниманию, уделяемому каждому члену группы, вначале протестует против появления новичка, но старая, сложившаяся группа никогда не впадает в подобное заблуждение: она понимает, что еще одно занятое кресло не снижает, а лишь повышает эффективность занятий.
Бывает, новички с ходу вступают в дискуссию, однако чаще всего в первый день больше молчат, предпочитая присмотреться к правилам игры и дожидаясь, когда кто-нибудь пригласит их принять участие в разговоре. Но новичок, который даже не считает нужным повернуться к группе? Такого Джулиус еще не видел – даже в психлечебнице.
Да, он явно просчитался, пригласив Филипа. Мало того, что сегодня он должен объявить о своей болезни, так теперь еще и это.
Да что с Филипом такое, в конце концов? Может, он слишком волнуется или стесняется? Нет, это на него не похоже. Скорее всего другое: это была моя идея втянуть его в эту игру, и теперь он пытается показать мне и всей группе, что плевать хотел на меня и на наши занятия. Черт возьми, подумал Джулиус, с каким удовольствием я бы просто плюнул. Ничего бы не делал. Пусть выкручивается, как хочет. Посмотрим, как он станет отбиваться от всей группы. А он очень скоро этого дождется.
Джулиус был не большой любитель анекдотов, но в этот момент ему вспомнилась одна история, услышанная как-то очень давно:
«Однажды утром сын говорит матери:
– Сегодня я не хочу идти в школу.
– Почему?
– По двум причинам: я ненавижу учеников, и они ненавидят меня.
– Есть две причины, по которым ты обязан пойти в школу: во-первых, тебе сорок пять лет, и, во-вторых, ты директор школы».
Да, он уже вырос. Он руководит этой группой, и его обязанность – вводить новых членов, защищать их от остальных и от самих себя. И хотя Джулиус редко открывал встречи, предпочитая, чтобы клиенты сами брали на себя эту обязанность, на этот раз у него не было выбора:
– Половина пятого, пора начинать. Филип, почему бы тебе не присесть к нам? – Филип повернул голову, но даже не двинулся с места. Он что, оглох? Косит под дурачка? Только после того как Джулиус, энергично вращая глазами, показал ему на свободное кресло, Филип наконец уселся.
Обращаясь к Филипу, Джулиус сказал:
– Вот это наша группа. Сегодня с нами не будет одного человека, Пэм – она уехала на два месяца. – И затем, повернувшись к группе: – Я говорил вам несколько недель назад, что у нас может быть новенький. На прошлой неделе я встретил Филипа, и он начинает сегодня. – Конечно, он начинает сегодня, подумал Джулиус, что за идиотское замечание. Ну все, больше я ни слова не скажу. Пусть сам барахтается, как знает.
Как раз в этот момент в комнату ворвался Стюарт. По-видимому, он спешил прямо из клиники, потому что на нем был белый больничный халат. Он плюхнулся в кресло, бормоча извинения. Все повернулись к Филипу, и четверо из присутствующих начали представляться: «Привет. Я Ребекка, Тони, Бонни, Стюарт. Очень приятно. Рады тебя видеть. Добро пожаловать. Мы давно нуждаемся в свежей крови – то есть в новом вливании, я хотел сказать».
Пятый, представительный, рано облысевший мужчина с венчиком золотистых волос на голове и грузной фигурой слегка потрепанного футбольного судьи, сказал на удивление тихо:
– Привет, я Гилл. Прости, Филип, надеюсь, ты не обидишься, но сегодня мне очень нужно внимание группы. Как никогда нужно.
Никакого ответа.
– Ты не против, Филип? – повторил Гилл.
Филип вздрогнул, широко раскрыл глаза и кивнул. Гилл вновь повернулся к знакомым лицам и начал:
– Да, скажу я вам, с моей женой не соскучишься. В общем, ее прорвало сегодня утром, после встречи с доком. Я уже рассказывал, что несколько недель назад аналитик дал Роуз книжку про жестокое обращение с детьми, и теперь она думает, что с ней жестоко обращались в детстве. Короче, это ее идея фикс – как это называется?… идэй фиксэй? – Гилл повернулся к Джулиусу.
– Idée fixe, – немедленно вставил Филип с безупречным французским прононсом.
– Вот-вот, спасибо, – сказал Гилл и, бросив быстрый взгляд на Филипа, негромко добавил: – Ого. Круто. Так вот, – вернулся он к своему рассказу, – у Роуз теперь idée fixe, что ее отец приставал к ней, когда она была маленькой. Вбила себе в голову – и ни в какую. Что ты конкретно помнишь? Ничего. Кто-нибудь может подтвердить? Никто. Но ее психоаналитик убежден, что если она подавленна, боится секса и если у нее все эти штучки вроде провалов памяти и неконтролируемых эмоций, и в особенности агрессия к мужчинам, то ее наверняка должны были совращать в детстве. Так, видите ли, написано в этой чертовой книжке, а он на эту книжку молится. И вот мы уже несколько месяцев только и делаем, что об этом говорим. Она мне уже всю плешь проела. Что сказал врач да что он посоветовал. Все. Других тем нет. Про постель забудь. Выкинь из головы. Пару недель назад она и говорит мне: позвони моему отцу – я не хочу с ним разговаривать – и пригласи его к моему аналитику. И просит меня тоже прийти – как она выражается, для «защиты»… Ну, я ему звоню. Он тут же соглашается, вчера садится в автобус, мчится из Портленда сюда и сегодня утром является на встречу со своим стареньким чемоданчиком в руках – потому что он собирался сразу после этого отбыть домой. То, что дальше происходит, просто ужас. Сплошной мордобой и кровопролитие. Роуз срывается на него, как собака. Чего только она ему не наговорила. И мелет, и мелет. Ни слова благодарности за то, что ее старик притащился сюда за несколько сотен миль ради нее – чтобы полтора часа провести с ее аналитиком. Обвинила его во всех смертных грехах – видите ли, он собирал в доме соседей, друзей, всю свою пожарную команду – он раньше работал пожарным, – чтобы склонить ее к сексу.
– И что же он? – спросила Ребекка, удивительной красоты женщина лет сорока, стройная и высокая. Подавшись вперед, она внимательно слушала.
– О, он повел себя как настоящий мужик. Он отличный старик, где-то под семьдесят, милый такой, приятный. Я его видел в первый раз. Он был просто великолепен – черт, хотел бы я, чтобы у меня был такой отец. Он просто сидел и слушал, и еще повторял Роуз, что, если у нее накопилось столько злости, только лучше, если она ее выплеснет. Спокойно отрицал все ее дикие обвинения, а потом взял и сказал – и тут я с ним полностью согласен, – что Роуз злится просто потому, что он бросил их, когда ей было двенадцать. Он сказал, что это компост – он так и сказал, «компост», он сам огородник, – который заложила в нее мать, это она с детства настраивала Роуз против него. Он сказал, что ушел от них, потому что жизнь с ее матерью довела его до ручки и он давно бы сдох, если бы остался жить с этой стервой. И, доложу я вам, в том, что касается матери Роуз, старик недалек от истины. Совсем недалек… В общем, после сеанса он попросил нас подбросить его до вокзала, я не успел даже ответить – Роуз как закричит, что в одной машине с ним она не будет чувствовать себя в безопасности. «Понял», – сказал он и поплелся прочь со своим чемоданчиком… Минут через десять мы с Роуз едем по Маркет-стрит, и я вижу его – седой сгорбленный старик волочит свой чемодан. Начинало накрапывать, и я сказал себе: «Черт, это же дерьмо собачье». Короче, я сорвался и говорю Роуз: «Этот старик приехал ради тебя, на твою встречу с врачом, он проделал весь этот путь из Портленда, черт побери, идет дождь. Как хочешь, а я отвезу его на станцию». Я сворачиваю к обочине и предлагаю ему сесть. Роуз смотрит на меня, как дикая кошка: «Если он сядет, я выйду». Я говорю: «Пожалуйста, садитесь», – показываю ей на «Старбакс», чтобы она подождала меня там, и говорю, что через несколько минут за ней приеду. Она вылезает из машины и важно так уходит. Это было около пяти часов назад. В «Старбаксе» я ее так и не нашел. Я поехал в парк «Золотые Ворота» и пробродил там все это время. Теперь я думаю вообще не возвращаться домой.
Гилл замолчал и обессиленно откинулся в кресле.
Вся группа – Тони, Ребекка, Бонни и Стюарт – одобрительно загудела: «Молодчина, Гилл», «Давно пора, Гилл», «Ого, ты действительно это сделал?», «Гилл, ты просто герой».
Тони сказал:
– Не могу сказать, как я рад, что ты бросил наконец эту стерву.
– Если тебе негде спать, – сказала Бонни, нервно проводя руками по волнистым каштановым волосам и поправляя желтые очки-консервы, – у меня есть свободная комната. Не волнуйся, я тебя не трону, – хихикнула она, – я для тебя слишком стара, и к тому же дочка дома.
Джулиус, не слишком довольный нажимом группы (он слишком часто встречал пациентов, бросавших занятия из страха разочаровать группу), в первый раз нарушил молчание:
– У тебя мощная группа поддержки, Гилл. Что ты сам думаешь по этому поводу?
– Здорово. Мне кажется, это здорово. Только… еще рано что-то говорить. Все случилось так быстро – я хочу сказать, это произошло только утром… так странно… в голове все плывет… сам не знаю, что теперь делать.
– Правильно ли я понимаю, – продолжил Джулиус, – что ты не собираешься выходить из-под влияния жены, чтобы попасть под влияние группы?
– А-а, да… Думаю, что так. Да, понимаю… Точно. Но все это так сложно. Я действительно хочу… мне действительно нужна поддержка… спасибо… мне очень нужна ваша помощь – это критический момент в моей жизни. Но все высказались, кроме тебя, Джулиус. И, конечно, нашего нового товарища, Филипа, так?
Филип кивнул.
– Филип здесь первый день, а ты уже много раз об этом слышал. – Гилл повернулся к Джулиусу. – Что ты скажешь? Что мне теперь делать?
Джулиус невольно поморщился, надеясь, что никто этого не заметил. Как и большинство психотерапевтов, он терпеть не мог этот вопрос – все эти «как бы ты поступил» да «что бы ты сделал», – хотя и знал, что к этому все идет.
– Думаю, тебе не понравится, что я скажу, Гилл, но все-таки слушай. Я не могу сказать тебе, как поступить, – это твое дело, твое решение, не мое. Первое – ты здесь именно для того, чтобы научиться доверять собственному мнению. Второе – все, что я знаю про Роуз и ваш брак, я знаю от тебя, а ты не можешь быть объективным. Моя задача состоит в том, чтобы помочь тебе решить, как именно ты будешь справляться с этой жизненной трудностью. Мы не можем ни понять, ни изменить Роуз, и только ты – твои чувства, твое поведение – вот что важно для нас, потому что это единственное, что ты можешь изменить.
Наступило молчание. Джулиус был прав: Гиллу не понравился его ответ. Как, впрочем, и остальным.
Ребекка выложила на стол заколки, встряхнула длинными черными волосами и снова принялась их закалывать. Потом повернулась к Филипу:
– Ты новенький и в первый раз слышишь эту историю. Но иногда устами младенцев…
Филип молчал. Не поймешь, слышал ли он вопрос Ребекки.
– Да, что ты думаешь, Филип? – спросил Тони мягко – редкость для него. У него было смуглое лицо с рубцами от юношеских угрей на щеках, черная футболка и облегающие джинсы как нельзя лучше подчеркивали стройную, спортивную фигуру.
– У меня есть одно замечание и один совет, – сказал Филип. Он сидел, сложив руки на груди, откинув голову и уставившись в потолок. – Ницше однажды заметил, что основное различие между человеком и коровой состоит в том, что корова знает, как существовать, она живет без фобий, то есть без страхов – в блаженном настоящем, не ведая ни тяжести прошлого, ни ужасов будущего. Но мы, несчастные homo sapiens, нас так мучает наше прошлое и будущее, что способны лишь мимолетно скользить в настоящем. Знаете, почему мы с такой тоской вспоминаем о золотых днях детства? Ницше говорит, потому что дни детства были беззаботными днями, днями без заботы, когда мы еще не несли на себе груза мрачных воспоминаний и не имели за спиной руин прошлого. Позвольте здесь попутно заметить: я цитирую сочинение Ницше, но мысль эта не была оригинальной – это, как и многое другое, Ницше просто выкрал у Шопенгауэра.
Филип замолчал. В комнате повисла тяжелая тишина. Джулиус поерзал в кресле. Черт меня побери, старый я дурак, выжил из ума – это ж надо было пригласить сюда этого типа. Да это бог знает что такое. Чтобы новичок так разговаривал с группой. Да это просто неслыханно.
Бонни первая нарушила молчание. Повернувшись к Филипу, она сказала:
– Невероятно. Я действительно часто вспоминаю свое детство, но никогда не думала об этом вот так – что в детстве было легко и приятно, потому что на меня ничего не давило. Спасибо, я обязательно запомню.
– Я тоже. Любопытная мысль, – добавил Гилл. – Но ты сказал, что у тебя есть совет?
– Да, вот мой совет. – Филип говорил тихо и невозмутимо, по-прежнему избегая глядеть в глаза остальным. – Твоя жена из тех людей, которые особенно неспособны жить в настоящем, потому что на нее слишком давит груз прошлого. Она – тонущий корабль и быстро идет ко дну. Мой совет – прыгай за борт и плыви к берегу. Опустившись глубже, она даст мощную волну, поэтому советую тебе – плыви изо всех сил, если хочешь остаться в живых.
Тишина. Группа замерла от неожиданности.
– Да-а, – протянул Гилл, – в дипломатичности тебя не обвинишь. Я спросил – ты ответил. Здорово. Даже очень. Хорошо, что ты пришел к нам в группу. Может, хочешь еще что-то сказать? Я бы с удовольствием послушал.
– Что ж, – ответил Филип, как прежде глядя в потолок, – в таком случае я скажу кое-что еще. Кьеркегор пишет, что некоторые люди пребывают в «двойном отчаянии», то есть они находятся в отчаянии, но так привыкли обманывать себя, что даже не подозревают, что они в отчаянии. Мне кажется, ты в двойном отчаянии. Я скажу тебе вот что: большинство моих страданий происходили оттого, что я подчинялся своим желаниям. Когда я удовлетворял одно желание, на некоторое время приходило удовольствие, оно очень скоро перерастало в скуку, а та в свою очередь сменялась новым желанием. Шопенгауэр называет это общим человеческим условием – желание – кратковременное насыщение – скука – новое желание… Теперь вернемся к тебе. Я сомневаюсь, что ты до конца изжил в себе этот цикл желаний. Возможно, ты был настолько поглощен желаниями своей жены, что это не позволяло тебе осознать свои собственные? Может быть, поэтому все так аплодировали тебе сегодня – потому что ты наконец перестал быть мальчиком на побегушках? В общем, я хочу тебя спросить – ты просто временно отложил работу над собой или похоронил ее окончательно, пытаясь угодить жене?







