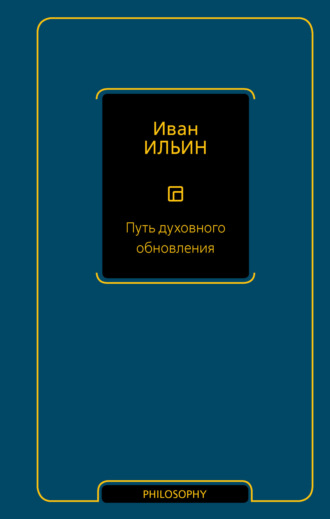
Иван Ильин
Путь духовного обновления
Именно это имел в виду Макарий Великий, когда говорит о таинственном «срастании», или «врастании». Именно это имел в виду Гегель, когда утверждал, что искренняя и огненная молитва к Богу является сама по себе лучшим доказательством бытия Божия, ибо она есть не что иное, как живое действие Духа Божия в сердце молящегося человека… Кто взывает к Богу из глубины сердца, в том уже действует внутренно сам Господь; и это есть действительное, опытное и очевидное доказательство Его бытия, после которого незачем требовать какого-нибудь другого умственно рассуждающего доказательства. Но это доказательство может быть получено в личном и живом духовном опыте; человеку же, лишенному этого опыта, оно остается недоступным. Тот, кто получил этот опыт и это доказательство, тот уже никогда не почувствует себя покинутым или отверженным: ибо он знает, где и как он снова найдет открывшийся ему доступ; и он сумеет найти его и тогда, если он будет погибать совсем одиноким в морской буре, или в ледяной пустыне, или в самом последнем тюремном подземелии; он и в беде найдет этот путь и в смерти получит духовную опору.
2. Любовь как путь
Итак, любовь к совершенному есть источник религиозной веры. Именно на этом пути человек становится верующим в подлинном и чистом смысле этого слова.
Нельзя начать веровать в силу логических, отвлеченно умственных доказательств или аргументов. Рассудочные доказательства могут только разрушить умственные сомнения, да и то только в том случае, если все сомнения проистекают из умственного источника и имеют разумные и предметные основания[21]. Вера не дается доказательствами. Ибо источник веры не в рассуждении, а в предметном горении сердца. В этом основное отличие православия от протестантизма.
Точно так же нельзя веровать в силу волевого решения – своего собственного или чужого (приказа или понуждающего мучительства). Правда, человеку, который уже верит (именно верит, а не верует) или который способен начать верить в порядке самовнушения (особенно если ему безразлично, во что, собственно, «надо» верить), – воля может помочь в подавлении сомнений или других внутренних противлений. Но к верованию этот путь не ведет. Сколько бы человек ни твердил себе, что «надо» уверовать, сердце от этого не воспламенится и духовное видение от этого не возникнет. Однако воля может разбить цельность души и этим сделать веру навсегда недоступною для человека, воля может приучить человека к лицемерному доказательству и этим извратить его религиозность. Одно несомненно – что никакое волевое напряжение не может отверзнуть духовно незрячие очи и не может вызвать к жизни глубинный огонь любви. Вера не дается волевому нажиму. Ибо источник веры не в волевом решении («буду веровать»), а в силе созерцающей любви. В этом основное отличие православия от католичества.
Человек может уверовать, только свободно и полно прозрев, духовно прозрев сердцем или, иначе, – узрев Бога в горении свободной и искренней любви. Но это каждый из нас должен пережить сам в себе и за себя. Правда, горящая вера одного, изливаясь в словах его и делах, может вызвать огонь в других сердцах; но в этих других сердцах огонь должен появиться действительно как живое и самостоятельное пламя, а не только в виде «подражания» или внушающего «заражения». Тогда только духовная любовь может вызвать в душе духовное прозрение (как бывает у одних людей) или же (как бывает у других) духовное прозрение вызовет к жизни пламя веры. Тогда вера может превратиться в средоточие души и в действительный путь жизни.
Вера становится главным в жизни, не в смысле церковного богослужения – ибо совсем не все люди призваны к духовному сану, – а главным источником настроений, решений, слов и дел. Вера вдохновит и направит волю, раскроет уму и воображению новые горизонты, облагородит жизнь чувства и воспитает, освящая и одухотворяя чувственную жизнь человека. Она станет как бы в центре душевного круга или жизненного шара и разошлет по всей периферии как бы живыми радиусами свои лучи в виде всепроникающего света, вскрывающего во всем духовный смысл и особую, не выставляющуюся напоказ, религиозную значительность. И от этого постепенно, но окончательно вытравится из жизни источник безбожия и главный враг духовности – пошлость.
У верующего человека открыто духовное зрение, отличающее добро от зла, совершенное от несовершенного. И потому он видит Бога: ибо Бог есть добро и совершенство.
У верующего человека на таинственном и скрытом от глаз «жертвеннике духовном» (Григорий Синаит) горит огонь; это его духовная любовь, ведущая его и заставляющая его прилепиться к совершенному. И потому он не только видит Бога, но и любит его по завету Евангелия «всем сердцем», «всею душою», «всем разумением» и «всею крепостью» (т. е. волею своею)[22].
И какие же доказательства или опровержения других людей могли бы убедить его, будто он «не видит» и «не любит Бога», когда он и видит и любит Его во всей подлинной реальности Его подлинного совершенства и во всех его таинственных, но благодатных излучениях в мир людей и вещей? Осязая духом Его действие во мне, воспринимая и созерцая Его в моем живом и подлинном духовном опыте, как могу я не уверовать в Него или перестать в Него веровать? Источник удостоверения во мне самом; этот источник имеет характер живого опыта, который глубже и первоначальнее всякого умственного доказательства, всякого отвлеченного опровержения…
Естественно, что человек, достигший этой ступени в своем внутреннем опыте и уверовавший в Бога, почувствует острую потребность узнать о Боге более того, что дает этот достоверный и пламенный, но, может быть, недостаточно определенный духовный опыт. Он непременно спросит себя: что же открывается мне – безличное Божество наподобие Огня Гераклита или Субстанции Спинозы или личный Бог, как о нем учит христианство? И если это личный Бог, то как представить себе Его? Как сочетать личное начало в Боге с его вездеприсутствием? Возможно ли увидеть и уразуметь отношение Бога к миру и к человеческому роду и отношение человеческого рода к Богу? И как удостовериться живым опытом и духовным видением в том, что христианская православная Церковь содержит религиозную истину?
Само собой разумеется, что ответить исчерпывающим образом на все эти вопросы можно было бы только в виде целого догматического богословия; но и его было бы недостаточно: надо было бы обратиться к духовным путям восточной православной аскетики и попытаться воспроизвести в собственном живом опыте (конечно, в меру личных сил) ее созерцательную практику. Все это не входит в нашу задачу. Мы должны ограничиться здесь следующими путеводными указаниями.
Ни один человек из живших или живущих на земле не может считать свою веру совершенной и законченной – ни по глубине и объему ее, ни по ее содержанию. Напротив, каждый остается до конца строителем своей веры и Божиим учеником. И чем искреннее и скромнее он в своем ученичестве, тем плодотворнее будет его строительство, тем большего он достигнет – и в углублении своей веры, и в раскрытии и обогащении ее содержания.
Ни один человек не имеет основания полагаться в этом на свои личные, одинокие силы; ибо он может быть уверен, что всей жизни его, даже сосредоточенной и напряженной, не хватит на испытание Божиих тайн: «длинней земли мера Его»[23]. Поэтому каждому человеку надлежит присмотреться к строению своего религиозного акта (ум ли в нем преобладает, воля или воображение, или горение сердца и созерцание любви?..) и прислушаться к тем содержаниям, которые несет ему духовный опыт. И присмотревшись, и прислушавшись – избрать себе наиболее сродную им религию и церковь и вступить в эту церковь и в эту религию в качестве уже верующего, но еще недостаточно и несовершенно верующего ученика. Можно предположить, что строение его религиозного акта будет наиболее близко к вере его отцов, но в жизни бывает и иначе. Необходимо установить при этом, что чем больше его вера будет питаться горением сердца и созерцанием любви, тем ближе окажется ему Православное Христианство.
Быть учеником в вопросах веры не значит заучивать формулы по указанию авторитетов; но значит бережно и ответственно углублять, очищать и расширять свое духовное чувствилище и его содержания; это значит припасть к духовно-религиозному опыту данной церкви как к некой «неупиваемой чаше» (Шмелев) и пить содержащуюся в ней мудрость и зоркость – мерою, лично доступною и целительною. Такое ученичество не только не постыдно и не унизительно, а наоборот – оно в смирении своем мудро и в целительности своей возносяще.
К какому бы исповеданию ни прильнул человек, к какой бы религии он ни приложился, он будет поддерживать общение с Богом. Это общение есть молитва. Опыт молитвы и ответит ему на все поставленные им вопросы.
Так, если вера его построена на духовной любви, то она откроет ему, что Бог есть дух и любовь, что всюду и всегда, где он коснется духа и любви в других вещах и людях, – он коснется как бы ризы Божией и что каждый раз, как он чувствует в себе самом веяние духа и трепет любви, – он приобщается Богу живому. Он убедится, что главное и священное в нем самом то, что составляет подлинную сущность его личности, – не только подобно Божиему естеству, но что он сам есть искра его пламени, водная капля из этого источника, живое и личное существо (индивидуация), сродное этому Духу. Тогда он скажет: «я есмь жизнь от Твоей Жизни и дух от Твоего Духа; и то, чего я хочу духом моим, – есть Твоя Воля; и Твоему Делу я хочу служить отныне и до конца; и так, как я люблю Тебя, – так, но еще бесконечно совершеннее, я хочу быть любимым Тобою». И одна эта молитва покажет ему, что он услышан Богом и любим Им. И он впервые убедится, что Бог есть Бог личный и живой. Ибо воззвать и быть услышанным, молиться и чувствовать, что молитва дошла и принята, раскрыть свое сердце и почувствовать себя прощенным и исцеленным – значит вступить в личное общение с личным Богом. И, памятуя об условности и несовершенстве всех земных мерил и слов, он впервые скажет о Боге «Отец», а себя почувствует «сыном» этого Отца, состоящим в его неизъяснимой и благодатной любви.
Только духом можно познать Дух как высшее естество и существо всех вещей и людей. Только через живую огненную любовь можно познать, что Бог есть Любовь. Только тот, кто чувствует себя «сыном» в духе и любви, может воззвать к Отцу.
И тот, кто раз испытает и постигнет это, и после этого прочтет и прочувствует Евангелие, тот увидит во Христе подлинного, единородного Сына Божия и примет Его духом, любовию и верою.
3. Любовь и вера
В этом описании нет никаких отвлеченных выдумок или произвольных построений. И в этом, что здесь изложено, нет безответственного фантазирования или темного суеверия. Здесь свет разума не меркнет, здесь только устранены сумерки плоского рассудка и представлена свобода опыту сердца. Здесь все покоится на живом, подлинном, духовном опыте. И было бы хорошо, скромно и разумно, если бы тот, кто не пережил этого духовного опыта и не хочет приобрести и пережить его, – воздержался бы от суждений и отказался бы от праздной, иронической критики. Человек, не воспринявший Иисуса Христа духом и любовию, поступил бы лучше всего, если бы судил о Христе и христианстве с чрезвычайной осторожностью и отнюдь не причислял бы себя к врагам христианства. Часто, слишком часто безбожник является безбожником только потому, что он еще не выработал в себе духовного созерцания и держится неверного мнения, будто такой душевной способности нет и не может быть. Если я не знаю, где дорога в Иерусалим, – могу ли я заключить из своего незнания, что ни Иерусалима, ни дороги к нему вообще не существует? Или, если знающий эту дорогу затрудняется описать ее другому, то можно ли отсюда делать вывод, что он этой дороги совсем не знает или что он просто обманщик? Не всякий, живущий духовным опытом и духовной любовью, может научить других этому опыту и этой любви или описать их, обосновать их и раскрыть их сущность; для этого нужны особые способности и дары. Но кто берет на себя эту задачу, тот должен быть в самом деле мастером духовного опыта; он должен уметь жить, воспринимать и созерцать в духовной любви; ибо, если он этого не умеет, то он не может быть ни учителем, ни духовным воспитателем.
Итак, духовный опыт, этот живой источник веры и религии, – не есть ни выдумка, ни суеверие. Он есть подлинная реальность, и каждый может и призван пережить его, удостовериться в нем и усвоить его (конечно, каждый по-своему и в своих пределах). И тогда он увидит, что из этого источника действительно проистекает благодатный поток в человеческую жизнь и во всю человеческую культуру.
В строении и осуществлении духовного опыта отдельные люди и народы не похожи друг на друга[24]. Так, например, история знает целые народы, которые искали «совершенства» прежде всего и больше всего в чувственном созерцании (греки); вследствие этого они создали религию образной красоты и боги их остались пластичными, человекообразными индивидуальностями, носителями силы, духовно и нравственно несовершенными существами, несмотря на завершенность их красоты и величия. Наряду с этим, история отмечает такие народы, которые «искали» совершенства в соблюдении законов и обрядов, предписанных им высшим авторитетом (иудеи); вследствие этого они создали религию строжайшей обрядности; и даже глубокие нравственные прозрения их позднейших пророков не могли ни изменить, ни отменить выработанное ими национальное понимание религии…
Еще гораздо многообразнее духовные пути отдельных людей. Есть люди, которые ухватывают край ризы Божией в искусстве и через искусство; они понимают и осуществляют искусство как особый способ видеть и изображать божественную сущность мира и человека. Наряду с ними есть и другие люди, которым вдохновение благородного искусства говорит очень мало; но зато сердце их расцветает в живой любви к ближнему так, что они приходят к духовному опыту и созерцанию Бога именно на этом пути. Есть люди, которым свет Божий дается в созерцании справедливости и права, в мудром, неподкупном, художественно-чутком правосудии; другие находят тот же луч Божий в мужественном и терпеливом несении страданий[25]; иные созерцают мудрость Божию в природе и ее таинственно-прекрасной жизни[26]; иные вступают с Богом в непосредственное общение в излиянии простой, одинокой, искренней молитвы… Ни один из этих путей не подлежит отвержению, каждый из них может и должен привести человека в священное средоточие веры, к Богу, Отцу всяческих. Евангелие объемлет все эти пути и всякие иные пути, говоря: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею»; и затем: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея 22:37; Марка 12:29–30; Луки 10:26–28).
Итак, не подлежит сомнению, что духовная любовь и духовный опыт даются не всем людям в одинаковой мере и в одинаковом виде. Они сами (и любовь, и опыт) суть дары благодати, и кому они даются «сами собой», как бы «от природы», тот не имеет заслуги. Однако возможно и необходимо беречь этот дар, растить его, открывать ему доступ во все внутренние пространства души и предоставлять ему водительство в жизни. И подобно этому возможно и необходимо передавать этот духовный свет другим людям, никогда не думая о том, что, может быть, есть на свете такие, которые навеки лишены благодати; ибо, если бы даже существовали на свете такие люди, то кто же из нас знает этих несчастных? А опыт свидетельствует о том, что огонь духа, проникая в сердце зачерствелого человека, способен зажечь его и притом именно потому, что под ста дурными слоями таинственно тлела Божия искра.
А раз живая и подлинная вера возникнет из духовной любви и укрепится в духовном созерцании, то она непременно захватит последнюю глубину человеческого существа и проникнет из нее во все сферы личной жизни. Духовная вера как бы отверзает у человека новые очи или натягивает в его душе новые струны и заставляет их звучать; возникают новые, более благородные, утонченные потребности; он начинает видеть и постигать то, что остается скрытым от неверующих людей, – стихию священного в человеческих душах и в мире вещественной природы. Само собой разумеется, что духовно верующий человек видит и все то, что умеет наблюдать неверующий; но наряду с этим и сверх этого, он видит в мире и в человеческой истории некий высший смысл, другие, высшие и могущественные законы, правящие миром: законы Провидения, Духа и Божественных целей, а также законы человеческой свободы, подвига, правоты и греха… В общем и целом – особый мир, таинственно скрытый в видимом мироздании; мир, в который духовно живой человек всю жизнь всматривается, как сквозь завесу, и к которому он прислушивается как бы издали. Из этого внимания, из этого зрения и слуха и возникло все великое, созданное людьми в их истории.
Вот почему мы утверждаем, что из этой области текут благодатные, творческие струи в человеческую жизнь и во всю человеческую культуру. В этом потоке, который изнутри проникает, облагораживает и освящает все человеческие дела и создания, – все рождается как бы заново: все получает священное значение, глубокий смысл, внутреннюю, неколеблющуюся опору, духовную верность и побеждающую силу. Именно к этому зовет нас ясновидящий Тютчев:
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!
Но если этот миг придет, то он, наверное, повторится и упрочится. А если он овладеет душой, то вся несостоятельность безбожного искусства, богоотрицающей науки, противодуховной политики и черствой, антисоциальной общественности обнаружится воочию и покажется сущим мраком и крушением по сравнению с культурой, религиозно овеянной и освященной.
Итак, человек не может жить без веры. Но без веры в Бога жизнь человека становится бесплодной, пошлой и разрушительной – мнимой жизнью, ведущей к бесчисленным страданиям и всеобщему разложению.
Путь же к вере и к Богу именуется духовной любовью. И первое, что она может и должна дать, – есть свобода.
Глава третья
О свободе
Скажи им таинство свободы…
Хомяков
1. Внешняя свобода
Исследуя вопрос о вере, я пытался показать, что, веруя в Бога, человек создает свой реальный жизненный центр и строит, исходя из него, свою душу: благодаря этому, он сам становится живым духовным единством с единственным центром и не колеблющимся строением – он приобретает зрелый и законченный духовный характер. На этом пути он обретает священную и главную цель своей жизни, которою стоит жить, за которую стоит бороться и в борьбе за нее – отдать свою жизнь: эта главная цель его жизни именуется делом Божиим на земле, т. е. делом религиозно осмысленной духовной культуры.
Оказывается, что вера не есть просто некоторое «ощущение» или «чувство». Напротив, она есть некий целостный жизненный опыт, некое миросозерцание и система действий; она вовлекает в свой процесс и волю, и мысль, и слово, и дело – все сразу, всего человека целиком: ибо вера исходит из последней глубины человеческого существа и потому неизбежно захватывает всего человека. Только при этом условии вера становится деятельной, творческой верой: укорененной, искренней, цельной и победной.
Но для того чтобы вера возникла, и разгорелась, и приняла такую силу и обличие – человек должен быть в своей вере свободен.
Что значит – «свободен»? Какая свобода имеется здесь в виду? Свобода от чего и ради чего?
Здесь имеется в виду прежде всего внешняя свобода человеческой личности. Не свобода делать все, что кому захочется, с тем чтобы другие люди не смели никому и ни в чем мешать; но свобода веры, воззрений и убеждений, в которую другие люди не имели бы права вторгаться с насильственными предписаниями и запрещениями; иными словами – свобода от недуховного и противодуховного давления, от принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и преследования. Ввиду того, что здесь дело идет об ограждении извне духовного опыта и веры, такую свободу можно обозначить как «внешнюю» или «отрицательную»; она ограждает интимный и глубокий процесс богоискания от насилия со стороны других людей и постольку ее можно обозначить и как «общественную»[27]… Ее формула может быть выражена так: «не заставляй меня насильственно, не принуждай меня угрозами, не запрещай мне, не прельщай меня земными наградами и не отпугивай меня наказаниями… предоставь мне самому – испытать Божественность, уверовать в Бога и свободно принять Его закон моим сердцем и моей волею…» Эта формула требует для человека «религиозной автономии» (букв., с греческого – «самосознания»[28], в отличие от «гетерономии» (с греч. «чужезакония», т. е. предписания или запрещения, идущего от других людей).
Не подлежит никакому сомнению, что человек в своем общественном воспитании и в государственной жизни безусловно нуждается в гетерономных, т. е. идущих извне предписаниях и запрещениях, причем эти предписания и запрещения должны быть часто поддержаны угрозою, а иногда подкреплены силой и принуждением[29]. Пока люди не научатся самостоятельно преображать зарождающиеся в их собственной душе дурные влечения, пока они не научатся обессиливать чужие дурные намерения при помощи любви, ласкового взгляда и доброго слова, превращая чужую злобу в благотворную доброту (а когда это будет?.. и будет ли?!.), до тех пор в этом порядке ничего не изменится. Однако, если бы люди и научились этому, гетерономные приказы и запреты не исчезли бы из жизни – ибо ни воспитание детей, ни создание прочных и больших общественных организаций, покоящихся на положительном праве (от научного общества до государства и международной организации включительно), не могут обходиться без таких гетерономных правил.
Но духовная любовь, вера в Бога и вообще личные убеждения не создаются такими приказами и запретами. Всякое чужое принуждение – в чем бы оно ни выражалось и какие бы формы оно ни принимало – подходит к человеку «извне» и надвигается на него в известном смысле «сверху», т. е. в порядке обязывающего авторитета; поэтому оно оказывается неспособным захватить последнюю глубину сердца, пробудить ее и обратить к Богу. На такое давление, приходящее «извне» и «сверху», внутреннее ядро человека отвечает обычно сопротивлением и возмущением или, еще хуже, – ожесточением, упрямством и ненавистью. Тогда подавленный человек, вместо того чтобы пользоваться своею свободой из глубины и по существу, вместо того чтобы строить по-своему свой духовный опыт, – начинает взывать к формальной свободе, ссылается на свое неотъемлемое право и вступает в борьбу за него; и если бы даже налагаемые на него приказы и запреты содержали самоё единую и единственную религиозную истину – то и в этом случае они не только не открыли бы его душу для приятия ее, но замкнули бы его душу в слепоте и глухоте…
Запрет и принуждение, угроза и страх могут вынудить у человека только лицемерную «любовь» и лицемерную «веру»; а эти вынужденные, показные, неискренние проявления скрывают за собою или прямое лукавство, или же испуганное, мертвеющее сердце; и все усилия и нажимы власти достигают только того, что истинная любовь и истинная вера гибнут или совсем не возникают в человеческой душе: в ней все становится искусственным, натянутым, раздвоенным, фальшивым и потому – бессильным и, в сущности говоря, кощунственным; ибо священное требует искренности, и Божественное не терпит расчетливого притворства или лицемерия…
В этом ничего не меняется и в том случае, если человек, поставленный под угрозу и принуждение, принимает внутреннее решение – принудить самого себя усилием воли к «любви» и «вере», т. е. заставить себя насильственно разлюбить любимое и полюбить нелюбимое или разувериться в том, во что он верит, и поверить в то, во что ему не верится. Это не удастся ему. Ибо на самом деле в органически здоровой душе – воля не может породить любовь и веру[30]; напротив, она сама получает свое горение и освещение из священного огня не вынужденной любви и свободной веры.
Несомненно, воля может жить, господствовать и вести человека и без любви, но тогда она оказывается холодной и сухой, формальной и безжалостной. Воля может обходиться и без веры, но тогда она оказывается оторванной от духа и святыни, беспринципной и безнравственной, чем-то вроде испорченного автомата или зверя, вырвавшегося из клетки. Можно даже решиться на такой опыт: не любя, притвориться любящим и действовать из притворной любви и, не веруя, симулировать веру и подражать во всем верующим, – все это в тщетной надежде, что, может быть, когда-нибудь потом, вследствие такого притворства и таких неискренних усилий, любовь и вера присоединятся к этим упражнениям; такие люди начинают с вынужденных внешних поступков и надеются привлечь этим в душу священный огонь. Иногда такие неискренние упражнения приводят к ряду общественно полезных действий, особенно в сфере так называемой «общественной благотворительности». Но ни одно из этих действий не входит полноценным звеном в живую цепь Божьего дела на земле… И если бы впоследствии священный огонь любви и веры вспыхнул однажды над такими лицемерными и мертвыми делами, то оказалось бы, что человек любит лишь с того мига, когда его сердце загорелось изнутри, и что вера его началась лишь с того момента, когда глубина его души была искренно захвачена и свободно обратилась к Богу. Все же прочее, до этого, оставалось системой лицемерия.
Никогда еще ни одному человеку не удалось и никогда ни одному не удастся полюбить на основании приказа или искоренить в себе веру на основании запрета. И если любовь возникает после приказа, то она возникает не по приказу, а вопреки ему и независимо от него: т. е. любовь приходит сама, а приказу не удается помешать ей и сделать ее невозможною. И если вера исчезает после запрета, то она исчезает не на основании его, но на основании других душевных переживаний, а может быть, и вследствие того, что она была мнимая и что на самом деле ее вовсе не было.
Божественный огонь в человеке, который в нем любит, верует и творит, – не может быть ни произвольно вынужден, ни произвольно погашен; все, чего здесь можно достигнуть, – и то лишь вследствие человеческой слабости и робости – это временного умалчивания о нем, воздержания от внешних высказываний и проявлений (т. е. ухода в душевную катакомбу).
Есть закон, который надо продумать и усвоить раз и навсегда: внешнее давление, со всеми его угрозами, насилиями и муками, и духовный огонь, во всей его непроизвольности и священной властности, – чужеродны друг другу («гетерогенны»); они суть проявления различных сил и сфер, причем высшая сила (дух) – властна над низшею, она может вызвать ее к жизни и остановить ее изнутри; но низшая сфера не властна над высшей: внешней силе подчинено только внешнее. Вот почему прав Шопенгауэр, когда он говорит: «Вера подобна любви, ее нельзя вынудить. И потому это рискованная затея – пытаться ввести ее при помощи государственных мероприятий…» И прав русский поэт, сказавший о духовном творчестве:
Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет![31]
Без этой свободы человеческая жизнь не имеет ни смысла, ни достоинства, и это самое главное. Смысл в том, чтобы любить, творить и молиться. И вот, без свободы нельзя ни молиться, ни творить, ни любить.
1. Веровать и молиться можно только самому, по доброй воле, искренно, из глубины. Нельзя молиться по приказу и не молиться по запрету. Молитва по приказу не нужна ни Богу, ни себе, ни людям; и тот, кто запрещает молиться, делает вредное, противорелигиозное дело. Отсюда – свобода верования, исповедания и любви.
2. Любить можно только самому, искренно, по доброй воле, из глубины. Нельзя любить Бога, родину и людей по приказу и перестать любить в силу запрета. Вынужденное оказательство преданности, расчетливый, казенный патриотизм – есть притворство и обман, такое притворство ни к чему хорошему не ведет, такой обман никому не нужен. Любовь не загорается по повелению и не угасает по предписанию, она не вынудима, и притом всякая любовь, и ко всему: и к Богу, и к людям, и к делу, и к природе, и к идеям. Отсюда – свобода духовной любви и убеждений.
3. Творить можно только по вдохновению, из глубины, свободно. Нельзя творить по приказу и не творить по запрету. Вспомним жалобы Иоанна Дамаскина, которому старец запретил вдохновенное пение:
Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И в тишине, над чутким ухом,
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы…
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно…
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью…[32]
И так во всем. Как предписать законы вдохновенья?[33] Как подавить ищущую мысль разума? Можно ли вынудить живой и полноценный, нравственно-творческий поступок? Что стоит жизнь без творчества, творчество без вдохновения, вдохновение без свободы? Отсюда – свобода духовного творчества.
Не признающий этой свободы и такой свободы как основы жизни и как духовной необходимости — приравнивает человека животному, умаляет человеческое достоинство. Он заставляет человека лгать — Богу, себе и людям. Он искажает естество человека, превращает людей в чернь и, создавая инквизицию или тиранию, готовит себе самому или своему народу печальное будущее.
Свобода есть воздух, которым дышит вера и молитва. Свобода есть способ жизни, присущий любви. Отвергать это может лишь тот, кто никогда не веровал, не молился, не любил и не творил; но именно поэтому вся жизнь его была мраком, и проповедуемое им искоренение свободы служит не Богу, а бесу. Не потому ли таких людей называют «мракобесами»?
Однако не означает ли это, что человеку подобает формальная и безмерная свобода? Не есть ли это свобода творческого разнуздания, свобода разврата в любви, свобода религиозных извращений и бесчинств?







