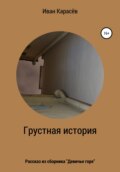Иван Карасёв
Майские сны под липами Саксонии
МАЙСКИЕ СНЫ ПОД ЛИПАМИ САКСОНИИ
– Петька, Петька, воды принеси!
…
– Ну воды принеси!
…
– Петька!
Наконец он понял, что проснулся окончательно. Уже не раз и не два он выкарабкивался из мутного царства сновидений, которые тут же забывал. Но вот этот сон, если уж приходил, всегда выводил его из утренней полудрёмы, когда то просыпаешься, то снова забываешься в другой, придуманной, но такой осязаемой реальности. Вот и сейчас веки разлепились, и утренний свет, давно заливавший всю комнату, накрыл и его.
Давным-давно, в другой жизни, его долго будила мать, требуя наносить воды. Отца уже не было, он стал старшим мужчиной в доме, хотя усы ещё даже не пытались нарисоваться над верхней губой. Мать прервала его сон на самом интересном месте, он уже не помнил на каком, но с тех пор эти слова матери часто возвращались в его затуманенное Морфеем сознание и пробуждали полностью.
Сегодня тоже он так сладко спал на буржуйских перинах в брошенном немецком «хаусе» немного на отшибе небольшой деревни, в распахнутое окно пыталась ворваться покачиваемая лёгким ветерком ветка липы, её нежно-зелёные листики источали неповторимый аромат свежести новой весенней жизни. И никуда не нужно было спешить, бежать, исполнять: никто его не вызывал, никто не требовал срочно занять позиции, никто не гнал в атаку на очередную высоту. Но снова вернулся этот старый сон и опять напомнил ему, что жизнь идёт дальше, своим чередом, и его черёд в ней – рота из тридцати восьми оставшихся в строю бойцов, для которых вроде как всё закончилось, а вроде и нет. Все они очень разные: совсем молодые и постарше, добрые и злые, щедрые и скупые, смелые и не совсем. Но все они прошли с ним, командиром, сквозь огонь, все теряли товарищей, и все очень хотели жить, особенно сейчас.
Матери он уже не увидит, не дождалась она сына с войны, слегла зимой и отдала Богу душу, от чего никто не знал, врачей в районе осталось мало, а сорокавосьмилетней деревенской бабе, натрудившейся в своей жизни до затвердевших как камень ладоней, уже и умереть не грех. Младшая сестра, не успевшая выскочить замуж до войны, так и написала: «Мамка сама сказала, не надо врача, всё одно помру!» Теперь сеструхе одной тянуть на себе хозяйство, старшая вряд ли поможет, она без мужа, сгинувшего где-то в сорок первом, ей вдвоём со свекровью ребятишек годовать.
Родных он в последний раз навещал совсем давно, казалось, сто лет назад. После двух лет службы по призыву его отпустили на побывку. Это было за год до войны, кое-что стало забываться. Недавно поймал себя на том, что не мог вспомнить как звали мать его приятеля и дружка с края деревни. Они жили особняком ото всех, за их домом – поле и лес, куда бегали играть в красных и белых.
Он усмехнулся про себя: «В красных и белых… Наверное, теперь дети играют в наших и немцев и долго ещё будут». Самой войне порой казалось конца не будет, а вот же, всё, всё! А тогда, в последних числах января сорок второго, когда их, военных железнодорожников, умевших забивать костыли, но не очень хорошо знакомых с собственным оружием и совсем не представлявших как атаковать засевшего в хорошо укреплённых позициях противника, бросили под немецкие пули в заснеженных полях подо Ржевом, тогда даже представить себе было невозможно, что она, война эта, когда-нибудь закончится.
Пулемётные очереди и винтовочные выстрелы оборонявшихся выкашивали их десятками, они пластались на перерытом разрывами снарядов снегу и ждали, ждали, когда можно будет отползти назад. Командиры напрасно размахивали «наганами», стоило кому-то встать, как ему сразу же доставалась порция немецкого свинца. Две первых атаки были самыми страшными, полбригады полегло. Потом начальство что-то поняло, что-то переменило в том, что называется умным словом тактика, и они даже взяли несколько деревень, даже Волгу по льду форсировали и… начали умирать. Сначала, конечно, голодать: в конце марта река вскрылась – ледоход, и подвоз прекратился. Жрали всё – коренья, кору деревьев, сшибленная метким выстрелом галка считалась чудным деликатесом.
Лёд шёл долго, мучительно долго, дней десять. Кончились патроны, пару атак немцев отбили штыками, пока ещё сил хватало. Немцы плюнули, видать, решили, что русские сами подохнут. Включили патефон с «Катюшей» и через репродуктор обещали каждому, кто перебежит, по банке тушёнки. Некоторые не выдерживали. Он не пошёл, не поверил, хоть и расписывал усиленный голос его бывшего товарища Сеньки Заводского все прелести жизни в плену. Наконец, наладили переправу, но лодок не было, только патроны да сухари иногда доставляли на плотах, которые немцы топили без счёта, и голодуха продолжалась. Ему повезло, в начале апреля зацепило осколком миномётной мины, а плотик, на котором эвакуировали, не потопил немецкий снаряд: стоял густой туман и никакие ракеты не помогали немцам устроить иллюминацию над рекой, фашисты лупили вслепую и без толку.
Потом полгода его, раненого, оголодавшего доходягу, выхаживали в госпитале в городе Ковров, а после лечения отправили в училище. «Семь классов есть, срочную отслужил, повоевал, значит боевой опыт имеется!» – сказал председатель комиссии и подмахнул резолюцию «Направить на учёбу в пехотное училище». Петька ухмыльнулся, когда услышал вердикт, тоже мне, нашли боевой опыт, но от учёбы отказываться не стал, шесть месяцев ещё грыз гранит военной науки вперемежку с разгрузкой угля и заготовками дров.
И теперь он не Петька, и не рядовой красноармеец, а старший лейтенант Каблуков. Командир третьей роты. И за плечами у него – Курская дуга, Днепр, Польша и три ранения. И всё, больше не будет. Уже три дня без войны. И четвёртый раз подряд он просыпается на этих белоснежных простынях, затягиваясь первой утренней цигаркой прямо в кровати с резным изголовьем. Даже в госпитале, где в последний раз спал на чистом белье, смолить разрешалось только в курилке. А тут – благодать, блаженство.
Он потянулся лёжа, ничто в нутре кровати не скрипнуло – «умеют, черти жить с комфортом!» Каблуков в конце концов встал («хватит валяться!»), пригладил свои жиденькие, бесцветно-блёклые волосёнки и распахнул окно. По небу, которое с окончанием войны стало ещё голубее, обретя какой-то забытый в пороховом дыму цвет, плыли редкие облака, на развесистой ольхе, метрах в двадцати впереди чирикала птичка, незнакомой Каблукову, выросшему под Новгородом, породы. Идиллия. Даже обычная суета внизу, во дворе, нисколько не портила её, а, наоборот, дополняла своей деревенской повседневностью: кто возился с чайником, кто стирал кальсоны, кто растирал грудь холодной водой из колодца, а совсем молоденький солдатик из прибывших перед последним наступлением крутил ручку диковинной немецкой сушилки для белья. Полроты квартировало в этой усадьбе, места в доме хватало: шесть комнат, не считая кухни. Некоторые всё же по весенней погоде предпочли сеновал – не привыкли спать в настоящих хоромах с толстыми каменными стенами, душно, говорили. Командиру выделили хозяйскую комнату с большим супружеским ложем. «Мы тебе, лейтенант, ещё и бабу найдём, – сказал заправлявший всем ротным хозяйством старшина, – так что будешь тут как барин барствовать!» Вторая половина подразделения устроилась в паре километров примерно, в соседней деревне. Им дали этот сектор и велели контролировать территорию – ещё немало вооружённых немцев шаталось по лесам.
Со своей ротой Каблуков был с июля, прошёл от украинского Луцка до Саксонии, сначала взводным, потом, когда тяжёло ранило прежнего командира, Каблукова назначили комроты. За это время пару раз поменялся состав: кого убило, кого ранило. Особенно много потеряли в августе на плацдарме за Вислой, потом – при прорыве немецкой обороны в январе и в апреле, уже на Одере, под Форстом. Но костяк роты оставался, «старичков» пули облетали, первыми погибали совсем молодые, восемнадцатилетние, а иным и того меньше было. По всему чувствовалось, что в деревнях далёкой России выметали по сусекам, силы страны на пределе, вовремя Победа пришла.
– Товарищ старший лейтенант, чай! – Это его новый ординарец, Василёк, невысокого роста разбитной паренёк из калужской Тарусы, без стука вошёл в комнату, от манер солдаты за годы войны отучились, даже если знали их раньше. Каблуков кивнул, мол, давай. Прежний ординарец, Петренко, чая никогда не приносил, угрюмый был такой, всё время только «угу», «сичас», но Каблукова это не смущало, не до того было, и когда во втором эшелоне стояли тоже от ординарца много не требовал. Каблуков всегда ел из общего котла и не гнушался сухарём из солдатского кармана. Немецкий снайпер под Зоммерфельдом влупил Петренко прямо в висок девять граммов рейнского металла. Наверное, перепутал с ротным, они вдвоём шли – командир и ординарец, невысокий, в заляпанном грязью мундире, Каблуков и могучий, широкоплечий Петренко в офицерской фуражке – это была его слабость. За неё и поплатился.
Из фаянсовой чашечки на блюдце клубочками вываливал пар. Василёк услужливо поставил принесённое на прикроватную тумбочку, положил рядом два куска рафинада, серебряную ложечку и молча удалился.
«И точно барствую, прав был старшина, а может, так и должно быть, мы ж заслужили, Василёк вон тоже, небось дрых всю ночь на бауэрских перинах».
Не торопясь, это уже стало приятной привычкой в последнее время, Каблуков выпил чай из чашки с какими-то полуголыми тётками и ангелочками, оделся и спустился вниз: командирские обязанности всё же никто не отменял.
Уставные порядки фронтовики когда-то учили, но давно забыли. Никто не вытягивался в струнку при виде ротного, не отдавал честь, обычно ограничивались лишь коротким «Здравия желаю» или его эвфемизмом: «Как спалось, товарищ лейтенант». Полное звание командира мало кто считал нужным произносить. Но Каблуков не обижался, давно привык, в бою каждое лишнее слово может стать последним.
– Лизунов, кто в карауле сейчас?
Сержант Лизунов здесь был его негласным замом по строевой.
– Да никто, товарищ старший лейтенант, – словно для оправдания выговаривая полный чин командира, признался Лизунов, – поглядываем помаленьку. Нет никого.
– Совсем распустились, мать вашу, быстро назначить караульных!
– Есть, товарищ лейтенант! – гаркнул сержант, и уже совсем спокойным, размеренным тоном. – Назначим, не волнуйся, лейтенант, начальство далеко, и оно гуляет.
Что у комбата которые сутки шла пьянка с вином из фольварка, о том знали все.
Лизунов был одним из старожилов роты, чуть ли не от Днепра топал он в ней солдатскими дорогами. Дважды был ранен, но оба раза дальше медсанбата не попадал и возвращался в ставшее почти родным «хозяйство».
У него была масса недостатков. К примеру, он любил не зло поизмываться над ротными новичками, бывало скажет с напускной серьёзностью такому чумазому пареньку двадцать шестого года рождения, окопнику первого дня: «А ты чего это воротничок не подшил?» А у того и так крыша едет, он за последние двадцать четыре часа жизнь заново узнал и умирал пару раз, вот и начинает судорожно вспоминать куда он свой позавчерашний воротничок подевал. А Лизунов постращает того минут пять, а потом хлопнет по плечу: «Да ладно, шутю я, шутю!». Ещё сержант отличался склонностью к выпивке и не раз товарищи приводили его в расположение в бесчувственном состоянии, лежал на чужих руках Лизунов и не соображал ни грамма. К тому же был слаб на женский пол – невзрачный и маленького росточка, ушастый и с оспинами на скуластой физиономии он готов был волочиться за любой регулировщицей или связисткой, и, самое удивительное, те порой (когда обстоятельства позволяли) отвечали ему взаимностью.
Зато в марте он спас свой взвод, дав ему возможность отойти. Оттолкнул растерявшегося под градом пуль первого номера «Дегтяря» и сам залёг за пулемёт. Крикнул неопытному взводному, чтоб уводил людей, и, расстреляв два диска, дал остальным возможность отойти. Как он сам спасся, никому не рассказывал, добрался до своих только ночью, без пулемёта и с посечённым мелкими осколками кирпича лицом. В санвзводе потом больше часа чистили и дезинфицировали мелкие ранки.
И ещё Лизунов умел быть благодарным человеком. Как-то в первых числах мая он вдруг ни с того, ни с сего преподнёс старшине женские серёжки, золотые, с пробой. Буркнув: «Возьми, жене подаришь, в пустом доме на соседней улице нашёл, забыли, видать, впопыхах». Удивлённый старшина смотрел то на сержанта, то на серёжки, не понимая за что это ему такой респект случился, но отказываться не стал, не в его привычке было отказываться: «Дают – бери, бьют – беги!» – любил повторять. И то, и другое делал регулярно, смелостью не отличался, старался при первой же возможности унести ноги с передовой, накормит роту, и поминай как звали: «Я на продсклад!» Наверное, с минуту старшина переводил взгляд с серёжек на словно язык проглотившего Лизунова, и, наконец, дошло: «А-а, ты за тот случай, так я уже и забыл. Ну ладно, спасибо, – и протянул руку для рукопожатия, – Маня моя будет довольна, у неё в жизнь таких побрякушек не было!»
История та случилась ещё в Силезии, в Зоммерфельде, и едва не кончилась для Лизунова, мягко говоря, печально. Однажды утром в расположение роты пришла молодая, лет двадцати пяти, немка и, тыкая пальцем в сторону Лизунова, начала что-то кричать. Командир второго взвода перевёл:
– Говорит, он её изнасиловал сегодня ночью.
Каблуков оторопел, только недавно был зачитан приказ маршала Конева, командующего фронтом, где за подобные штучки обещали расстрел. Он отвёл в сторону Лизунова и спросил
– Было это?
– А чё, я один что ли? Вон в первой роте троих поймали и ничего! – Лизунов как будто ненароком пригладил рукой награды на левой стороне груди.
– Это когда было то! Ты где был позавчера, когда приказ маршала читали? И выплюнь папиросу, когда с тобой разговаривает командир!
Лизунов повиновался, но без пререканий не обошлось.
– Какой приказ, лейтенант? –Меня же тогда со старшиной на вещевой склад посылали.
– Ты что дурак, Лизунов? Нашёл время, тебя же расстреляют теперь! Кого-то уже прямо перед строем согласно приказа шлёпнули! Ты чем думал, каким местом, олух ты царя небесного? У тебя голова-то где была, между ног?
Лизунов побледнел как смерть и замолчал, изучая носки своих сапог.
Тут вмешался старшина роты:
– Погоди, лейтенант, дай я с ней поговорю.
И старшина, рязанский колхозный бригадир, знавший по-немецки только «Гитлер капут» и «хэнде хох», быстро разрулил конфликт. Он помахал перед носом у оголодавшей немки буханкой хлеба, чётко проговаривая каждое слово, сказал: «Ну давай, я тебе буханку, а ты больше никому не скажешь» и выразительным жестом приставил указательный палец правой руки к губам. Жертва Лизунова быстро сообразила в чём дело и, взяв хлеб, ушла с ним подмышкой, довольная. В роте тогда ещё воевало шестьдесят человек и наскрести с миру по нитке на буханку старшине не составляло никакого труда, он это умел и иногда даже употреблял для общего блага. Когда всё закончилось, Лизунов дал волю чувствам и, отвернувшись, смахнул несколько слезинок с глаз.
На следующий день немка пришла опять и знаками дала понять, что не против заработать ещё хлеба. У старшины нашлась прибережённая «чернушка». Потом видели, как он возвращался с немкой из разбитого дома с черепичной крышей. Через несколько часов она появилась в третий раз, но Каблуков демонстративно расстегнул кобуру, вытащил свой ТТ и помахал у неё перед носом:
– Видала, вот твоя буханка!
Она всё поняла, а комвзвода-2, интеллигентный юноша из Москвы с раскосыми, татарскими глазами, слегка попрекнул Каблукова:
– Зачем Вы так, товарищ старший лейтенант, у неё двое детей дома, а кормить нечем.
Каблуков только недоумённо посмотрел на своего подчинённого, совсем не ожидал от него такой жалостной прыти:
– А наших баб кто кормить будет? Ты что ли? Есениным? – Все знали, что в офицерской планшетке младший лейтенант таскал сборник стихов Сергея Есенина и в свободные минуты любил побыть наедине с книжкой.
Тот ничего не ответил, баб у него в жизни ещё не было, и не судьба была их познать: через три дня накормил его досыта свинцовой кашей немецкий пулемётчик.
Лизунова же исправить можно было как горбатого, только могилой, недели две после того происшествия сидел тише воды, ниже травы, а потом опять взялся за своё, только опыт учёл. Запасался едой в оставленных деревенских домах, где в погребах попадались целые круги колбасы да шматы шпика, и потом предлагал оголодавшим немкам в городах побольше за проявление взаимности. Наверное, были такие, кто отказывал, но Лизунова отличало упорство, он знал своё дело и немецких баб любил без меры. Говорил: «Ну они такие все нежные, столько могут в постели, лейтенант, не то, что наши, не просто ноги раздвигают!» Каблуков слушал и ничего не говорил в ответ, у него в самом первом госпитале осталась зазноба, приковавшая его к себе телесной страстью, но вот уже полгода, как она молчала, не отвечала на письма. Наверное, подцепила кого званием постарше.
А вот Лизунов не отличался постоянством, у него всегда самой лучшей была сегодняшняя, та, что позволяла успешно завершиться свободной охоте. Он ещё умудрялся организовывать свои экспедиции так, что Каблуков не замечал его отсутствия, а, если случалось попасться, то всем своим видом показывал, что осознаёт и исправится. Но и он сам, и Каблуков знали какой вариант исправления имелся у сержанта, посему ротный ставил внеочередным дежурным по роте да ограничивался только ненужными назиданиями: «Смотри, подцепишь триппер рано или поздно!» Только комбат, знавший про похождения Лизунова, однажды строго выговорил ему:
– Увижу ещё раз – пойдёшь под суд!
– За что, товарищ майор, она же добровольно! – кивнул он в сторону стоявшей рядом и глупо улыбавшейся, так и не понявшей ничего, очередной «Гретхен».
– А вот там и узнаешь за что! – рубанул майор и добавил: – Чтоб духу её здесь больше не было!
Лизунов послушно ответил:
– Есть! Разрешите идти?
И, получив разрешение, крутнулся на каблуках и исчез, бормоча себе под нос: «Вот же жидовская натура, боевого сержанта так, прилюдно, небось, просто завидно ему, потомку местечкового портного, что красивые, ногастые немки не ему, а мне, дают!»
Но с тех пор Лизунов обделывал свои делишки так, чтоб никто не мог стукнуть комбату и, выслушивая очередной выговор ротного, стоял понурив голову, мол, прости, лейтенант, больше не повторится, а комбату вообще старался на глаза не попадаться.
Вот опять Лизунов, виновато опустив голову, получал нахлобучку от своего старшего лейтенанта. Тот, напомнил, что, кроме веселившегося начальства, есть ещё и немцы, вооружённые, слоняющиеся по округе, и закончил кратко:
– Исполнять!
– Есть исполнять, товарищ старший лейтенант!
Лизунов сообразил, что окопному панибратству не место тут и резво принялся за организацию охраны расположения роты. Вслед ему, понимающе переглянувшись, негромко посмеялись двое неразлучных земляков из Тулы: «Добрался ротный до Лизуна, пусть пошуршит теперь по службе, а то всё карты да всякие афёрки со старшиной выстраивает».
***
– Хайнц!
…
– Хайнц!
– Ааанналяйн! – потягиваясь в своём импровизированном шалашике, протянул Хайнц, он никак не мог разодрать глаза. Уж слишком хорош был сон: прямо в блиндаже на Одере, меньше, чем в километре от русских, не с того ни с сего появилась Анналяйн и совершенно не стесняясь товарищей Хайнца, быстро сбросила с себя сиреневое платьице, кружевную комбинацию и всё остальное да прыгнула к своему дорогому Хайнцу.
– Хайнц! Хайнц! – голос Анналяйн звучал не так, как обычно, а несколько грубовато, как будто она курила сто лет. Хайнц окончательно проснулся и с горечью убедился, что никакой Анналяйн рядом не было. Зато поблизости опять раздался всё тот же прокуренный голос:
– Ханшин! Ох, Ханшин!
Хайнц осторожно раздвинул зашелестевшие ветки и сразу отпрянул: метров в двадцати, за старой, кряжистой липой, какая-то мужиковатая, толстая баба в русской форме жадно впилась губами в лицо молоденького ещё безусого солдатика. Она его зацеловывала, как только могла, от лба до шеи, от щеки до щеки, не забывая присосаться к удивлённо открытым устам своего избранника. Тот и не упирался, и не торопился дать ход событиям. По всему было видно, что он колеблется, знать не так он представлял себе первое романтическое свидание.
Сон как рукой сняло. «Только бы она не надумала тащить его в шалаш, только не сюда!» – стучало в голове у Хайнца. Толстуха и впрямь, скорей всего, надеялась воспользоваться временным убежищем Хайнца, но не получилось. Юнец, весь извиваясь, как змея, ухитрился вырвался из её жарких объятий, как-то испуганно огляделся по сторонам, что-то резко сказал по-русски, партнёрша вяло возразила, однако момент был упущен категорически и несостоявшаяся парочка зашагала в другую сторону. «Звери и вправду звери, – подумал Хайнц, – у них всё не как у людей, эта корова ему в матери годится, а хочет в постель затащить».
Потом бабища ещё несколько раз пыталась приложиться всем своим массивным телом к солдатику и иногда ей удавалось опять вцепиться в его губы, однако это было лишь красивой иллюстрацией полного фиаско её намерений.
Обер-ефрейтор Хайнц Шмидт уже семнадцать дней шёл из-под Пренцлау на юго-запад, в родной городок Фульда на одноимённой реке. Двадцать шестого апреля, его отступавший полк, здорово потрёпанный на западном берегу Одера, настигли русские танки, эти страшные Т-34 с длинными хоботами стволов. Они размазали полковую колонну как растаявшее сливочное масло по засохшему хлебу. Ни одна пушка развернуться не успела, ни один фаустпатрон, которых у них почти не оставалось, выстрелить не успел. Танки напали неожиданно, из-за угла, как уличные разбойники в старых романах. Они явно знали, что к перекрёстку за ценебекским лесом движутся на запад немцы, авиаразведка у русских была хорошо поставлена. Самыми первыми под их гусеницы попали повозки полковых санитаров с ранеными, затем штаб во главе с командиром оберст-лейтенантом Химмелем – штабные машины Химмель держал в составе колонны, чтобы не отрываться от подчинённых. Потом танки, шедшие уступом, стали накручивать на гусеницы мясо остатков полка. Вид кусков человеческой плоти на них мог бы свести с ума любого, но тут было не до сумасшествия, каждый думал только о том, как спастись, и судьба людей, с которыми ещё вчера делился кров и хлеб, никого не трогала. Обычный, животный страх овладел всей этой человеческой массой, что ещё несколько минут назад считалась боевой единицей, отважно дралась с русскими под Кёнигсбергом и на Одере и называлась 326 пехотным полком. Несколько смельчаков пытались поймать стальные громадины в прицел фаустпатрона, но их тут же скашивала пулемётная очередь. Только задняя часть колонны, в которой вымотанный за четыре дня Хайнц устало шагал с тридцатью выжившими товарищами по роте, успела раствориться в невысоком подлеске. Но и их догоняли пули и рвали на кусочки снаряды.
Однако Хайнцу повезло, в который раз повезло, и он для себя твёрдо решил, что в последний, не может ведь везти бесконечно. И поэтому он шёл очень осторожно – только ночью и желательно лесами, за эти семнадцать дней он продвинулся по прямой лишь километров на двести, несколько раз слышал русскую речь, замирая в тревожном ожидании, прижимался к земле, срастаясь с ней. Ему опять везло: ничего не подозревавшие советские солдаты проходили мимо. Они обычно весело балагурили и не очень-то смотрели по сторонам. По всему чувствовалось – война для них кончилась. На одном хуторе, куда Хайнц зашёл попросить еды, ему сказали, что русские и американцы с англичанами соединились на Эльбе, а берлинский гарнизон капитулировал. Германии больше не существовало. Остались лишь зоны оккупации – русская, американская с английской и даже французы где-то пристроились. И теперь он хотел попасть домой, за Эльбу, в городок Фульда, к своей невесте Анналяйн, милой, розовощёкой и кудрявой Анналяйн. Хотел снова гладить её соломенного цвета волосы и ощущать тепло мягкого тела. Мысли о матери к Хайнцу почти никогда не приходили, у неё был второй муж, заменивший умершего от туберкулёза отца, и двое детей от нового супруга. Мать жила своей жизнью, ей было не до Хайнца. Только воспоминания о милой Анналяйн согревали его уставшую и одеревеневшую от пережитого душу. Только ей он жил. А вокруг были одни русские, эти большевистские звери, которым только попадись, и они сразу упекут тебя в Сибирь, в лютые холода, где их каторжники валят лес и дохнут, как мухи.
В том, что русские – звери, Хайнц убедился, когда их полк, прорвавшийся из Нормандии через всю Францию в Эльзас, перебросили в Восточную Пруссию. Во Франции тоже было не сладко, особенно в нормандской мясорубке, там самолёты союзников не давали поднять голову, а американские «Шерманы» безжалостно расстреливали их позиции с безопасного для себя расстояния. Потом на отступавшие колонны нападали из-за угла французы: невесть откуда взявшиеся подпольщики-макизары и даже подонки-полицейские, ещё вчера безропотно, как принято у холуёв, выполнявшие приказы немецких хозяев. Их почти невозможно было поймать, немцев подкарауливали во время их ночных маршей – днём не позволяли двигаться безраздельные хозяева неба – крылатые машины с белой звездой в синем круге и такой же белой полоской.
Однако теперь, после увиденного на Восточном фронте, ужас и кровь тяжёлых переходов по Франции, казались ему обычными боевыми буднями с неизбежной данью Молоху в виде человеческих жизней. Он и раньше знал, что большевики нелюди, но после зимнего отступления в сторону Пиллау, когда они вместе с беженцами шли по дороге, окружённой по краям сметённым и застывшим после оттепели почти до состояния стекла, снегом, он твёрдо усвоил – хуже, чем большевики никого быть не может. Люди брели на морозе в жуткой тесноте, валились друг на друга и поднимались, но не всегда, захлёбывались в своей и чужой крови. А с неба на их головы скидывали свой смертоносный груз краснозвёздые самолёты. Потом они, истратив весь боезапас по беззащитным человечкам, начали рубить им головы винтами. От охватившего всех ужаса колонна превратилась в толпу, солдаты и беженцы перемешались, все пытались покинуть этот жуткий, неописуемый ад, отталкивая друг друга, лезли на остекленевшие сугробы, падали, снова лезли. Кричали женщины, вопили дети, дико орали от страха забывшие свой долг мужчины. Кому-то повезло оказаться внизу, под чужими телами, кому-то удалось выкарабаться из этого ада через снежные завалы. Зимняя, грязно-белая дорога стала красной, а русские Ил-2 «Der schwarz Tod», «Чёрная смерть» никак не унимались. Они снижались невероятно низко, и их длинные пропеллеры становились красными от крови. Самолёты улетели лишь когда стрелки датчиков горючего стали упрямо клониться к нулю. Тракт этот сразу окрестили дорогой смерти, с него ночью увезли несколько сотен трупов, чуть ли не тысячу, а на следующий день двух сбитых русских лётчиков оберст-лейтенант застрелил лично. Один из них, молодой, наверное, восемнадцатилетний пацан со слезами на глазах умолял о пощаде, даже смог по-немецки что-то сказать о женевской конвенции, но командир полка был твёрд в своём решении и всадил по пуле в затылок каждому, приговаривая: «Сталину своему с того света напишешь про конвенцию!».
Оберст-лейтенант остался там, на поле за Ценебекским лесом, русский механик-водитель специально довернул машину левее, чтобы переехать получившее три пули из пулемёта ДТ тело немца в форме подполковника без слетевшей с головы фуражки. Кишки командира полка намотались на замызганные кровью и обляпанные кусками человечины гусеницы Т-34 с бортовым номером 109 и замысловатым ромбиком с чёрточками.
А Хайнц шёл, упорно шёл к своей цели – домику из красного кирпича в одноэтажном городке Фульда. Он не знал, что Анналяйн не получила его последнее письмо, затерявшееся в военной кутерьме, и считала своего жениха погибшим или попавшим в русский плен, что для неё было понятиями равносильными. Посему миловидная блондинка со внушительными «буферами», сводившими с ума Хайнца, начала упорно строить глазки американскому сержанту из расположившегося в их квартале взвода военной полиции. Джереми Хопкинкс намерения симпатичной немочки раскусил быстро и уже четыре ночи как отдыхал в её жарких объятиях на сеновале за курятником папаши Курта – престарелого отца миленькой Энн, как она стала себя называть. Хайнц этого не знал и всеми фибрами души стремился к своей Анналяйн, шёл, порой еле волоча от усталости ноги, шёл, продирался сквозь заросли, переплывал неширокие речки, работая одной правой рукой, левая держала над головой одежду, завязанную в узелок на кончике длинной палки. Он согревал себя мыслями о предстоящей встрече с любимой, шёл, шарахаясь от каждого звука, в каждом кустике видя подвох. Он шёл к ней, а она уже мысленно переехала со своим Джереми в далёкую и счастливую Пенсильванию. Правда бедная Аннхен не знала, что у Джереми в том прекрасном штате имелась дородная женушка и двое детей – обручальное кольцо Джереми, как только оказался на европейском континенте, в Нормандии, предусмотрительно спрятал на дно левого напузного патронника – туда никто, кроме него лапу не запускал.
Невезучая Аннхен про семейное положение любовника ничего не ведала, а потому продолжала добиваться своей цели – жить в этой «вонючей стране» она не хотела, то ли дело – американские Штаты, там всё, там жизнь, достойная и зажиточная, там нет никаких фюреров, там нет войны, нет бомб, там будет её добрый Джереми, и вечное просперити. Добрый Джереми подкармливал Энн настоящим шоколадом – она его не видела уже лет пять, а когда-то безумно любила, обожала эти коричневые плитки – и давал ей помечтать о совместной жизни за океаном. Правда, порой он ловил себя на мысли, что и сам уже вполне представляет себя в родной Америке вместе с милашкой Энн, но стоило ему лишь вспомнить маленькое, смеющееся личико его шестилетней теперь Лиззи, как те наивные мысли покидали трезвое, очень рационально устроенное сознание американского сержанта.
Аннхен стремилась в Америку, а Хайнц – к ней, в родную Фульду, и ничто его пока не останавливало на этом трудном пути. Однажды он даже чуть не прирезал ничего не подозревавшего русского ефрейтора, отошедшего по нужде. Но русского судьба хранила, он остановился в двух метрах от замершего в траве Хайнца и тот, сжав зубы, дабы сдержать клокотавшую в нём злость только наблюдал за дугообразной жёлтой струёй. Конечно, ему опять повезло, не накликал на себя беду, и по окончании действа, дождавшись ухода русских, рванул со всех ног с проклятого места. Хайнц шёл, ему надо было ещё преодолеть больше двухсот трудных километров, голодать, обрастать вшами и всякий раз сливаться с травой при виде людей в светло-зелёных пилотках, которые, Хайнц в это искренне верил, только и думали о том, чтобы отправить его, здорового двадцатилетнего немецкого парня, в сибирскую стужу на утеху лагерным вертухаям с раскосыми азиатскими глазами.