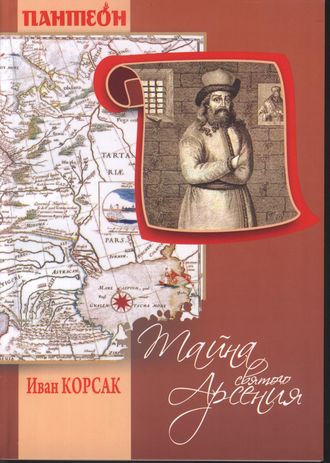
Иван Корсак
Тайна Святого Арсения
Вот и все. Завтра приговор приведут в исполнение. А может, в последний момент примчит гонец на коне, и, задыхаясь, зачитает помилование? То самое, которое видел он с размашистой подписью императрицы, видел собственными глазами в руках графа Орлова?
26
Письмо давалось банкиру Судерланду трудно, писал как-то принуждённо, да еще и перо, словно почувствовало настроение хозяина, почему-то царапало и брызгало недовольно чернилами.
Писал он уже третье письмо в Голландию о кредите для императрицы – два предыдущие пришли с отказом из-за несвоевременного расчета.
– К вам какой-то полицейский, – появился на пороге камердинер, перебив и без того несвязные мысли.
Полицмейстер долго мялся под вопросительным взглядом банкира, никак не решался объяснить, почему он здесь.
– Господин Судерланд, я должен выполнить приказание императрицы, – запинаясь, проговорил наконец. – Не знаю причину гнева ее величества, но наказание сурово.
"Возможно, накликал высокий гнев, потому что вовремя не привез ей средства, – первое, что пришло в голову банкиру. – Но где здесь моя вина, если банкирские дома боятся".
– Вы меня арестуете?
– Хуже, господин Судерланд. У меня даже не хватает духу, чтобы вымолвить это наказание.
– В Сибирь разве будете отправлять?
"А может, это императрица схватилась, что во время прошлой беседы с ним наедине наговорила лишнего… И теперь свидетеля ее откровений о величественном мифе России лучше убрать?".
– И что же она приказала? – сорвался банкир. – Не станут же меня полосовать кнутами при людях и рвать ноздри, как у вас здесь заведено?!
– Ее величество, – съёжился полицмейстер, – приказала сделать из вас чучело.
В Судерланда прямо таки руки занемели, он никак не мог понять услышанное, уяснить даже, что это должно все означать.
– Как чучело? Если пьяны, то скорее спать, а с ума сошли – к врачу.
– Я сам не могу прийти в себя, – пожаловался полицмейстер. – Попробовал было объяснить императрице и расспросить, как это можно из живого человека, но она сильно рассердилась на меня, накричала и выгнала прочь со словами: "Ваша обязанность – точно выполнить мое распоряжение!".
Банкир все еще не мог опомниться от неслыханной напасти, в которую попал неизвестным образом, но должен был собираться, потому что ему только пятнадцать минут на сборы давали. Он стал просить у полицмейстера разрешения, чтобы написать письмо императрице и просить хоть какого-нибудь объяснения этой неслыханной и ужасной диковине.
– Не велено, – крутил ошарашенно головой полицмейстер. – Боюсь…
В конце концов, как-то удалось Судерланду уговорить его, но везти письмо императрице наотрез отказался, разве что сможет доставить графу Брюсу.
Граф, прочитав письмо, долго хлопал глазами, как будто туда ему попала жгучая соринка, и оглянулся, нет ли кого из прислужников на всякий случай поблизости, а тогда покрутил пальцем около виска:
– А вы уже давно того…
Не тратя попусту время, прыгнул Брюс в карету и помчал в Зимний.
Императрица, заслышав рассказ графа, только за голову ухватилась.
– Бог ты мой, этот полицмейстер действительно спятил! Бегите, граф, быстренько, чтобы тот придурок по-настоящему беды не наделал, и успокойте как-то банкира.
Граф круто развернулся, и уже в двери его догнал хохот императрицы.
– Я уже догадалась, что случилось. У меня была такая милая собачка, я так ее любила и ласкала, и сегодня, к сожалению, она сдохла. Ее называла я Судерландом, потому что это был подарок банкира. Мне не хотелось расставаться с собачкой, вот я и приказала из нее изготовить чучело… А на полицмейстера накричала, так как думала, что не хочет делать этого из гордыни, что поручение ниже его достоинства…
Помилованный Судерланд еще долго не мог дописать письмо в Голландию, голова трещала, как после тяжелого, безмерного перепоя, совсем так, как недавно после бала его угостил Орлов: "Не выпьешь – за ворот буду лить". И таки вылил целехонький бокал, а дальше предпочёл он лучше уже пить.
" В веселую страну меня забросила судьба, – думал банкир. – Здесь сделают из тебя чучело охотно… А может, это и хорошо, на таких зарабатывать легче".
И это было его единственным утешением.
27
Топоры плотников тюкали наперерез, отзвук того тюканья звонко катился прилегающими еще сонными улицами Петербурга, плотники при слабеньком свете костров, что слились и потрескивали, недовольные сырыми ветками, спешили управиться к утру, поэтому не очень и брались. Эшафот к восходу солнца они так-сяк починили, маляры даже краску успели размазать – дело же на раз, зачем так стараться.
Василия Мировича привезли заранее, в закрытой будке, и сразу же выставили охрану из двух десятков мрачных и невыспавшихся солдат. Василию не видно было, что творится вовне, он оставался дальше наедине с мыслями – горечь прошла, обида, что попал в обман, тоже осталась где-то там, в его камере-одиночке – он никому зла не сделал, он только освобождал ни в чём неповинного человека, с малых лет ставшего пленником каменных казематов.
Его выпустили из темной будки, когда уже человеческий гул заполнил все вокруг, Василий шагнул в растворенную дверцу и даже зажмурился. Над пестрой толпой, которая гудела и галдела, жадно ожидая кровавого зрелища, над деревьями, что оранжевым пламенем подожгла осень, подымалось невинно чистое небо, размашистое пространство невероятной голубизны.
На минуту толпа утихла, и первым по ступеням на эшафот стал подниматься палач. В черно– красном балахоне с капюшоном, только прорези узенькие для глаз, он шел ступенями как-то неуверенно, как будто не был убежден в прочности спешно смастерённых тех ступенек – он никогда не служил палачом, его, самого обычного солдата, который имел несчастье проштрафиться, просто заставили, а когда стал отнекиваться, что не умеет такого дела, то заставили учиться, отрубывая бараньи головы.
У священника тоже не было почему-то привычного торжества, ссутулившийся и притихший, он со стороны смотрелся так, словно это над его головой должен был упасть топор, который зловеще блеснул на плече у палача.
Василий в последний раз оглянулся кругом, как будто пробуя измерить взглядом эту бездонность погожего неба, немножко дольше задержался взгляд на юге, где должна была быть земля его прадедов.
Мирович окинул глазом люд, который собрался вокруг, толкаясь и стремясь пробраться вперёд, ближе к эшафоту, детвору, что воробьями обсела заборы и даже выцарапалась на деревья, с интересом поглядывая среди желтых, не опавших до сих пор листьев. И вдруг в толпе он заметил Власьева и Чекина, обоих с сияющими лицами, радостными и улыбающимися. "Как?" – удивление, вероятно, последнее в жизни, просто таки передернуло Мировича. – Их же, убийц императора, арестовали вместе со мной".
И он все понял. Мировича императрица послала освобождать, а их – убивать Ивана Антоновича. Одним росчерком бритвы по горлу законного претендента на престол она избавилась и от конкурента, и возможного казацкого атамана, чей род и до сих пор не давал покоя престолу.
А Власьев с Чекиным только весело перемигнулись – им было чему радоваться. Сегодня утром каждый из них, негласных доносчиков Тайной Экспедиции, получил по семь тысяч рублей – армейский капитан имел только до пятидесяти рублей в год, они же за один взмах бритвы по горлу заработали себе на сто сорок лет вперёд. Ну, еще немножко потрудились, когда писали тайные доносы, – государственный архив сохранит их сорок пять ко дню смерти Ивана Антоновича.
А еще хотелось Василию оглянуться, не скачет ли, словно в сказке, в последний момент поспешный гонец с помилованием, которое видел собственными глазами, соломинка такая спасения, наивное и смешное желание. Но сказки нет, есть лишь неуклюже тесанный, спешно краской помазанный эшафот.
Мирович перекрестился и махнул рукой палачу – чего уж там… Блеснуло лезвие в солнечных лучах, вскрикнула толпа, и голова Василия уже катилась, брызгая кровью, помостом. Палач наклонился, и торжествующе поднял ее вверх, сторонясь кровяной струйки – он таки не напрасно учился, выполнил исправно порученное дело…
28
В храм, где ни души, Потемкин ступил первым – и сразу же отголосок его шагов вызвал неожиданное волнение. Сбылась мечта, его упорство перевесило, он сегодня будет венчаться. Императрица с дружкой вошла за ним, отворились царские врата, и священник уже подносит крест и Евангелие.
Зазвучал невидимый хор, потому что по уговору никто, кроме священника, не мог присутствовать на этом венчании. Потёмкин стоял рядом с императрицей и не мог преодолеть волнение, чувствовал лишь, как под тесьмою на лбу, закрывающей его незрячий глаз, выступает пот.
Батюшка подходит ближе к ним с двумя свечами, трижды благословляет, а когда наступило время ступить на платок, Григорий первым, даже дернулся, поставил ногу. Императрица, знающая поверье (кто первым ступит, тот будет старшим в доме), от этого тихо, словно поперхнулась, прыснула со смеху, но сразу же взяла себя в руки.
Трепетным голосом, прокашлявшись, батюшка просит перед Господом и свидетелями подтвердить свое решение вступить в церковный брак, а невесте дать обет.
– Я, Григорий, беру собе тебе, Екатерина, за малжонку и шлюбую тобе милость, веру и учтивость малженскую, а иж тебе не отпущу вплоть до смерти, так мы, Боже, в Тройцы Святой Единый, помози и все святыи".
– Я, Екатерина, шлюбую тобе милость, веру, учтивость и послушенство малженское."
Батюшка уже более твердым голосом читал Послание апостола Павла к ефесянам, но на слове "послушенство" мгновенно запнулся, обычный текст Апостола в уме обернулся неожиданным светским образом: "Какое может быть послушенство императрицы своему подданному, даже если он и ее муж?". Священник взглянул на невесту, не смея дальше читать молитву, но императрица только молчаливым кивком головы дала согласие продолжать.
Дальше венчание длилось уже без приключений и неожиданностей.
– Нововенчанным рабам Божьим, Григорию и Екатерине, сотвори, Господи, в здоровье и спасении многая и благая лета…
С особым торжеством императрица известила Потемкина:
– Приветствую тебя, муженёк, жалую тебе генерал-аншефа и назначаю вице-президентом Военной коллегии.
Два месяца тому назад он был назначен генерал-губернатором Малороссии. Отныне к именинам и праздникам он получал по сто тысяч, во всех императорских резиденциях жил и обслуживался дворцовым персоналом бесплатно.
В дальнейшем императрица с немецкой пунктуальностью следила, чтобы Потемкина не обходили награды. Особенно нравилось доставать ему иностранные ордена. Не всегда это легко давалось – как, нашептывали доброжелатели, любовникам цареубийцы, которая узурпировала трон? – но под ловкими действиями дипломатов упрямство чужеземных государей капитулировало.
В первую очередь Потемкина удостоили ордена Александра Невского и польского Белого Орла, присланного Станиславом Августом. Дальше дела шли уже легче. Потемкина императрица наградила орденом Андрея Первозванного, Фридрих ІІ прислал прусский – Белого Орла, Дания – Белого Слона, Швеция даровала орден Святого Серафима. Оскорбительно, конечно, что Людовик ХVІ, отказал в ордене Святого Духа и Золотого Руна, мол, этим орденом награждаются только католики. Георг ІІ сделает лишь круглые глаза, когда посол в Лондоне передаст просьбу об ордене Подвязки.
Принц де Линь как-то забросил Потемкину, что он мог бы стать князем Молдовии и Валахии.
-Да это мелочь, – отрицал Потемкин. – Если бы я захотел, то стал бы королем польским, я отказался от герцогства Курляндского. Я стою выше.
Екатерина ІІ – императрица. И она имела право на случайном куске бумаги писать Потемкину распоряжения для казначейства: "Возьми, сколько хочешь".
Щедроты государыни не обошли и родственников Григория. Троюродный брат Павел Потемкин стал наместником Кавказа, а брат Павла Михаил – главным инспектором Военной канцелярии, Александр Самойлов, племянник сестры, получит должность секретаря Государственного совета и генеральский чин, другие племянники пробьются в адъютанты императрицы.
29
В приемной императрицы Бергман, Ронцов и Корсаков сидели уже давно, чувствуя себя как-то скованно, они время от времени поддергивались от нетерпения и необычной для всех троих обстановки – все-таки впервые выпала им честь быть в этом зале. Трое сидели рядышком, держа каждый букет цветов, и только искоса, боковым каким-то зрением, ревниво поглядывали друг на друга.
Наконец вышла императрица, уже не с такой легкостью передвигая свое стареющее тело, как когда-то, но улыбающаяся и розовощекая – никогда не забывала перед выходом потереть лицо кусочком льда; офицеры схватились и вытянулись, держа букеты с правой стороны, как будто мушкеты, очень нужные уже прямо сейчас для боя.
Императрица подошла к офицерам, нашла каждому несколько ласковых слов, как и подобает матушке-государыне, разве что дольше задержалась около Корсакова, измерив его с ног до головы взглядом, которым оценивает обычно на рынке капризный покупатель необъезженного жеребца, мелко дрожащего от нетерпения и испуга.
– Мы еще, надеюсь, встретимся, – только и бросила ему.
А дальше жизнь закрутила офицера, как в весеннем бурном и мутном, с внезапными ямами водоворота, потоке. Корсакова повели сразу же к придворному лейб-медику Роджерсону, который возился с ним, вероятно, часа два. Роджерсон то прикладывал ухо к спине, то к груди, выстукивал по коленям, затребовал показать языка, он все ходил вокруг офицера, мурлыкая какую-то незнакомую песенку, словно главной его задачей было найти, к чему прицепиться, он так старался, но ему это, к пребольшому огорчению, никак не удавалось. В конце концов, он шлёпнул ладонью по спине офицера, что, вероятно, означало одобрение, и показал рукой на дверь, где в тот же момент, как привидение, появился многолетний камердинер императрицы Захарий Константинович.
– Вы, в первую очередь, должны доказать свою мужскую способность, – объяснил камердинер уже в столовой. – Советую поесть плотно, потому что три ночи вам экзамен сдавать пробир-фрейлине Анне Степановне Протасовой – женщина эта в любовных утешениях премудрая, выкрутит лучше, чем бывалый солдат онучу.
Камердинер не солгал, все три ночи Протасова не давала ему лежебочничать: с неприятным запахом изо рта, с кривыми волосатыми ногами она ему быстро набила оскомину и он, отворачиваясь, каждый раз понуждаемый, трясся, как на старой телеге по расквашенной осенним ненастьем, разбитой до предела дороге.
– Годится к строевой, – передала, наконец, новобранца назад камердинеру пробир-фрейлина.
А когда пришёл в себя спустя несколько суток, пригласила его Анна Степановна с Захарием Константиновичем отобедать. Потом уже до конца дня камердинер прихорашивал его и чем-то благоухающим смазывал, а уже в десять с суровым торжеством на лице камер-юнгфера Мария Саввовна Перекусихина повела его, одетого в роскошный китайский шлафрок, в опочивальню императрицы книги на ночь читать.
Много страниц перечел Корсаков, даже пошатывался, когда выходил из опочивальни, но когда вышел, то удивился миру, который всего за ночь изменился: камердинер, вчера разговаривавший как-то свысока, сегодня то и дело раболепно кланялся, проводя в отведенные ему апартаменты.
Лишь однажды охватила дрожь Корсакова. Едва он очутился в новоотведенном помещении, как вошел к нему митрополит Петербургский. "Убить ли надумали, раз владыка появился перед тем соборовать?" – зловещая догадка мелькнула, сковывая столбняком тело. Но владыка деловито взялся освящать помещение и его самого окропил свяченой водой, пряча почему-то глаза, бормотал вполголоса молитву и щедро обрызгивал, так что даже не сдержался Корсаков и рукавом вытер мокрый лоб.
– Ее императорское величество, – не замешкался известить Захарий, – соизволили назначить Вас при своем лице флигель-адъютантом и пожаловать сто тысяч рублей на первые карманные расходы.
И он подал флигель-адъютантский мундир с бриллиантовым аграфом.
Теперь Корсаков имел честь зимой в Эрмитаже, а летом в Царском Селе, в сад водить под ручку императрицу. В приемной терпеливо ожидали его внимания самые высшие государственные мужи, которые хлопотали по личным и государственным проблемам, приходили с приветствиями и щедрыми подарками.
"И все это за одну ночь", – подумалось как-то.
Корсаков ошибался, ему просто посчастливилось, потому что уже его преемникам надлежало сдавать экзамен, кроме Протасовой, еще и графине Брюс, и самой Перекусихе, и Уточкиной.
30
В Тайной экспедиции долго колебались, докладывать такую новость императрицы или нет. С одной стороны заманчиво, можно заслужить высокую похвалу: в экспедиции, мол, действительно знают все. А с другой, здесь можно попасть в переделку, тем более, если под плохое настроение. "А вы куда смотрите? А для чего казенный хлеб едите?"
Наконец, таки отважились и доложили, что в Забайкалье митрополита Арсения стали чествовать теперь не в меньшей мере, чем в Ростове и Ярославле, в прежних его епархиях. В народе распространились слухи, что после ареста вывезли митрополита в Иркутск, заключили в Вознесенском монастыре, потом за Байкал переправили, в Троицкое, дальше тайно в Нерчинск, пока не поступил рескрипт везти его назад в Россию. По дороге Арсений заболел и уже верст за сто семьдесят от Верхнеудинска попросил у солдата остановиться возле озера. Здесь помылся митрополит, надел свежую рубашку, старую же выбросил, и долго молился, стоя на коленях. Тогда подарил солдату молитвенника, собственноручно подписанного, и рубля серебряного.
– Не доехать мне до Верхнеудинска, – молвил митрополит.– Я скоро умру, помянешь монаха Арсения и похоронишь меня на том месте, где остановятся кони.
Так оно и случилось. Уже мертвым въехал в Верхнеудинск митрополит, поставили гроб с его телом в Преображенскую церковь. Но похоронить такого важного арестанта без высокого разрешения побоялись, послали гонцов к архиерею и губернатору.
Двадцать пять дней лежал раб Божий Арсений, и хоть жара стояла на дворе, но тело не повредилось, нетленным было, и много чудес, рассказывали люди, тогда случалось.
Однажды ночью колокола на церкви зазвонили, тревожно так, как бьют на пожар.
-Церковь горит! – сбегался напуганный люд с ведрами и лопатами.
Сбежались – а там ничего, тишина в церкви и вокруг.
– Диковина, – диву давались прихожане.– Мы же своими ушами слышали…
Как вдруг кто-то встревоженно закричал:
– А гляньте, гляньте вверх!
Все головы подняли и стали креститься: высоко над колокольней сияла новая заря, до сих пор не видели здесь такой.
-Это душа митрополита нас благословляет, – заговорили между собой. -Святой, и вправду, этот человек, митрополит Арсений…
Похоронили его на кладбище, на горе, около креста, эта гора в Троице, в Забайкалье, по тракту на Нерчинск. И теперь люд там собирается, молебны читает и панихиды правит, довольно много прибывает сюда богомольцев… А еще поговаривают, что в погожую ночь там всходит заря, та же, что над колокольней тогда видели Преображенской, а на самой могиле свеча там загорается.
…Императрица ни благодарила, ни бранила служивый люд Тайной экспедиции. Она только долго думала: уже было победила митрополита, сослала в немыслимую даль, а он всё равно между народа. Как же так, диву давалась императрица, у нее сила какая, армия в сотни тысяч солдат, пушек, вон сколько, не говоря уже о мушкетах, а еще видимо-невидимо полицаев-жандармов с Тайной экспедицией заодно, а у Арсения даже кадила теперь нет – и не способна его победить?!
Она является императрицей Екатериной Второй, и не просто второй, а Екатериной Великой. Уже в первый год правления Сенат обсуждает создание ей памятника и присвоение звания " Мать Отчизны". Пускай те сенаторы и не очень искренни, и не всегда, но такое было. Не прошло и четыре года правления, как объявили ее Екатериной Великой. Она знает, как вести себя с Вольтером, она умеет умилостивить Дидро – купила у него библиотеку и ему же отдала на хранение, а тогда заплатила Дидро за это на пятьдесят лет вперёд. Теперь философ и известный писатель на всех европейских перекрёстках должен не лениться рассказывать о ее мудрости и учености, а Вольтер назовет даже "Петербургской Богоматерью". И никто не будет догадываться, что многочисленные ее письма Вольтеру, глубиной мысли и элегантностью стиля которых будут увлекаться в десятках столиц, в действительности писал граф Андрей Шувалов, потому что она не только толком русский, но и французский не знает… А документы русским вместо нее, где нужно, хорошо напишет Храповицкий.
Она, императрица Екатерина Великая, может перекраивать европейскую карту, как старого, сильно поношенного, кафтана, из королевского трона гордой Польши может остроумно сделать стульчик себе на клозет.
Она – Екатерина Великая, а этот Арсений, этот Враль – кто такой? В чём тайна непобедимой силы его?
Что-то здесь не так в природе происходит – все рассуждала императрица.
Она нанизывала мысль за мыслью на логическую ниточку, как нанизывают ожерелье из мелких бусинок, но только все почему-то не ладилось: то дырочка в бусинках маловата, то ниточка вдруг загибается, а иногда и весьма коварно рвется, и тогда рассыпается все ожерелье…
31
На приеме по поводу вручения верительных грамот обер-полицмейстеру Толстому выпало знакомить новичков с придворными.
– Кто этот статный мужчина со шрамом через все лицо? – спрашивали, стремясь быстрее сориентироваться, дипломаты.
– Князь Алексей Орлов, влиятельный государственный муж, давняя опора трона.
– А это, наверное, Потемкин, у которого черной лентой глаз перевязан?
-Да, на него императрица особенно опирается, а о таланте полководца наслыханы, наверное, сами.
– Какие мужественные лица, в боях, наверное, увечья испытали…
– О, конечно, – выдержка никогда не изменяла Толстому, тем более в его непростых государственных хлопотах.
– А этот, белокурый высокий офицер, который немножко поодаль стал?
– Его фамилия Ланской, он новичок здесь, малоизвестный до сих пор.
Обер-полицмейстер дальше продолжал удовлетворять любопытство прибывших, повествуя или и лично знакомя именитых придворных, императрица же, подозвав Толстого, приказала представить ей миловидного новичка при дворе, офицера.
– Ланской, Ваше императорское величество, – вымолвил фамилию и звание и зарделся, словно его спросили что-то постыдное.
Императрице этот белокурый здоровила с неповоротливыми манерами и стыдливостью девочки-подростка бросился в глаза сразу, не было еще такого у нее.
После приема жизнь закрутила Ланского такими крутыми и непредвиденными зигзагами, что он и оглянуться не успевал на тех поворотах. Придворный лейб-медик выстукивал его, как дятел сухую древесину, долго и томительно, три ночи Ланской качался на Перекусихе, под конец мало не стошнило, но как-то сдержался, еще у двух фрейлин, правда, младших, выдержал экзамен, пока не ввела Перекусиха в опочивальню императрицы книгу читать.
– Ну, как там, Мария Саввовна, хорошо читает? – не без лукавства, смеясь, поинтересовалась.
– Грамотный, – убедительно ответила престарелая камер-юнгфера, остерегаясь в то же время перехвалить.
На утро, как всегда, митрополит устало обрызгивал святой водой нового счастливца, а камердинер почтительно подавал роскошный мундир флигель-адъютанта и извещал о веской денежной награде.
Пятидесятичетырехлетняя императрица с Ланским, как редко с которым из его предшественников, как будто душой отдыхала. Двадцатишестилетний Сашенька, на четыре года младше сына, умел повести себя в постели так, что вовсе не помнила императрица о закате бабьего лета. Кое-кого из прежних любовников, может, уже и призабыла, но Захарий Чернышов остался в памяти безудержной силой, Гришку Орлова, как можно забыть, – сын граф Бобринский выходит уже в люди, от Сергея Салтыкова сын, может, чего доброго, престол перенять, от Понятовского дочка, к сожалению, так рано умерла. Васильчиков и Завадовский промелькнули, как временная игрушка, Зорич едва в памяти мерцает, Корсаков, Левашов, и Высоцкий, хотя и недавние, но забыты быстро, словно полвека сплыло. Еще попробовала Мордвинова и Ермолаева, и, чего там греха таить, спохватилась и вернула назад Ланского.
– Звезды Святых Александра и Анны! – то ли восторженно, то ли с плохо скрываемой завистью перешептывались на светских приемах придворные, увидев на груди Ланского новые сияющие награды.
– А еще два прислали ему из Варшавы и один из шведской столицы…
– И войн нет, а ордена как из мешка сыплются, – злословили завистники.
– А это только днем нет…
То ли завистники сглазили, или случилось еще что-то, только беда, стал замечать Ланской, надвигалась неумолимо – почему-то таять стала его мужская сила. Кинулся к знахарям было, их украдкой приводили, те ворожили, шептали, яйцом выкачивали, и все напрасно. Пока не подвернулась старая ворожея, похожа на трухлявый гриб, который высох и сморщился на корню, не принесла ему темное варево, отгонявшее почему-то терпентином. И чудо – вернулась сила, он опять выдерживал ночь, разве под утро становился обессилевшим и выкрученным, как тряпка, которую повесили на заборе сушиться. Но чудо редко бывает длительным, пить это варево приходилось, кривясь и зажимая нос, все в большем количестве, чтобы опять не осрамиться. Однажды он таки рискнул, выпил как никогда, и свалился к следующему утру в лихорадке.
Пять дней и ночей он, едва помнясь в лихорадке, метался, будто не на мягкой перине лежал, а на тлеющих углях, на шестой же день, всхлипнув и в последний раз, жадно вдохнув воздух, Ланской преставился.
Случилось это как раз на Ивана Крестителя.
32
Он представлялся Радищеву человеком сдержанным, суровым и, возможно, даже с самолюбием, – как же, знаменитый на всю империю издатель, который посмел печатать мятежный журнал "Шершень", пусть и не долговечного "Пустомелю", сейчас же его "Живописца" расхватывают вдумчивые люди. Николай Иванович Новиков представлялся Радищеву совсем другим, только не таким вот веселым, резвым и деликатным. Радищев в "Живописце", конечно, не под своим именем, напечатал уже несколько своих трудов.
– Приветствую смельчака и народного заступника, – Новиков вымолвил как-то так, что в громких словах не было и капли иронии. – Давно уже хотел встретиться.
– Какой там из меня смельчак, – вяло махнул рукой Радищев. – Под именем чужим прячусь.
– Это не грех, это право человека, – Новиков подал свежий номер журнала. – Вы еще не видели, прошу прощения, здесь есть публикация ваша.
Пока Радищев листал, сдерживая детский нетерпеж увидеть раньше всех самим написанное, Новиков быстро взбалтывал ложечкою чай, так что тот чуть ли не выплескивался.
– Хорошее перо у Вас, Александр Иванович, разве только язык слишком уж ученый. Не бойтесь словца старосветского, простонародного, потому что все наши беды от забвения, от пренебрежения русскими древностями… Зато нахватались, как блох, иностранщины, бьем поклоны ей… Извините, я не о вас, не упрекаю, что в Лейпциге учились, я вообще о нашей жизни.
-Оно можно и у иностранца поучиться, – Радищев нашел наконец свою публикацию, но неловко на своем останавливаться, стал остальные страницы листать. – Только перенять у чужестранца мы способны разве что крой панталон. На остальное не хватает сообразительности.
-Кому перенять? Кому? – звякнул чайной ложечкой Новиков, будто бы именно она вызвала его возмущение. – Крестьянину, этому рабу, в нужде беспросветной? Помещику, рабов тех хозяину, зачем оно ему? Придворным, которые недосягаемых вершин достигли в казнокрадстве? Императрице, которой некогда за любовниками, и которых меняет быстрее, чем перчатки?
· -Не говорите… Уже по закоулкам смеются, что в гербе русском она вместо орла двуглавого свой половой орган поместит… Знаете, и молчать не хочется, потому что болит, и писать страшно. Плюнуть ли на это плохое время, напечатать историю Церкви… Я вон фигурой Филарета Милостивого увлекся – какие люди были, Церковь какая неказенная.
· -Разве только в древнейшие времена, на заре христианства, такие достойники жили? – Лицо Новикова нахмурилось, вспомнились непростые баталии его по издательскому делу.– Мне екатерининская цензура запретила печатать статью святого Димитрия Ростовского "О церковных имениях". Попробуйте только объяснить любому здравомыслящему, если вам, конечно, это удастся: слово святителя под запретом…
· – На серебряной рамке Димитрия Ростовского справедливо отчеканено: "Написав "Житие святых", сам к лику святых удостоился быть вписанным", – Радищев помолчал какое-то мгновение. – Эти слова, принадлежащие Михаилу Ломоносову, уже не по силам стереть ни императорам, ни любому казенному люду, – пускай какие удавки на шею Церкви они не набрасывали и при этом делали лукавый вид, что Церковь у нас не казенная.
· -Забудьте о неказенной, три четверти имущества, отобранного у церквей, пошло, будто в казну, а в действительности любовникам императрицы. Священник, который вековечно совестью был, теперь тоже казенный, потому что из казны таки стал кормиться. И не пискнет никто…
· -Почему же митрополит Арсений Мациевич не сломался, мог правду в глаза сказать, до сих пор письма и наставления тайком между люда ходят. Не знаете ли случайно о судьбе его?
· -Даже имя его запрещено называть.
· -Только бы не забыть позабавить вас смешной новостью, – Новиков вынул какое-то письмо и подал Радищеву. – Если за публикацию в пятом номере "Живописца" весьма верноподданный трона читатель наградил вас связкой писем с короткой оценкой "Ложь!", то после выхода вот этого, четырнадцатого номера, в глазах лизоблюдов пошли на повышение – какой-то казанский помещик ищет вас, чтобы вызвать на дуэль. Не страшно?
Радищев пробежал глазами несколько строк, где кроме ругательств автору, не густо было засеяно свежей мыслью, покрутил в руках письмо, не ведая, что с ним делать, и протянул назад Новикову.
· -У меня трое малых детей, еще как боюсь. Но грех будет всем, кто видит и рот на замке держит.
· А кто не держит, – горько улыбнулся Новиков, – тому Шлиссельбург, Сибирь или яд. Вы только обратите внимание: ни один русский, подчеркиваю, русский, художник не поднялся при ней к вершинам, ни один поэт или архитектор, императрице нужны только чужие, и то, как украшение, еще один камень где-то на брошке. Мой знакомый французский историк откровенно сказал: "Микеланджело бы не выдержал больше трех недель при дворе Екатерины".



