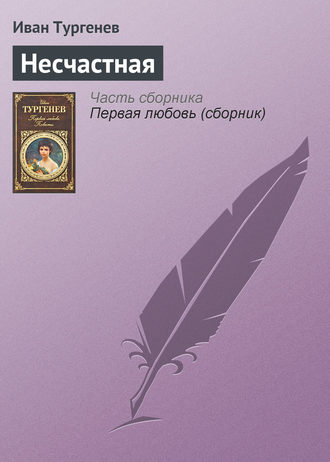
Иван Тургенев
Несчастная
Иван Матвеич видимо опускался, но все еще крепился. Однажды, недели за три до смерти, с ним тотчас после обеда сделался сильный припадок головокружения. Он задумался, сказал: «C'est la fin»[48], и, придя в себя и отдохнув, написал письмо в Петербург к своему единственному наследнику, брату, с которым лет двадцать не имел сношении. Прослышав о нездоровье Ивана Матвеича, его посетил один сосед, немец, католик, некогда знаменитый врач, живший на покое в своей деревеньке. Он весьма редко бывал у Ивана Матвеича, но тот всегда принимал его с особенным вниманием и вообще очень уважал его. Чуть ли не его одного во всем свете и уважал он. Старик посоветовал Ивану Матвеичу послать за священником, но Иван Матвеич отвечал, что «ces messieurs et moi, nous n'avons rien à nous dire»[49], и просил переменить разговор; а по отъезде соседа отдал приказ камердинеру впредь уже никого не принимать. Потом он велел позвать меня. Я испугалась, когда увидала его: синие пятна выступили у него под глазами, лицо вытянулось и одеревенело, челюсть повисла. «Vous voilà grande, Suzon, – заговорил он, с трудом выговаривая согласные буквы, но все еще стараясь улыбнуться (мне тогда уже пошел девятнадцатый год), – vous allez peut-tre bientt rester seule. Soyez toujours sage et vertueuse. C'est la dernière recommandation d'un… – он кашлянул, – d'un vieillard qui vous veut de bien. Je vous ai recommandè a mon frère et je ne doute pas qu'il ne respecte mes volontes… – Он опять кашлянул и заботливо пощупал себе грудь: – Du reste, j'espère encore pouvoir faire quelque chose pour vous… dans mon testament»[50]. Эта последняя фраза меня как ножом резанула по сердцу. Ах, это уже было слишком… слишком презрительно и обидно! Иван Матвеич, вероятно, приписал другому чувству – чувству горести или благодарности то, что выразилось у меня на лице; и, как бы желая меня утешить, потрепал меня по плечу, в то же время, по обыкновению, ласково меня отодвигая, и промолвил: «Voyons, mon enfant, du courage! Nous sommes tous mortels. Et puis, il n'y a pas encore de danger. Ce n'est qu'une prècaution que j'ai cru devoir prendre… Allez!»[51] Как в тот раз, когда он позвал меня к себе после кончины матушки, я опять хотела закричать ему: «Да ведь я ваша дочь! я дочь ваша!» Но, подумала я, ведь он, пожалуй, в этих словах, в этом сердечном вопле услышит одно желание заявить мои права, права на его наследство, на его деньги… О, ни за что! Не скажу я ничего этому человеку, который ни разу не упомянул при мне имени моей матери, в глазах которого я так мало значу, что он даже не дал себе труда узнать, известно ли мне мое происхождение! А может быть, он это и подозревал и знал, да не хотел «поднимать струшню» (его любимая поговорка, единственная русская фраза, которую он употреблял), не хотел лишить себя хорошей лектрисы с молодым голосом! Нет! Нет! Пускай же он останется столь же виноватым пред своею дочерью, как был он виноват пред ее матерью! Пускай унесет в могилу обе эти вины! Клянусь, клянусь: не услышит он из уст моих этого слова, которое должно же звучать чем-то священным и сладостным во всяких ушах! Не скажу я ему: отец! Не прощу ему за мать и за себя! Он не нуждается в этом прощении, ни в том названии… Не может быть, не может быть, чтоб он не нуждался в нем! Но не будет ему прощения, не будет, не будет!
Бог знает, сдержала ли бы я свою клятву и не смягчилось ли бы мое сердце, не превозмогла ли бы я своей робости, своего стыда, своей гордости… но с Иваном Матвеичем случилось то же самое, что с моей матушкой. Смерть так же внезапно унесла его и так же ночью. Тот же г. Ратч разбудил меня и вместе со мной побежал в господский дом, в спальню Ивана Матвеича… Но я не застала даже тех последних предсмертных движений, которые такими неизгладимыми чертами залегли мне в память у постели моей матушки. На обшитых кружевом подушках лежала какая-то сухая, темного цвета кукла с острым носом и взъерошенными седыми бровями… Я закричала от ужаса, от отвращенья, бросилась вон, наткнулась в дверях на бородатых людей в армяках с праздничными красными кушаками, и уже не помню, как очутилась на свежем воздухе…
Рассказывали потом, что, когда камердинер вбежал в спальню на сильный звон колокольчика, он нашел Ивана Матвеича не на кровати, а в двух шагах от нее. И будто он сидел на полу, скорчившись, и два раза сряду повторил: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» И будто это были его последние слова. Но я не могу этому верить. С какой стати он заговорил бы по-русски в такую минуту и в таких выражениях!
Целые две недели ждали мы потом приезда нового барина, Семена Матвеича Колтовского. Он прислал приказание ничего не трогать, никого не сменять до личного своего осмотра. Все двери, все мебели, ящики, столы – все заперли, запечатали. Все люди приуныли и насторожились. Я стала вдруг одним из главных лиц в доме, чуть не самым главным лицом. Меня и прежде звали барышней; но теперь это слово приняло какой-то новый смысл, произносилось с особенным ударением. Поднялось шушукание. «Старый, мол, барин скончался внезапно, и священника позвать к нему не успели, он же у исповеди давным-давно не бывал; да ведь завещание написать недолго». Г-н Ратч также почел за нужное изменить свой образ действия. Он не прикинулся добродушным и ласковым: он знал, что не обманет меня, но на лице его изобразилось угрюмое смирение. «Видишь, дескать, я покоряюсь». Все искали во мне; старались мне угождать… а я не знала, что делать и как быть, и только дивилась, как это люди не понимают, что оскорбляют меня. Наконец приехал Семен Матвеич.
Семен Матвеич был годами десятью моложе Ивана Матвеича и весь свой век шел по совершенно другой дороге. Он состоял на службе в Петербурге, занимал важное место… Он был женат, рано овдовел; один сын был у него. С лица Семен Матвеич походил на своего старшего брата, только ростом он был ниже и толще, голову имел круглую, лысую, такие же светлые черные глаза, как у Ивана Матвеича, только с поволокой, и большие красные губы. В противность брату, которого он даже после его смерти величал французским философом, а иногда просто чудаком, Семен Матвеич почти постоянно говорил по-русски, громко, речисто, и то и дело хохотал, причем совершенно закрывал глаза и неприятно трясся всем телом, точно злость его колотила. Он принялся за дела очень круто, во все входил сам, от всех требовал отчета подробнейшего. В первый же день своего приезда он пригласил священника со всем причтом, велел отслужить молебен с водосвятием и всюду окропить водою, все комнаты в доме, даже чердаки, даже подвалы, для того, чтобы, как он выразился, «радикально выгнать вольтериянский и якобинский дух». В первую же неделю некоторые любимцы Ивана Матвеича слетели с мест, один даже попал на поселение, другие подверглись телесным наказаниям; самый даже старый камердинер, – он был родом турок, знал французский язык, его подарил Ивану Матвеичу покойный фельдмаршал Каменский, – самый этот камердинер получил, правда, вольную, но вместе с нею и приказание выехать в двадцать четыре часа, «чтобы другим соблазна не было». Семен Матвеич оказался барином строгим; вероятно, многие пожалели о покойнике. «С батюшкой, с Иваном Матвеичем, – сокрушался при мне один уже совсем дряхлый дворецкий, – только и было нам заботы, чтобы белье подавалось чистое, да в комнатах чтобы хорошо пахло, да чтоб людского голоса в передней не было слышно – это уже сохрани бог! А там хоть трава не расти! Мухи в жизнь свою покойничек не обидел! Ну, теперь беда! Помирать надо!» Также скоро изменилось и мое положение, то есть то положение, в которое я попала на несколько дней и против воли… В бумагах Ивана Матвеича не нашлось никакого завещания, ни одной строки, написанной в мою пользу. Все вдруг отхлынули от меня… О г. Ратче я уже не говорю, но и другие все досадовали на меня и старались мне выказать свою досаду: точно я их обманула. В одно воскресенье, после обедни, которую он постоянно прослушивал в алтаре, Семен Матвеич потребовал меня к себе. Я его до того дня видела мельком, и он, казалось, меня не замечал. Он принял меня в своем кабинете, стоя у окна. На нем был виц-мундирный фрак с двумя звездами. Я остановилась возле двери; сердце сильно стучало во мне от страха и от другого чувства, еще неопределенного, но уже тяжелого. «Я желал вас видеть, молодая девица, – заговорил Семен Матвеич, взглянув мне сперва на ноги, а потом вдруг в лицо, – этот взгляд точно толкнул меня, – я желал вас видеть для того, чтоб объявить вам мое решение и уверить вас в моем несомнительном расположении быть вам полезным. – Он возвысил голос. – Прав вы никаких, конечно, не имеете, но как… лектриса моего брата, вы всегда можете рассчитывать на мое… на мое внимание. Я… конечно, уверен в вашем благоразумии и в ваших правилах. Господин Ратч, ваш вотчим, уже получил от меня нужные инструкции. К тому же я должен сказать, что ваша счастливая наружность служит мне залогом ваших благородных чувств. – Семен Матвеич вдруг залился тонким хохотом, а я… не обиделась я… но жалко мне стало самой себя… и тут-то я вполне почувствовала себя круглою сиротой. Семен Матвеич подошел короткими твердыми шагами к столу, достал из ящика пачку ассигнаций и, всунув мне ее в руку, прибавил: – Здесь небольшая сумма от меня вам на иголки. Я и впредь вас не забуду, моя миленькая, а теперь прощайте и будьте умницей». Я взяла эту пачку машинально, я взяла бы все, что бы он мне ни дал, и, вернувшись к себе в комнату, долго проплакала, сидя на своей постели. Я и не заметила, как я пачку уронила на пол. Г-н Ратч нашел ее и поднял и, спросив меня, что я с нею намерена сделать, оставил ее у себя.
В судьбе его произошла тогда значительная перемена. После некоторых разговоров с Семеном Матвеичем он попал к нему в большую милость и скоро получил место главного управляющего. С того времени проявилась в нем веселость, проявилось это вечное хохотание: он сперва хотел подделаться к своему патрону… впоследствии все это вошло в привычку. С того же времени он стал русским патриотом. Семен Матвеич придерживался всего национального, сам называл себя русаком, смеялся над немецкой одеждой, которую, однако, носил; сослал в дальнюю деревню повара, за воспитание которого Иван Матвеич заплатил большие деньги, – сослал его за то, что тот не сумел приготовить рассольника с гусиными шейками. Из алтаря Семен Матвеич подтягивал дьячкам, а когда девушек сгоняли хоровод водить и песни играть, он и им подтягивал и подтопывал, и щеки им щипал… Впрочем, он скоро уехал в Петербург и оставил моего вотчима чуть не полным властелином всего имения.
Горькие дни начались для меня… Единственным моим утешением была музыка, и я предалась ей всею душой. К счастью, г. Ратч был очень занят, но при всяком удобном случае он давал мне чувствовать свою вражду; по обещанию, «не забывал» мне моего отказа. Он помыкал мною, заставлял меня переписывать свои длинные и лживые донесения Семену Матвеичу, поправлять в них орфографические ошибки; я принуждена была беспрекословно ему повиноваться, и я повиновалась. Он объявил, что смирит меня, сделает меня шелковою. «Что это у вас за бунтовщицкие глаза? – кричал он иногда за обедом, напившись пива и стуча по столу ладонью, – вы, может быть, думаете: я, дескать, молчалива, как овечка, стало быть, я права… Нет! Вы извольте глядеть на меня тоже, как овечка!» Положение мое становилось возмутительно, невыносимо… Сердце мое ожесточалось. Что-то опасное стало все чаще и чаще подниматься в нем; ночи я проводила без сна и без огня, все думала, думала, и в наружном мраке, в темноте внутренней созревало страшное решение. Приезд Семена Матвеича дал другое направление моим мыслям.
Его никто не ожидал: осень давно наступила. Оказалось, что он вышел в отставку по неприятности: он надеялся получить александровскую ленту – а ему дали табатерку. Недовольный правительством, которое не оценило его талантов, петербургским обществом, которое выказало ему мало сочувствия и не разделяло его негодования, он решился поселиться в деревне, посвятить себя хозяйству. Он приехал один. Сын его, Михаил Семеныч, приехал позже, на праздники, к Новому году. Мой вотчим почти не выходил из кабинета Семена Матвеича: фавор его еще усилился. Меня он оставил в покое; не до меня ему было тогда… Семену Матвеичу вздумалось затеять бумажную фабрику. В мануфактурном деле г. Ратч не смыслил ничего, и Семен Матвеич знал, что ничего не смыслит; но зато мой вотчим был «исполнитель» (любимое тогдашнее слово), «Аракчеев!» Семен Матвеич именно так и называл его «мой Аракчеев!» «Сего мне достаточно, – уверял Семен Матвеич, – при усердии направление я сам дам». Среди многочисленных хлопот по фабрике, по имению, по заведению канцелярии, канцелярских порядков, новых званий и должностей Семен Матвеич успел, однако, обратить и на меня внимание. Меня позвали однажды вечером в гостиную и заставили играть на фортепиано. Семен Матвеич музыку любил еще меньше, чем покойник, однако одобрил и поблагодарил меня, а на другой день я была приглашена к обеденному столу. После обеда Семен Матвеич довольно долго со мной разговаривал, расспрашивал меня, смеялся иным моим ответам, хотя, помнится, ничего в них не было забавного, и так странно на меня посматривал… Мне неловко становилось. Не любила я его глаз; не любила их откровенного выраженья, их светлого взора… Мне всегда казалось, что самая эта откровенность скрывала что-то нехорошее, что под этим светлым блеском темно там у него на душе. «Вы у меня лектрисой не будете, – объявил мне наконец Семен Матвеич, как-то гадливо охорашиваясь и одергиваясь, – я, слава богу, еще не ослеп и читать могу сам, но кофей мне из ваших ручек покажется вкуснее, и вашу игру на фортепиано я буду слушать с удовольствием». После этого дня я уже постоянно ходила обедать в господский дом и оставалась в гостиной иногда до вечера. Попала и я, так же как мой вотчим, в милость; не на радость была мне она. Семен Матвеич, я должна в этом признаться, оказывал мне некоторое уважение; но в этом человеке, я это чувствовала, было что-то такое, что отталкивало, что пугало меня. И это «что-то» высказывалось не словами, а в глазах его, в этих нехороших глазах, да еще в его хохоте. Он никогда не говорил со мною о моем отце, о своем брате, и мне казалось, что он избегал этого разговора не потому, что не желал возбуждать во мне честолюбивых мыслей или притязаний, а по другой причине, в которую я тогда не умела вдуматься, но которая заставляла меня недоумевать и краснеть… К святкам приехал его сын Михаил Семеныч.
Ах, я чувствую, я не могу продолжать так же, как начала; слишком горестны эти воспоминания. Особенно теперь мне невозможно спокойно рассказывать… И к чему скрываться? Я полюбила Мишеля, и он меня полюбил.
Как это случилось, я тоже рассказывать не стану. Знаю, что с самого того вечера, когда он вошел в гостиную (я сидела за фортепиано и играла сонату Вебера), – когда он вошел, красивый и стройный, в бархатном тулупчике и валенках, как был, прямо с мороза, и, встряхнув заиндевевшею собольею шапкой, прежде чем поздоровался с отцом, быстро глянул на меня и удивился, – знаю я, что с того вечера я уже не могла забыть его, не могла забыть это молодое доброе лицо. Он заговорил… и голос его так и прильнул к моему сердцу… Мужественный и тихий голос, и в каждом звуке такая честная, честная душа! Семен Матвеич обрадовался приезду сына, обнял его, но тотчас же спросил: «На две недели? а? В отпуск? а?» – и услал меня. Я долго сидела у себя под окном и глядела на огни, забегавшие в комнатах господского дома. Я следила за ними, я прислушивалась к новым незнакомым голосам, меня занимала эта оживленная тревога, и что-то новое, незнакомое, светлое тоже перебегало по моей душе…
На другой же день пред обедом я имела первый разговор с ним. Он зашел к моему вотчиму по поручению Семена Матвеича и застал меня в нашей маленькой гостиной. Я хотела было уйти, он удержал меня. Он был очень жив и развязен во всех движениях и речах; но высокомерия или дерзости, столичного презрительного тона в нем и следа не было, и ничего военного, гвардейского… Напротив, в самой непринужденности его обращения было что-то ласковое, почти стыдливое, точно он вас просил извинить его. У иных людей глаза никогда не смеются, даже в минуту смеха; у него губы почти никогда не изменяли своего красивого склада, а глаза улыбались почти постоянно. Так мы пробеседовали с час… о чем – не помню, помню только, что и я все время глядела ему в глаза, и так мне было с ним легко! Вечером я играло на фортепиано. Он очень любил музыку, сел на кресло и, положив курчавую голову на руку, внимательно слушал. Он ни разу не похвалил меня, но я понимала, что игра моя ему нравится, и я играла с увлечением. Семен Матвеич, который сидел возле сына и рассматривал планы, вдруг нахмурился. «Ну, сударыня, – сказал он, по обыкновению охорашиваясь и застегиваясь, – довольно; что это растрещались, словно канарейка? Этак голова заболеть может. Для нашего брата, старика, небось так стараться не станете…» – прибавил он вполголоса и опять услал меня. Мишель проводил меня до двери глазами и встал с кресел. «Куда? Куда?» – закричал Семен Матвеич, и вдруг засмеялся, и потом сказал еще что то… Я не могла расслышать его слов; но г. Ратч, который тут же присутствовал в углу гостиной (он всегда «присутствовал», а на этот раз он принес планы), захохотал подобострастно, и его хохот достиг моих ушей… То же, или почти то же, повторилось и в следующий вечер… Семен Матвеич внезапно охладел ко мне, наложил на меня опалу.
Дня четыре спустя я встретила Мишеля в коридоре, разделявшем надвое господский дом. Он взял меня за руку и ввел в комнату, которая находилась возле столовой и называлась портретной. Я последовала за ним не без волнения, но с полным довернем. Я уже тогда, кажется, ушла бы за ним на край света, хотя и не подозревала еще, чем он стал для меня. Ах, я привязалась к нему со всею страстию, со всем отчаянием молодого существа, которому не только некого любить, но которое чувствует себя непрошеным и ненужным гостем среди чуждых ему, среди враждебных людей!..
Мишель сказал мне… И странное дело! Я смело, прямо глядела на него – а он не глядел на меня и слегка покраснел – он сказал мне, что он понимает мое положение и сочувствует ему, и просит извинить отца… «Что же касается до меня, – прибавил он, – то прошу вас быть всегда во мне уверенною, и знайте, что для меня вы сестра, да, сестра». Тут он крепко пожал мне руку. Я смутилась и потупилась в свою очередь; я словно ожидала чего-то другого, другого слова. Однако я начала благодарить его. «Нет, пожалуйста, – перебил он меня, – не говорите так… Но помните: обязанность братьев заступаться за своих сестер, и если вам нужна будет защита против кого бы то ни было, – положитесь на меня. Я недавно здесь, но я уже понял многое… и, между прочим, я понял вашего вотчима». Он опять стиснул мою руку и удалился.
Я узнала впоследствии, что Мишель с самой первой встречи почувствовал отвращение к г. Ратчу. Г-н Ратч попытался подделаться и к нему; но, убедившись в бесполезности своих усилий, тотчас сам стал к нему в отношения враждебные, и не только не скрыл их от Семена Матвеича, но, напротив, старался их выказать, причем выражал сожаление о том, что ему не посчастливилось с молодым наследником. Г-н Ратч хорошо изучил характер Семена Матвеича: расчет его удался. «Преданность этого человека ко мне уже потому не подлежит сомнению, что после меня он погиб; мой наследник его терпеть не может…» – эта мысль утвердилась в голове старика. Говорят, все люди со властью, когда стареют, охотно идут на эту удочку, на удочку исключительной, личной преданности…
Недаром же Семен Матвеич называл г. Ратча своим Аракчеевым… Он мог бы дать ему другое имя. «Ты у меня безответный», – говаривал он ему. Он с самого приезда начал его «тыкать», и вотчим мой умильно глядел Семену Матвеичу в губы, сиротливо склонял голову набок и добродушно смеялся, как бы желая сказать: «Весь тут, весь ваш…» Ах, я чувствую, рука моя дрожит, и сердце так и толкается в край стола, на котором я пишу в эту минуту… Страшно мне вспоминать те дни, и кровь моя загорается… Но я скажу все до конца… до конца.
Обращение г. Ратча со мною приняло новый оттенок во время моего кратковременного фавора. Он начал ко мне прислуживаться, почтительно фамилиарничать со мною, точно я и поумнела-то и ближе к нему стала. «Бросили ломаться, – сказал он мне однажды, возвращаясь из главного дома во флигель. – Хвалю! Все эти добродетели там, чувствительности – хрестоматия, одним словом – не наше дело, барышня, не дело голышей!» Когда же мой фавор прекратился и Мишель не счел нужным более таить ни презрения к нему, ни участия ко мне, г. Ратч внезапно усугубил свою суровость; он постоянно следил за мною, точно я была способна на все преступления и меня следовало держать в ежовых рукавицах. «Вы смотрите у меня, – кричал он, вваливаясь без спросу, в грязных сапогах и с картузом на голове, в мою комнату. – Я ведь ничего такого не потерплю! Носу у меня не вздергивать! Меня вам не провести, а спесь я вашу сшибу!» И тут же в одно утро объявил мне, что вышел от Семена Матвеича приказ, чтобы мне вперед без приглашения к обеденному столу не являться… Не знаю, какой бы оборот все это приняло, если бы не случилось происшествие, которое окончательно решило мою судьбу…
Мишель был большой охотник до лошадей. Он вздумал сам объезжать молодого рысака. Тот понес, начал бить и выбросил его из саней… Его принесли домой без чувств, с вывихнутою рукой и разбитою грудью. Старик перепугался, выписал лучших докторов из города. Они помогли Мишелю; но ему пришлось пролежать с месяц. В карты он не играл, говорить ему доктора запрещали, читать, держа книгу все одною рукой, было неловко. Кончилось тем, что сам Семен Матвеич послал меня к сыну, по старой памяти, в качестве лектрисы! Тут настали незабвенные часы! Я входила к Мишелю тотчас после обеда и садилась за круглым столиком, у полузавешенного окна. Он лежал в небольшой комнате, возле гостиной, у задней стены, на широком кожаном диване во вкусе «империи», с золотым барельефом на высокой прямой спинке; барельеф этот представлял свадебную процессию у древних. Бледная, слегка завалившаяся голова Мишеля тотчас поворачивалась на подушке и обращалась ко мне; он улыбался, светлел всем лицом, откидывал назад свои мягкие влажные волосы и говорил мне тихим голосом: «Здравствуйте, моя добрая, моя милая». Я принималась за книгу – романы Вальтера Скотта были тогда в славе – особенно мне осталось памятным чтение «Айвенго»… Как голос мой невольно звенел и трепетал, когда я передавала речи Ревекки! Ведь и во мне текла еврейская кровь, и не походила ли моя судьба на ее судьбу, не ухаживала ли я, как она, за больным милым человеком? Всякий раз, когда я отрывала глаза от страниц книги и поднимала их на него, я встречала его глаза с тою же тихой и светлой улыбкой всего лица. Говорили мы очень мало: дверь в гостиную была постоянно отворена, и кто-нибудь всегда сидел там; но когда там затихало, я, сама не знаю почему, переставала читать, и опускала книгу на колени, и неподвижно глядела на Мишеля, и он глядел на меня, и хорошо нам было обоим, и как-то радостно, и стыдно, и все, все высказывали мы друг другу тогда, без движений и без слов. Ах! наши сердца сходились, шли навстречу друг другу, как сливаются подземные ключи, невидимо, неслышно… и неотразимо.
– Вы умеете играть в шахматы или в шашки? – спросил меня он однажды.
– В шахматы немного умею, – отвечала я.
– Ну и прекрасно. Велите принести доску и придвиньте столик.
Я уселась возле дивана, а сердце мое так и замирало, и не смела я взглянуть на Мишеля… А от окна, через всю комнату, как свободно я глядела на него!
Я стала расставлять шашки… Пальцы мои дрожали.
– Я это… не для того, чтоб играть с вами… – проговорил вполголоса Мишель, тоже расставляя шашки, – а чтобы вы были ближе ко мне.
Я ничего не ответила и, не спрося, кому начать, ступила пешкой… Мишель не отвечал на мой ход… Я посмотрела на него. Слегка вытянув голову, весь бледный, он умоляющим взором указывал мне на мою руку…
Поняла ли я его – не помню, но что-то мгновенно, вихрем закружилось у меня в голове… В замешательстве, едва дыша, я взяла ферзь, двинула ею куда-то через всю шашечницу. Мишель быстро наклонился и, поймав губами и прижав мои пальцы к доске, начал целовать их безмолвно и жадно… Я не могла, я не хотела принять их, я другою рукою закрыла лицо, и слезы, как теперь помню, холодные, но блаженные… о, какие блаженные слезы!.. закапали на столик одна за одною. Ах, я знала, я всем сердцем почувствовала тогда, в чьей власти была моя рука!.. Я знала, что ее держал не мальчик, увлеченный мгновенным порывом, не Дон-Жуан, не военный Ловелас, а благороднейший, лучший из людей… И он любил меня!
– О моя Сусанна! – послышался мне шепот Мишеля, – я никогда не заставлю тебя плакать другими слезами…
Он ошибся… Он заставил.
Но к чему останавливаться на таких воспоминаниях… особенно, особенно теперь!
Мы с Мишелем поклялись принадлежать друг другу. Он знал, что Семен Матвеич никогда не позволит ему жениться на мне, и не скрыл этого от меня. Я сама в этом не сомневалась, и я радовалась не тому, что Мишель не лукавил: он не мог лукавить, – а тому, что он не старался себя обманывать. Сама я ничего не требовала и пошла бы за ним, как и куда бы он захотел. «Ты будешь моей женой, – повторял он мне, – я не Айвенго, я знаю, что не с леди Ровеной счастье». Мишель скоро выздоровел. Я не могла больше ходить к нему; но все уже было решено между нами. Я уже вся отдалась будущему; я ничего не видела вокруг, точно я плыла по прекрасной, ровной, но стремительной реке, окруженная туманом. А за нами наблюдали, нас сторожили. Изредка я замечала злые глаза моего вотчима, слышала его гадкий смех… Но смех этот и глаза тоже как будто выступали из тумана, на один миг… Я содрогалась, но тотчас забывала и опять отдавалась той прекрасной, быстрой реке…
Накануне условленного между нами отъезда Мишеля (он должен был тайно вернуться с дороги и увезти меня) я получила от него чрез его доверенного камердинера записку, в которой он назначил мне свидание в половине десятого часа ночи, в летней биллиардной, большой низкой комнате, пристроенной к главному дому со стороны сада. Он писал мне, что желает окончательно переговорить и условиться со мной. Я уже два раза виделась с Мишелем в биллиардной… у меня был ключ от наружной двери. Как только пробило половина десятого, я накинула душегрейку на плечи, тихонько вышла из флигеля и по скрипучему снегу благополучно добралась до биллиардной. Луна, задернутая паром, стояла тусклым пятном над самым гребнем крыши, и ветер свистал пискливым свистом из-за угла стены. Дрожь пробежала по мне, однако я вложила ключ в замок. Я вошла в комнату, притворила за собой дверь, обернулась… Темная фигура отделилась от одного из простенков, ступила раза два, остановилась…
– Мишель, – прошептала я.
– Мишель по моему приказанию заперт под замок, а это я! – отвечал мне голос, от которого сердце у меня так и оборвалось…
Предо мной стоял Семен Матвеич!
Я бросилась было бежать, но он схватил меня за руку.
– Куда? Дрянная девчонка! – прошипел он. – Умеешь к молодым дуракам на свиданье ходить, так умей и ответ держать!
Я помертвела от ужаса, но все порывалась к двери… Напрасно! Как железные крючья, впились в меня пальцы Семена Матвеича.
– Пустите, пустите меня! – взмолилась я наконец.
– Говорят вам, ни с места!
Семен Матвеич заставил меня сесть. В полутьме я не могла разглядеть его лица, я же отворачивалась от него, но я слышала, что он тяжело дышал и скрипел зубами. Не страх чувствовала я и не отчаяние, а какое-то бессмысленное удивление… Пойманная птица, должно быть, так замирает в когтях коршуна… да и рука Семена Матвеича, который все так же крепко держал меня, стискивала меня, как лапа…
– Ага! – повторял он, – ага! Вот как… вот до чего… Ну, постой же!
Я попыталась подняться, но он с такою силой встряхнул меня, что я чуть не вскрикнула от боли, и бранные слова, оскорбления, угрозы полились потоком…
– Мишель, Мишель, где ты, спаси меня, – простонала я.
Семен Матвеич еще раз встряхнул меня… Этот раз я не выдержала… я вскрикнула.







