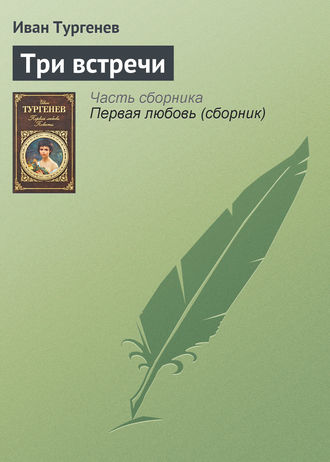
Иван Тургенев
Три встречи
Лес, в который я вошел, был очень част и глух, так что я с трудом добрался до места, где упала птица; но в недальнем расстоянии от меня извивалась тележная дорога, и по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом, моя красавица и тот мужчина, который обогнал меня накануне; я его узнал по усам. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку; их лошади чуть выступали, лениво покачиваясь с боку на бок и красиво вытянув длинные шеи. Опомнившись от первого испуга… именно испуга: другого названия я не могу дать чувству, внезапно меня охватившему… я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! как очаровательно несся мне навстречу, среди изумрудной зелени, ее стройный образ! Мягкие тени, нежные отблески тихо скользили по ней – по ее длинному серому платью, по тонкой, слегка наклоненной шее, по бледно-розовому лицу, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты! Голова ее как будто склонилась под его бременем; золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами; они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная, младенческая улыбка – улыбка глубокой радости блуждала на ее губах; казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка, вот как распустившийся цветок иногда надламывает свой стебель; обе руки ее бессильно лежали: одна – в руке ехавшего с ней мужчины, другая – на холке лошади. Я успел рассмотреть ее – но и его тож… Это был красивый, статный мужчина, с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен и не довольно тронут, не довольно умилен, именно умилен… Да и в самом деле, какой человек заслуживает такую преданность, какая самая прекрасная душа достойна доставить другой душе такое счастье… Признаться сказать, завидовал я ему!.. Между тем оба они поравнялись со мною… собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла… Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидав меня, сильно ударила хлыстом по шее лошади. Лошадь фыркнула, взвилась на дыбы, вынесла разом вперед обе ноги и помчалась галопом… Мужчина тотчас же пришпорил своего вороного коня, и когда я через несколько мгновений вышел по дороге на опушку, они уже оба скакали в золотистой дали, через поле, красиво и мерно колыхаясь на седлах… и скакали не в направлении усадьбы…
Я глядел… Они скоро исчезли за холмом, в последний раз ярко озарившись солнцем на темной черте небосклона. Я постоял, постоял, тихими шагами вернулся в лес и сел, закрыв глаза рукою, на дорожке. Я заметил, что при встрече с незнакомыми стоит только закрыть глаза – и черты их тотчас же возникнут перед вами; всякий может поверить в справедливость моего замечания на улице. Чем знакомее лица, тем труднее являются они, тем неяснее их впечатление; их помнишь, а не видишь… а своего собственного лица никак и не представишь… Малейшая отдельная черта известна, а целого образа не составляется. Итак, я сел, закрыл глаза – и тотчас увидал и незнакомку, и ее товарища, и лошадей их, и все… особенно резко и отчетливо стояло передо мною улыбающееся лицо мужчины. Я стал вглядываться в него… оно смешалось и растаяло в какой-то багровой мгле, а вслед за ним и ее образ тоже понесся прочь и утонул и уже более не хотел возвратиться. Я приподнялся. «Ну, что ж! – подумал я, – по крайней мере, я их видел, ясно видел обоих… Остается узнать их имена». Стараться узнать их имена! Какое неуместное, мелкое любопытство! Но, клянусь, не любопытство во мне разгоралось: мне, право, просто казалось невозможным не добиться наконец, кто ж они, по крайней мере, такие, после того как случай так странно и так упорно сводил меня с ними. Впрочем, нетерпеливого, прежнего недоумения во мне уже не было: оно сменилось каким-то смутным, печальным чувством, которого я немного стыдился… Я завидовал…
Я не спешил назад к усадьбе. Мне, признаться, становилось совестно допытываться чужой тайны. Притом появленье любящей четы днем, при солнечном свете, хотя все-таки неожиданное и, повторяю, странное – не то чтобы успокоило, а как-то расхолодило меня. Я уже не находил во всем этом происшествии ничего сверхъестественного, чудесного… ничего похожего на несбыточный сон…
Я начал опять охотиться, с большим вниманием, чем прежде; но все-таки настоящих восторгов не было. Выводок мне попался и задержал меня часа полтора… Молодые тетеревята долго не откликивались на мой свист, – вероятно, оттого, что я свистел не довольно «объективно». Солнце взошло уже очень высоко (часы показывали двенадцать), когда я направил шаги свои к усадьбе. Я шел не торопясь. Вот глянул наконец с холма низенький домик… сердце во мне опять задрожало. Я приблизился… и не без тайного удовольствия увидел Лукьяныча. Он по-прежнему неподвижно сидел на лавочке перед флигелем. Ворота были заперты… и ставни тоже.
– Здравствуй, дядя! – крикнул я еще издали. – Аль погреться вышел?
Лукьяныч повернул ко мне свое худое лицо и молча приподнял фуражку.
Я подошел к нему.
– Здравствуй, дядя, здравствуй, – повторил я, желая его задобрить. – Что ж ты, – прибавил я, нечаянно увидев на земле мой новенький четвертак, – не видал, что ли, его?
И я указал ему на серебряный кружок, до половины высунувшийся из-под короткой травки.
– Нет, видел.
– Так что ж ты его не поднял?
– Да так: не мои деньги, так и не поднял.
– Экой ты, братец! – возразил я не без замешательства и, подняв четвертак, протянул ему его опять, – возьми, возьми на чай.
– Много благодарны, – отвечал мне Лукьяныч, спокойно улыбнувшись. – Не нужно; поживем и так. Много благодарны.
– Да я тебе готов с удовольствием дать еще больше! – возразил я с смущением.
– За что же? Не извольте беспокоиться – много благодарны за расположенье, а хлеба с нас и в краюхе будет. И той, пожалуй, не доешь – какой час выдет.
И он встал и протянул руку к калитке.
– Постой, постой, старик, – заговорил я почти с отчаянием, – какой ты, право, сегодня неразговорчивый… Скажи мне, по крайней мере, твоя барыня – встала она, что ли?
– Они встали.
– И… дома она?
– Нет, их дома нет-с.
– В гости выехала, что ли?
– Никак нет-с: в Москву уехала.
– Как в Москву? Да она сегодня поутру здесь была?
– Здесь.
– И ночевала здесь?
– Здесь ночевали-с.
– И недавно сюда приехала?
– Недавно.
– Так как же, братец?
– А вот, этак с час будет времени, изволили обратно отправиться в Москву.
– В Москву!
Я с остолбенением глядел на Лукьяныча: этого, признаюсь, я не ожидал…
И Лукьяныч глядел на меня… Старчески лукавая улыбка стягивала его сухие губы и чуть светилась в печальных глазах.
– И с сестрой уехала? – проговорил я наконец.
– С сестрицей.
– Так что никого теперь в доме нет?
– Никого…
«Этот старик меня обманывает, – сверкнуло у меня в голове. – Недаром он так лукаво ухмыляется».
– Послушай, Лукьяныч, – проговорил я вслух, – хочешь ты мне сделать одно одолжение?..
– Что такое вам угодно? – медленно проговорил он, видимо, начиная тяготиться моими расспросами.
– В доме, ты говоришь, никого нет; можешь ты показать мне его? Я бы очень был тебе благодарен.
– То есть вы хотите комнаты посмотреть?
– Да, комнаты.
Лукьяныч помолчал.
– Извольте, – произнес он наконец. – Пожалуйте…
И он, нагнувшись, шагнул через порог калитки. Я отправился вслед за ним. Перейдя через небольшой дворик, мы взобрались на шаткие ступеньки крыльца. Старик толкнул дверь; в ней и замка не было: веревочка с узлом торчала из ключевой скважины… Мы вошли в дом. Он весь состоял из пяти-шести низеньких комнат, и, сколько я мог различить при слабом свете, скупо струившемся сквозь трещины ставен, мебель в этих комнатах была весьма простая и дряхлая. В одной из них (именно в той, которая выходила в сад) стояло маленькое и старенькое фортепьяно… я поднял его погнутую крышку и ударил по клавишам: кислый, шипящий звук раздался и болезненно замер, как бы жалуясь на мою дерзость. Ни по чем нельзя было заметить, что из этого дома недавно выехали люди; в нем и пахло чем-то мертвенным и душным – нежилым; разве кое-где валявшаяся бумажка своей белизной давала знать, что попала сюда недавно. Я поднял одну такую бумажку; она оказалась клочком письма; на одной стороне бойким женским почерком были начертаны слова: «se taire?»,[5] на другой я разобрал слово: «bonheur…».[6] На круглом столике подле окна стоял букет полузавядших цветов в стакане и лежала зелененькая смятая ленточка… я взял эту ленточку на память. Лукьяныч отворил узкую дверь, заклеенную обоями.
– Вот, – сказал он, протянув руку, – это вот спальня, а там, за нею, еще девичья, а то других покоев нет…
Мы пошли назад по коридору.
– А там что за комната? – спросил я, указав на широкую белую дверь с замком.
– Это? – отвечал мне Лукьяныч глухим голосом. – Это так.
– Как так?
– Да так… Кладовая… – И он пошел было в переднюю.
– Кладовая? Нельзя ли ее посмотреть?..
– Да что вам за охота, барин, право! – возразил Лукьяныч с неудовольствием. – Что вам смотреть? Сундуки, посуда старая… кладовая, и больше ничего…
– Все-таки покажи мне ее, пожалуйста, старик, – сказал я, хоть внутренне стыдился своей неприличной настойчивости. – Я вот, видишь ли, я желал бы… я хочу у себя в деревне точно такой дом…
Мне стало совестно: я не мог докончить начатой речи.
Лукьяныч стоял, наклонив на грудь седую голову, и как-то странно посматривал на меня исподлобья.
– Покажи, – проговорил я.
– Ну, извольте, – возразил он наконец, достал ключ и неохотно отпер дверь.
Я заглянул в кладовую. В ней действительно не было ничего замечательного. На стенах висели старые портреты с мрачными, почти черными лицами и злыми глазами. На полу валялся всякий хлам.
– Ну, насмотрелись? – угрюмо спросил меня Лукьяныч.
– Да, спасибо! – торопливо возразил я.







