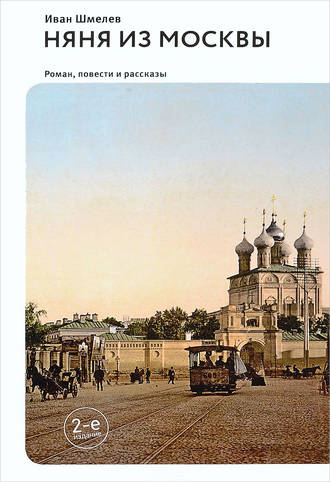
Иван Шмелёв
Няня из Москвы (сборник)
VII
Правду надо сказать, с горя и она себе утешения искала. В церкву-то не ходила, о душе и не думала… ну, соблаз ей душеньку и смутил. И уберечь себя трудно, в их положении, – много народу увивалось. Еда сладкая, никакой заботы, музыки да теятры, и обхождение такое, вольное, – телу и неспокойно, на всякую хочу и потянет.
Картинку с нее красильщик один писал, чуть не голую расписал. Волоса распущены, одно плечо вовсе голое, грудь видать, на подушках валяется с папироской, и цветы на ней навалены, и фрукты всякие, и кругом ее все бутылки, – будто арапскую царицу написал, за деньги показывать хотел. А ее вся Москва знала, барин и осерчал. И вправду, будто распутную женщину намазал: и глаза распутные ей навел, и ноги так непристойно, до неприличности. Он картинку-то у того и отнял, себе в кабинет повесил. И ту даже занавесил, а то и поглядит. С того все и началось, пожалуй. Стала она такая вольная, на себя непохожа, словно уж не своя, – испортил ее красильщик. В щелку гляжу, бывало, мазал ее когда… и за руки-то хватал, и за ноги перекидывал, и всю, как есть, перетрогал он ее, от стыда помаленьку и отучил. А она – хи-хи-хи… – чисто ее щекочут. Вольные платья стала нашивать, – стыд и страм. По портнихам, по модисткам… вырядится – страмно на люди показаться, барину и покажется. Он так и ахнет!..
«Гли!.. да ты не ты!..»
Будто приворожит его. А который ее мазал-то, урод косоглазый, на козла похож… возьми да и влюбись в нее. Проходу ей не давал. А у него вредный глаз был, он ее и заколдовал, глазом-то. Смеетесь, барыня… а сущую правду говорю. Сидит и глядит, колдует. Так помаленьку и заколдовал. Она уж как учувствовала, станет его просить, руками укрывается:
«Не развлекайте меня, не выношу вашего глазу!..» – и хохочет.
А он пуще уставится. А барин на прахтику уехал, в Богородск. Вот тот приезжает, глаз на нее уставил, и говорит, чисто ее хозяин:
«Вы беспременно поедете со мной кататься, картинки мои глядеть!»
Вмиг собралась – покатила. Вернулась на рассвете, и вином от нее, слышу… – сама не своя, у ж он ее испортил. Два дни из спальной не выходила. А тот телефоном донимает! Она трубку об стол и расколола. Тут его колдовство и кончилось. Долго она болела, после того-то. Ну, что тут, барыня, антиресного?.. Ну, и еще было. Как сорвалась с закону, греху как приложилась, – и не удержишься, Бога-то когда нет. Был еще один, словно студентов учил… ни разу его я не видала. Скажешь ей стороной, а она сердится – не смей грязного думать, тут только приятельская дружба. А я к тому, что нехорошо перед барином, стыдно в глаза смотреть… – за письмами, бывало, меня гоняла, в секрет, на почту. А у меня глаз-то свой, не дареный… белье шикарное стала покупать, тонкое-то-растонкое, прачке отдавать страшно, я уж сама стирала. Ну, все и видно… что я, слепая, что ли! Исхитрялась передо мной, а совесть-то не заткнешь, – из глаз глядится.
Да чего, барыня, приятного тут?.. Ну, музыкант был, учитель Катичкин. Ничего человек, смирный, играет, да вздыхает, только и всего. Вот-вот, самый он, волоса долгие, на грека похож, и с бантом с белым, а только тихой. Греки – они шу-мные, я их знаю, в Костинтинополе как мы бились. Вот там греки шумели!.. Всех с тортуваров сшибают, никакой управы на них, турков они прогнали, а англичаны город им не дают, забрали себе под флаг. Им досадно, все и кричали: «сильней нас нет, всех покорим, со всех денежки стребуем!» Офицер наш один все их дражнил, бывало: «и у петуха шпора, да не звенит!»
Ну, вместе сидели и играли на роялях. Поглядят друг на дружку – и опять заиграют. Может, и не было ничего промеж них, очень уж тихой был, музыкант-то. А глаза пялил, правда. В зерькало раз видала, как она его в маковку поцеловала… а он глаза так, через лоб, и воздохнул. Ну, в налехции с ним ходила… Барин раз и перехвати письмецо! Подает ей, уж распечатано.
«Как ты смеешь письма мои печатать? – она ему. – Тут ошибка, ничего я не понимаю…»
«А я, – говорит, – понимаю. Был у музыканта, и была у нас музыка!»
Божиться стала, а то и не перекрестится никогда, хоть тебе крестный ход. И разочли мы музыканта. Я ему и жалованье в письме носила, щека у него была завязана, полтинник на чай мне дал.
Ну, сами, барыня, посудите: как же им дите воспитать, при таком-то хавосе. И давно бы от них сошла, да к Катюньчику привязалась, оставить жалко.
VIII
И чего только они над ней не вытворяли!.. А знаете, я чего думала, барыня?. А вот чего я думала. Наше семейство взять… Ну, барин хороший человек, такой благородный, чужой копеечки не тронет, хоть ты ему тыщи-растыщи положи… очень по закону понимал. А барыня… и добрая, и образованная, сочувственная очень. И все барина уважали, и доктор он ученый, самый умный, и прахтикой много помогал… и такой тоже сочувственный!.. Лошадь под окнами у нас упала, а ломовик уж известно – в брюхо ее ногой, ногой. Обедали они, как увидали… выбегли на мостовую прямо, кричать, – в участок хулюгана-негодяя, в портокол писать!.. – животные были попечители… были ведь у нас такие? Вот-вот, из животного попечительства. А то в ведомостях чего прочитают… голод вот когда по деревням был, или кого строго засудили, за царя… а то и казнили, кто в высоких лиц бонбы швырял. Вон барыня расстроится!.. Салфетку бросит в суп, кулачками себя в грудь… кричит: «звери-звери!.. нельзя терпеть, нельзя жить, нельзя руки сложить! народ морют, убивают… а мы можем спокойно есть!.. не могу, не могу!..» Барин ей капель, все успокаивал: «не волнуйся, мы это все скоро переменим… все кончится!» Заплачешь – на них глядеть. Вот, думаешь, как по-Божьи надо, и в церкву они не ходят, а им Господь за доброту все простит. К бедным-то? Правду сказать, к бедным не ездил барин, а так сочу-ствовал… вредно в грязи рожать, зараза будет, все говорил… пусть в приюты идут рожать, в ламбалатории, и чистота там, и денег не берут. А прачка наша, у ней ребеночек поперек шел… сразу ей барин выправил, ни копеечки не взял, – только трахмал потуже. И сколько от смерти спас, и женщин, и младенчиков… мертвеньких уж совсем вынал и в себя приводил!.. Вот как.
А иной раздумаешься – сколько же он ангельских душек помори-ил!.. Да я-то уж знаю, барыня… И за это деньги какие брал! и на что же денежки эти шли-и… в прорву, на баловство, в свой мамон.
Барыня все мне говорила, как и вы вот… – такая мадицина эта, требуется. А я-то знаю… грех покрыть помогал, ангельские душки убивал, пу-зырь колол! Когда мадицина эта, разродиться женщина не может, это я знаю. Ну, грех страшный, а всякий грех замаливается, только не греши. Ну, на церкву бы подали, для души, или бы сиротам помогли… Скажешь барыне: нищие к нам заходят, надо бы на кухне подавать, как у мамашеньки водилось. А она – «лодырей разводить! на попечительство даем, там уж знают». Да не все попечительство-то знают. И канючки есть, и дармоеды, а сколько и живой нужды есть. А господа нужды живой не любили, расстраивались от нужды. Странницу приняла я раз, чайком попоила, а у ней палец гнилой, с морозу, всю она кухню пальцем нам протушила, правда, – как же они заопасались. А у нас в помойку котлеты выбрасывали, а про хлеб и говорить нечего. Это в Крыму мы с Катичкой узнали, как хлебушек добывается, и в Костинтинополе повидали, как в море с детьми топились, себя продавали за кусок… – вспомнить страшно.
Ах, барыня… у нашего батюшки девочка в ихней больнице померла, англичаны поместили, от сострадания. А мать и не допустили попрощаться… от заразы, будто… – и похоронили не сказамши. Пришла, а они уж похоронили, и не отпевали! От сострадания, говорят. Так матушка и упала на ступеньке. Может, и барин тоже, от сострадания… а думается мне – грех и грех.
А добрые люди, как трудящий народ жалели, очень помочь желали… у всех чтобы свои капиталы были, всем чтобы поровну. А вот жили на такие деньги. Да я знаю, барыня, не все такие деньги были, а… хоть половинка была такая, за младенчиков! Из Нижнего от мушника барышню привезли к акушерке ихней, грех покрывать: сколько хотите возьмите, остановите только последствия. Десять тыщ выклали! За грех-то и деньги платят. Остановил барин, проколол пузырь. Едят сладкий пирог, за пять рублей, бывало, покупали… и мне дадут. И придет в думушку: а ведь это за пузырь мне, за ангельскую душку, сладкий кусок… за грех! Да я не осуждаю, барыня… а сумление во мне было. А вот слово я какое получила, от святого человека… а вот.
Это как нам барина в Крым везти, чисто вот сердце чуяло. Поехала я за Троицу, в пустынь, к старцу Алексею. Мне Авдотья Васильевна присоветовала, желанная такая. Ну, поговела я там… а уж царя сместили, все будто понарошку пошло, ползти стало. Мне старец и сказал… я ему покаялась, у таких, мол, господ живу, сладкие куски принимаю… так он и засветился, и глазки ручкой так заслонил… открылся – плачет. И пошептал мне:
«Родная ты моя, не смущайся, все принимай… и чужой грех на себя прими, а не осуди. Без нас с тобой судит Судия… и все мы грехом запутаны, а вот Судия и рассудит».
Всю тягость с меня и снял. И барин вот, как ему помирать… И правда, а то собьюсь.
Катичку укладываю, бывало, и станет страшно, как про их грех подумаю. Отплатится ведь за это! без того не пройдет, на ком-нибудь да взыщется. Да неуж, думаю, Катичке и отплатится?.. И что же, барыня… отплатилось, так-то им отплатилось..! И Катичка, разве счастье ей? Да я, барыня, все знаю… вы не знаете, а я-то знаю. Ну, все-то мы, за что мыто теперь мызгаемся так? Самые, может, хорошие и страдают больше, за чужие грехи принимают, а уж Господь рассудит, все у Него усчитано. Вот теперь и нужду узнали, и в чужую беду стали проникаться, и как хлебушек добывается, слезами поливается… и в церкву стали ходить… – все у Него усчитано.
Ночью проснешься, как все-то вспомнишь… – да как же я сюды попала, в пустое место! да чего ж мы все толчемся тут ни при чем, как цыганы бродяжные… оттуда гонят, туда не допускают… В Костинтинополе жили мы.
Вот напугались как, слух прошел, – хотят власти нас большевикам отдать! Чуть-чуть не отдали, кто-то уж за нас вступился. Да как же так? – говорили все, – да где ж у них Бог-то?! А как же барыня говорила нам – самые они образованные!.. Уж вот уж повидала-то… Катичка тогда из себя вышла, калила их, калила… такой скандал, расскажу вам по череду. Так вот, говорю-то я… – проснешься, Господи, старая я, кому нужна, сызмала сирота, с девчонок по чужим людям… покарай ты меня, взыщи на мне, а Катюньчика не оставь милостью! На всем свете одна она у меня теперь, будто дите родное. И покойный барин меня просил, помирал… не забуду и не забуду.
IX
Да, про Катичку я вам… И чего только они над ней не вытворяли! Барин никогда пальцем тронуть не дозволял. Бывало, постращаю, нашлепаю за прокуду за какую, надо ж острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую… без горшочка ходить, а уж пять ей годочков было. По всей комнате крендельков наставит, а я подбирай. Я ее полотенчиком по заднюшке. Заголосила – и к папеньке. Он меня, – а он высоченный, как жандар, был, – за руку меня, загорячился:
«Ежели ты, такая-сякая, посмеешь еще Катюньчика пальцем тронуть, – духу твоего тут не будет!»
Через полчасика обошелся, в руку мне три рубли:
«Прости, Дарьюшка, за горячку… пропадет Катичка без тебя».
Стала я ее молитвам учить. Они ее до ученья ни одной молитве не обучили.
«Не смей Катюньчика глупостям учить, – барыня мне, – в молитвах твоих она все равно ничего не поймет».
«Да не мои, – говорю, – молитвы, а Господни… она не поймет, он зато понимает и не подступится».
«Глупости! Мы хотим сделать из нее своевольного человека… она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться!»
Да чего же мне наговаривать на них, барыня, когда правда!
«Да какой же это мой Бог… опомнитесь, барыня! – говорю, – один у нас у всех Бог… Исус Христос!»
«Ну, я тебе сказала. Если еще услышу глупости, можешь искать себе место в другом месте!»
Стала ей внушать, как же вы ребенка без Бога на ноги поставите, крещеная ведь она… надо ее по-Божьи учить, или никак не надо учить, а как собаку какую? И у собаки хозяин, а у ней… слушать-то ей ко-го? А горе будет, где у ней утешение?.. Повернулась и пошла. Да они и не окрестили бы ее, кабы не тетка… для тетки и окрестили, да и по закону надо, а то как же без имя-то? Ну, обучила ее «Богородицу» говорить, и «Отчу», и «Ангелу-Хранителю»… и просвирку за нее выну, и в церкву с ней зайдем к вечерне, гулять пойдем. А она охотница до церкви была, так руку, бывало, и оттянет:
«В телькву, няниська, в те-лькву!..»
Не нарадуешься прямо на нее. И ангелочки ей там золотенькие ндравились, хирувинчики с крылышками, – Божьими гуленьками все их звала. Скажет, бывало, забавная такая:
«А к Боженьке я когда уйду, тоже хирувинчик буду? А ты, няниська, не будешь хирувинчик? ты большая, тяжелая, не можешь полететь на крылышках, упадешь?»
Уж такая была смышленая да вострая… Я ей и накажу строго:
«Мамочке не сказывай-смотри, что мы к Боженьке заходили, а то прогонит она меня со двора».
Погрозится так пальчиком, губенки вытянет:
«Не сказу-у… мамотька Боженьку не любит, а мы любим».
Истинный Бог. Значит, у ней уж душенька говорила. Так бы и вести ребенка, страх Божий бы она знала, греха боялась. А дома ей другое в головку набивают. Барыня начнет ей набивать – слушать страшно… про человека да про человека, все что ни есть, он может. И кости человечьи в книжках показывала, и собачьи кости показывала, – одинаки, говорит. Барин и то серчал – рано ей, у ней мозги высохнут. Год от году стала она своевольная, сладу нет. Крестик на ней был, гляжу – нет! Мамочка сняла, грудку ей оцарапал. Купила я ей, хороший такой, серебряный. Опять мамочка сняла, а мне распек. В лицо мне стала плеваться! Скажу ей строго – «в Господень лик плюешь, Боженька накажет!» А она, насмех чисто, в глаз попасть норовит. Да еще спориться принялась, чужие слова лопочет: «глупая ты, мамочка говолит, делевня ты!» Как ее воспитать? Стала ее стращать, а к ночи было:
«Вот Ангел-Хранитель отойдет от тебя, нечистый и унесет, с рогами!»
Она – кричать-биться, полог на кроватке изорвала.
Барыня на меня – «ты мне ее уродом сделаешь!» Заснет – я ее водицей святой и покроплю. А то какую манеру еще взяла: покрещу ее, зрячую, – она смеется:
«А вот и сказу завтра мамочке… крестила ты меня!»
Стало уж мне с ней страшно, – он у ж будто из ее ротика кричит. Стала она меня по щекам хлестать. Раз спустила, другой спустила, – она меня прыгалкой по глазу, залился глаз. Я ее по щекам и отхлестала, для острастки. Она к мамочке, с ревом, а та, дела не разобрамши, да при ней на меня, с ключами!.. Так вся и исказилась:
«Ты, хамка… посмела лица коснуться!..»
«Погодите, – говорю, – скоро она и вас примется колотить».
Уж на что миса, англичанка, и та все глазами ужахалась, что Бога не хотят. А она в свою церкву ходила… и они тоже в Бога веруют… – и у ней над кроватью крест костяной висел, в веночке. Я им и на мису указывала, – глупей она вас, что ли? Тоже образованная, да еще англичанка.
И решила я отойти от них. Укладочку собрала, извощика привела, а ни пачпорта, ни зажитого не отдают. А за ними сот за семь было. Не отдают и не отдают: «Катичка тебя отпускать не хочет». А та топочет, прыгает на меня, фартук на мне порвала, по полу кататься стала, ножками бить, – в мамашу. Барыня, бывало, с барином как повздорят, сейчас разуются – и в сени босиком, да зи-мой! Барин схватит ее в охапку и принесет, а она по полу начнет кататься. Из графина окатит – сразу и приведет в себя.
Ну, осталась я. И рада, привыкла к ним, – и обидно-то, будто и за человека не считают. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу в подушку… – хорошая у меня подушка была, пуховая, на корабле пропала, из Крыма как мы поехали. Плачу и плачу, себя жалею. Барыня и входит, давай причитывать:
«Клянешь нас, жалованье не отдаем… лучшего места ищешь, на нас и выискиваешь! Ну, так бы и сказала, жалованья тебе мало…»
«Бога-то побойтесь, – говорю, – сердца я не уйму, а вы с грязью меня мешаете. Ну, семь моих сот за вами, не пропадут, знаю… а зачем над человеком мытарствуете! Всех жалеете, говорите… Не могу я глядеть на хавос ваш, родное дите губите…»
За голову она схватилась:
«Стыдно мне перед тобой, няничка… стыдно!..»
Упала ко мне на шею, трясется вся. Душа у ней добрая была, с семи годков ее знала. Ночь на дворе, метель, в трубе воет, и барина нет дома. И образов-то нету, а она бьется, чисто темная сила ее ломает, – страшно мне с ней тут стало. Покрестила ее украдкой – она и стихла.
«Виноваты мы перед тобой, няничка. Ты хорошая, а мы перед тобой… дрянь мы! И нет мне покою, и все-то ложь, и Костик меня обманывает…»
«Бога у вас нет, – говорю, – и покою нету. Худо у нас в доме, ху-до…» – все ей и выложила.
Так она и встрепенулась!..
«Чего ты каркаешь, чего худо?.. что ты думаешь, умрет кто у нас?..»
В Бога не верили, а такие-то опасливые, – судьбы боялись. За зерькала дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь: в Бога не верите, а зерькалу верите? Да ведь это Господь зерькалом во-лю свою указывает, зараньше. А барин страсть покойников не любил. Как завидит на улице – назад, Федору кричит, в объезд. А по-нашему, покойника встретить – всегда к добру. Ну, другое дело – свадьба… Все-то у них навыворот.
Да… так и встрепенулась:
«Скажи, что тебе чудится, какое худо? или сон видала?..»
«Образов у вас, – говорю, – нет в доме, у вас все может быть».
«Что – все? что ты меня пугаешь? про Катюньчика чего чувствуешь… что – худо?»
А я чего могу знать, не святая, в сам-деле. А чудится – будет и будет худо. Катичка и заболей скарлатиной. Чего-чего уж она не вытворяла!..
«Ты накаркала… ты все!..»
«Опомнитесь, барыня, – говорю. – Господь видит, как же я могу скарлатину сделать? Пригласите лучше Целителя-Пантелемона».
А Катичке хуже да хуже, хрипеть уж стала. Доктора ездили бессменно, а ей все хуже. Говорят – была скарлатина, а теперь и вовсе дифтерит стал, будьте готовы ко всему. Тут она и погнала меня к Пантелемону, привези. Монах и говорит, – дойдет вам черед дня через три, а покуда помажьте болящую маслицем с мощей. Сказала барыне, а она кулачками затрясла: «вот, когда хочешь – тут и нет!» А я помолилась и помазала Катичку теплым маслицем, в украдку, и в глоточку капельку ей влила, – она и уснула, хорошо так. Поутру глядим – она уж и повеселела. А доктора и говорят, – теперь уж выздоровеет. Что ж вы думаете… не поверила, что с маслица это! Это, мол, от нового лекарства, профессор дал. Так Целителю-Пантелемону и отказали.
Так вот и росла Катичка. А умненькая была, такая-то дотошная, все мои песенки умела, гостям пела. А я их много знала. В деревне как сиротой осталась, меня в богатый двор взяли, дитю качать. А у них баушка была, такая-то мастерица сказки сказывать, всего-то-всего умела… с волости за ней приезжали даже. От нее и я наслушалась-набралась. Катичке я даже и певала, уж большая она стала, на теятры когда училась. Может, за то и любит. То я ей глупая, дурей нет, а то… – «умней тебя, нянь, нет!» – это уж как разнежится. Василисой Премудрой назовет… Такая умненькая была, – юла-огонь. И в имназии хорошо училась, лист ей с орлами дали. Пятнадцати годков кончила, – хочу и хочу в теятры, в наактрисы! Тут и пошла наша маета. Война пришла, а у нас в доме своя война. Вы тогда в загранице были, долго вас оттоле не выпускали, приехали уж когда царя сместили… Мы тогда барина в Крым повезли, а барыню ране того свезли. А вот, я вам по порядку уж…
X
Стала Катичка на теятры учиться, и пошел у нас дым коромыслом. И барыня в это дело пустилась. Пошли разные к нам ходить, ватагами, наговаривают и наговаривают, бо-знать чего. А то еще в стихи читали, да в голос, чисто по упокойнику. И всех корми. А прожо-ры-ы!.. Один все себя в грудь бил, кричал все – «хочу помереть! дайте мне яду сладкого!» – а барин… надоели они ему, – насмех ему: «а хотите помереть, ступайте на войну лучше!» Ну, чистая волконалия. Барин все так, бывало:
«Волконалия у нас стала!..» – шум его беспокоить стал.
Да жадные все, голодные… – со стола так и не убирали, чисто трактир у нас. С утра до ночи так и короводились, все наговаривали, чего на теятрях вот представляют. А Катичка первая верховодка, такая-то блажная стала, умного слова не скажи. И еще с простынями танцевали, на цыпочках ходили, руками поводили, мода такая завелась… почесть что голые! И барыня туда же, с простынями. Ну, страм и страм. Да какие все самовольные, по комнатам шнырят, чисто родня приехала. Так за ними все и ходили, куда пойдут. Полдюжины столовых ложек серебряных у нас пропало, так и не доискались. Да колечко еще у Катички с умывальника смылось – всякого народу было. С гитарой один ходил, чистый ломовик, все выпимши, глупые песни пел, да про альхерея… все припевал – «горчишник я ширлатан!» – а те гогочут. В ванной я его и захватила, голову мочил… колечко-то и примочил. А как скажешь, – друзья-приятели! Ни время, ни порядку, – постоялый и постоялый двор. И кого-кого только не было… И цыганы ходили, и эти вот… пестрые кофты, разные рукава, самые-то оторвы. С ножом один ходил, в башлыке, зубами на меня щелкал, – баушка ему стала! Ну, мамай и мамай пошел. Да что… подушки со всего дома на ковры навалят, шалями пестрыми накроют и ломаются. Разуются все, и молодчики, и девчонки… на головах дутые винограды с елки, и розаны, на образа-то вот продают… все в простынях, плечи голые, ноги голые, страмота… и вино из кувшинов пьют, и все-то наговаривают, и все-то кричат – «мы боги! мы боги!..» – сущая правда, барыня. Уж на головах пошли. Уж это всегда перед бедой так, чуметь начинают… – большевики вот и объявились. Да я понимаю, барыня… не с пляски они, большевики… а – к тому и шло, душа-то уж разболталась, ни туда ни сюда… а так, по ветру. Уж к тому и шло. А дурак тот, с гитарой, так обнагле-эл… – закрыл Катичку простыней и обнял, совсем охальник. Барин как увидал, – за руку его в прихожую вывел да в ше-ю… и гитара его по лестнице зазвонила. Скажу барыне – кабак у нас, чему Катичка учится? А она все свое:
«Не лезь не в свое дело, глупая… не понимаешь ты, это иску-ста!..»
И только у всех и разговору – искуста-искусна, искусна-искуста… – а толку никакого, одни только неприятности.
А жизнь пошла беспокойная, военная. Барина тоже на войну забрали… ну, из уважения оставили, лазареты наблюдать. Барыня словно хлопотала, – из уважения ей и сделали, каждого могла заговорить.
И мундир ему выдали, и саблю. Он сейчас пациенок порастрес, – хороший у нас на дворе лазарет открыли, на сорок человек. И барыне занятие, раненых солдатиков навещать. Правду сказать – старались. Как первую партию привезли… а у нас актерщики были, и читатели, в стихи читали… высыпали глядеть. А солдатики грязные, повязки в крови, запекши… молодчики наши папиросок им, бутенброты, нахваливают… за нашу Россию стараетесь… очень соболезновали. Еще один, помню, все добивался – «а страшно умирать, а?..» А солдатик, вежливый такой, – «страшно – нестрашно, – говорит, – а требуется!» – полон рот калачом набил, не проворотить. Барин, первое время, и дома не бывал, перекусит – и до ночи его не видим, на прием только приезжал, забота была большая. И денег нам тут посыпалось. Докторов на войну забрали, – ну, барина прямо на разрыв. Другую горничную еще взяли, для гостей, да девчонку еще наняли, у телефона записывать. Никогда столько пациенков не было. Да Катичкина еще орава, – ну, непротолченая труба всякого народу стала. И откуда только бралось! Столько на войну забирают, а у нас все молодчики, не убывают, а прибывают. И наговаривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, и друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся, страмота, – чисто все посбесились. Театральщики, уж известно, какой народ… все будто понарошку им, представляют и представляют. Правда, для раненых старались-утешали, по лазаретам ездили представлять, а у нас все и наговаривали. Катичка помостки велела в зале поставить, и рояль туда подняли, и картинки там красили, представлять. Скажешь барыне:
«Никаких денег у нас не хватит ораву такую кормить, – колбасы по пять фунтов на закуску, сыру, телятины что… белых хлебов десятка по три, сахару не напасешься, – тыщи на месяц мало. Да диви бы на пользу шло!..»
А она, высуня язык, только отмахивается:
«Война, всем надо помогать… надоела, не твое дело!»
Не мое-то не мое, а… Ну, мне уж под две тыщи задолжали, про себя не говорю, а лавошнику Головкову сколько должны, а он деликатный, только пошутит мне:
«Попомните доктору, Дарья Степановна… мы тоже и сахарок, и колбаску, и все протчее-иное и другое покупаем-с, а не от Ильи-пророка по знакомству получаем-с!»
Дадут ему сотню-другую – опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сынка забрали, в вошпитале лежал, будто у него глаз не глядит, – ну, и старался барину услужить. А барин строгой был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну, и забрал сынка. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженый. И вот какой богомольный, Головков-то… хироносец был! А такой, хируги за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел – долой и долой. Они с барыней секрет знали – только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Ну, не внял, послал на войну сынка. А Головков в полицию донес: у доктора какие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же: по закону гуляют, от войны, – все калеки, по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал, за долги. Это когда и судов уж сурьезных не было, а барин заболели… нам в Крым бумага приходила, приносил с красной лентой какой-то, не гордовой, а другой… говорил барину – теперь можете не платить, когда еще вас разыщут, а теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали, а платить уж нам нечем стало, сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая… вот где это Дунай-река-то… Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала… Ну, как угодно, а то и вправду, запутаюсь.






