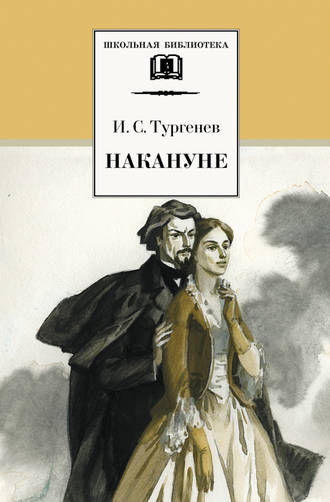
Иван Тургенев
Накануне
© Издательство «Детская литература», 2002
© В. В. Афанасьев. Вступительная статья, примечания, 1990
© В. Панов. Иллюстрации, 1977
* * *

1818–1883
Живые души
(О романе И. С. Тургенева «Накануне»)
Третий по счету роман Тургенева «Накануне» был напечатан в январе – феврале 1860 года в журнале «Русский вестник». Название оказалось глубоко символичным – ведь появился роман за год до Великой Реформы, как называли отмену крепостного права в России (1861). Это было время гласности, дарованной обществу сверху. Устно и в печати открыто обсуждалось все, касающееся грядущего освобождения. Славянофилы, западники, демократы и другие партии и группы сталкивались в яростных спорах…
Одновременно с «Накануне», в январе 1860 года, Тургенев напечатал статью «Гамлет и Дон-Кихот» (в журнале «Современник»). Эта глубокая философская работа заключала в себе идеи, которые Тургенев использовал в романе. В том же январе он прочитал «Гамлета и ДонКихота» в Петербурге на чтениях Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым. «Что было, когда вступил на эстраду Тургенев, – писала в дневнике мемуаристка Штакеншнейдер, – и описать нельзя. Уста, руки, ноги гремели во славу его». Тургенев, как вспоминает современник, «даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время излюбленный беллетрист». Журналист Н. И. Сазонов писал, что «критика редко поднималась на такую высоту; прекрасные замечания Гёте о Гамлете и великолепная страница Байрона о Дон-Кихоте не только сплавлены воедино в этом замечательном наброске, но еще освещены внимательным изучением и лихорадочной энергией, основными свойствами современной эпохи». Как видим, не только роман, но и статья Тургенева (нисколько не устаревшая и теперь) своевременна и современна.
Тургенев дал свое понимание двух нравственно-психологических типов людей (Гамлеты и Дон-Кихоты), на которые, как он считал, извечно делится все человечество и черты которых в большей или меньшей степени присущи каждой отдельной личности. Главное различие этих двух типов – в направленности их стремлений. У Гамлета они обращены на свое «я», у Дон-Кихота – на идеал, находящийся вне личности. Цель Дон-Кихота – деятельное добро, борьба со злом, «водворение истины, справедливости на земле». «Дон-Кихот энтузиаст, служитель идеи», и это придает несокрушимость его «нравственному составу» (он, по мнению Тургенева, самое нравственное существо в мире). Гамлетовскому типу человеческой натуры присущи безверие, скептицизм, эгоизм; Гамлет не в состоянии по-настоящему полюбить женщину (оттого, что может любить лишь себя), но в отличие от целомудренного Дон-Кихота не лишен чувственности… Почти неспособный к действию (беспрестанный самоанализ уничтожает его волю), он никого не может за собой увлечь, у него нет целей, и к тому же он всей душой презирает толпу… У него есть свои хорошие качества: начитанность, понимание художественного (тонкий вкус), а главное – способность четко разграничивать Добро и Зло. Не из последних человеческих достоинств и его способность ясно видеть свои пороки. Он страдает от окружающего зла (в этом они сходятся с Дон-Кихотом, но Гамлет страдает сильнее).
Отдавая предпочтение Дон-Кихоту, Тургенев подчеркивает, что идея, которая движет им, иллюзорна. Его ослепляет энтузиазм. Не понимая действительности, он наносит вред себе и другим. Но Гамлет, который без сомнения не бросился бы в атаку на мельницу, не напал бы и на великана… А ведь мельница для Дон-Кихота – злобный и могучий великан…
Такими самоотверженными, но безумными Дон-Кихотами – применительно к современности – Тургенев считал революционеров. Сам замысел его статьи явился результатом размышлений над революционными событиями во Франции в 1848 году, очевидцем которых он был. Тургенев проводит сравнение между революционерами и Дон-Кихотом, который, будучи предан своему идеалу, «не верит свидетельству глаз своих» в том, что появившаяся перед ним крестьянка – его Дульцинея, и «считает ее превращенной злым волшебником». «Мы сами на своем веку, – пишет далее Тургенев, – в наших странствованиях, видали людей, умиравших за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществление своего идеала и превращение которого они также приписывали влиянию злых, – мы чуть было не сказали: волшебников – злых случайностей и личностей. Мы видели их, и когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать».
В русской публицистике образ Дон-Кихота считался воплощением отрыва от текущей жизни и до Тургенева. В «Письмах из Франции и Италии» Герцен также называл деятелей Французской революции 1848 года Дон-Кихотами («Какой практически смешной и щемящий сердце образ складывается для будущего поэта, образ ДонКихота революции!»). Это письмо (от 1 июня 1851 года), напечатанное в Лондоне в 1855 году, Тургенев, вероятно, прочел в августе 1856 года, когда посетил за границей Герцена.
Дон-Кихотами в какой-то степени казались Тургеневу и русские революционеры-демократы. Так, в черновом варианте статьи Дон-Кихот прямо назван «демократом». Давно замечено сходство слов Тургенева о Дон-Кихоте («…он знает мало, да ему и не нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это – главное знание») с отзывом писателя о Чернышевском: «Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда… но он понимает потребности действительной современной жизни – и в нем это… самый корень его существования» (письмо к А. В. Дружинину от 30 октября ст. ст. 1856 года). С тургеневской оценкой революционности как донкихотства сами демократы согласиться, конечно, не могли. Например, Н. А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?», первоначально называвшейся «Новая повесть г. Тургенева», посвященной роману «Накануне», утверждает, что «смешными ДонКихотами», безумцами, сражающимися с призраками, являются те, которые «хотят прогнать горе ближних», не понимая, что «оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители».
Тургенев полагал, что обществу необходимы деятели, соединяющие в себе лучшие черты как Дон-Кихота, так и Гамлета, то есть волю и мысль. «Для дела нужна воля, для дела нужна мысль, – пишет он, – но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более… И вот с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой – полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какою они ее видят».
Человека, обладающего одновременно волей и мыслью, Тургенев называет «сознательно-героической натурой». Он так и пишет И. С. Аксакову в ноябре 1859 года, имея в виду «Накануне»: «В основание моей повести положена мысль о необходимости сознательно-героических натур (стало быть – тут речь не о народе) – для того, чтобы дело подвинулось вперед». «Дело» в романе не двигается. Особенно русское. Оно есть где-то там, за морем… за горами… в Болгарии например, – и туда стремится Инсаров – Дон-Кихот. Сознательно-героических натур нет в романе потому, что Тургенев не видел их в России. Он видел здесь всевозможных Гамлетов – по преимуществу среди дворянских интеллигентов, вошедших в литературу под именем «лишних людей». В «Накануне» это Шубин, обладающий всей полнотой гамлетизма.
Нужда в сознательно-героических людях все явственнее ощущалась в русском обществе, и особенно по окончании Крымской войны 1853–1856 годов (Николай I умер, не дождавшись ее конца, в 1855-м), завершившей «мрачное семилетие», как называли годы 1848–1855-е. Возникли надежды на крупные преобразования во главе с вопросом вопросов – освобождением крепостных крестьян. «Дело» началось, и в него включились все слои общества, которые, однако, действовали не единым фронтом, – было много разномыслия, недоверия и даже вражды… В этой обстановке и писал Тургенев «Накануне», роман, задуманный несколько лет назад. «Я собирался писать «Рудина» (в 1855 году. Это первый роман Тургенева. – В. А.), – вспоминал писатель в предисловии к собранию своих романов в издании 1880 года, – но та задача, которую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться». Некоторые черты Елены Тургенев придал Наталье в «Рудине» и героиням повестей «Переписка», «Фауст», «Ася», созданных параллельно с «Накануне». И если Елена как бы вырастала, постепенно проясняясь, то героя, которому она могла бы «предаться», Тургенев не видел вовсе.
Помог ему случай. Некто В. Каратеев, сосед Тургенева по Спасскому, человек, с которым он был в дружеских отношениях, отправился на войну – во время Крымской кампании – и оставил Тургеневу рукопись своей автобиографической повести. В ней, по словам Тургенева, было «беглыми штрихами намечено то, что составило потом содержание «Накануне». «Рассказ, впрочем, не был доведен до конца и обрывался круто, – писал Тургенев. – Каратеев, во время своего пребывания в Москве, влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью, но, познакомившись с болгарином Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине), полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне, хотя неумело… Одна только сцена, именно поездка в Царицыно, была набросана довольно живо – и я в моем романе сохранил ее главные черты». Так в основу романа Тургенева легло документальное начало.
Он написал «Рудина», потом «Дворянское гнездо», поставившие его в ряд крупнейших русских писателей (Достоевский отметил в «Дневнике писателя» за 1859 год, что «Дворянское гнездо» есть «произведение вечное и принадлежит всемирной литературе»). Затем вернулся к записям Каратеева. П. В. Анненков вспоминал, как зимою 1858–1859 годов «Тургенев не раз читал… по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести…» и как из этих «слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его «Накануне»…». План романа обдумывался в январе 1859 года в Спасском. Писать его Тургенев начал летом того же года за границей. Крайние даты создания «Накануне» указаны им самим на титуле черновой рукописи: «Начата в Виши во вт. 28/15 июня 1859 г., кончена в Спасском в воскресенье 25 окт./6 ноября 1859 г.».
Кроме рукописи Каратеева у Тургенева был и еще «материал», – это великие исторические события его времени, также подсказывавшие ему мысль о героическом характере… Летом 1853 года началась война между Россией и Турцией, поставившая Россию перед новыми врагами – Англией и Францией, тогдашними союзниками турок… С особенной силой разгорелось национально-освободительное движение у балканских славян. В Италии в те же годы громко заявила о себе истинно героическая личность – Гарибальди… Конечно, эти события, за которыми Тургенев следил с интересом, укрепили патриотические и героические настроения романа. Шубин в «Накануне» говорит о будущем Елены и Инсарова: «Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина… Хорошо, хорошо. Дай Бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно, в сущности, все равно. А там – натянуты струны, звени на весь мир или порвись!» В июне 1859 года Тургенев пишет графине Ламберт: «Я нахожусь теперь в том полувзволнованном, полугрустном настроении, которое всегда находит на меня перед работой (здесь имеется в виду работа именно над «Накануне». – В. А.); но если бы я был помоложе, я бы бросил всякую работу и поехал бы в Италию – подышать этим, теперь вдвойне благодатным воздухом. – Стало быть, есть еще на земле энтузиазм? Люди умеют жертвовать собою, могут радоваться, безумствовать, надеяться? Хоть посмотрел бы на это – как это делается?»
Но конечно, российские-то дела тревожили Тургенева куда больше итальянских… Какой вид примут ожидаемые реформы? Он обсуждает «все стороны этого жизненного вопроса» с крупнейшими деятелями, готовившими Великую Реформу, – с князем В. А. Черкасским, с председателем Комитета по крестьянскому делу Я. И. Ростовцевым, с Л. Н. Толстым… «Дело» росло… Росла и тревога: есть ли надежные плечи, на которые оно ляжет? И вновь перед Тургеневым (и не только перед ним) вставал вопрос о героической личности, о такой личности, у которой чувство гражданского долга перечеркнуло бы собственные выгоды… Нужны не Гамлеты, не Дон-Кихоты, а сознательно-героические личности. И их нужно много… Тургенев пишет Н. А. Некрасову об «ответственности, которая поневоле падает на каждого». И на писателя в первую очередь.
Что бы ни писал Тургенев, он всегда, по свойству своего таланта, вскрывает что-нибудь значительное в современной жизни… В 1858 году в журнале «Атеней» появилась статья Чернышевского «Русский человек на rendezvous», написанная по поводу повести Тургенева «Ася». Даже в такой лирической, далекой от социальных проблем повести Чернышевский находит нечто, – он считает нерешительное поведение героя повести с любимой им девушкой общественно типичным. Это тип дворянского либерала, нерешительного во всем. Это его качество становится бедствием в особенно трудные для народа времена, – например, в канун крестьянской реформы. Чернышевский полагал, что либералы-дворяне пропустят ту благоприятную минуту, когда еще можно будет что-то изменить к лучшему… На смену этим либералам должны прийти люди другого склада, а именно – решительные разночинцы-демократы… «Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, – писал Чернышевский, – которою определится навеки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно». Тургенев не мог согласиться с такой постановкой вопроса. Нерешительности в своем сословии он видел много, но она еще не говорила о полной «непригодности»…
«Накануне» было и ответом Чернышевскому. Но для того чтобы вести дальнейший разговор о пригодности или непригодности дворян к общему делу, нужно рассмотреть героев романа Тургенева. Как и во многих его произведениях, в «Накануне» не зависящая от времени художественность сопрягается со злободневностью. Вечным и сегодняшним живут герои романа. Вот, например, упоминавшийся нами скульптор Шубин. Уже в его внешнем облике можно заметить черты Гамлета – чувственность и эгоизм. Он любуется собой и весь мир воспринимает как среду для своего существования. Природа ему видится не столько в духовном плане, сколько в объемном (недаром он скульптор). Самый прекрасный пейзаж для него расплывчат, его «не ухватишь». «Я мясник-с; мое дело – мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны», – говорит он Берсеневу о пейзаже. Ему же он предлагает: «Займи свое место в пространстве, будь телом…»
С одной стороны, его совет не лишен смысла. Ведь он предлагает созерцателю Берсеневу войти в жизнь, а не стоять перед ней, как перед картиной, которая хотя и прекрасна, но находится вне созерцающей личности… «Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом…» С другой стороны, сам он, Павел Шубин, считая себя центром мироздания, не входит в мир, а остается за его пределами, поскольку весь устремлен на себя. Так и любовь, и счастье он понимает и принимает лишь как свое… «Я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым», – говорит он очень откровенно. Его девиз: «Мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастье!»
Однако отсутствие прочного стержня в душе Шубина (именно из-за того, что он ни во что не верит) приводит к тому, что не он завоевывает жизнь, а сама эта жизнь, оборачивающаяся к нему своей плотской, бездуховной стороной, грозит поработить его (слишком зыбка его безрелигиозная «духовность»), убить в нем и душу и талант. Она то и дело затягивает его в свои сети, каждый его высокий порыв превращая в фарс. Шубин любит Елену Стахову, но лишь настолько, насколько может любить его «гамлетовская» – эгоцентрическая – натура. Даже страдая, он умиляется своими страданиями, не в силах забыть о себе. Понимая это, он еще больше мучается: «Неужели же я всё с собой вожусь, когда рядом живет такая душа?» Ловушки, которые расставляет материальный мир перед Шубиным, подстерегают его и в любви. Не высохли еще его слезы по Елене, а он уже бежит за хорошенькой горничной… Любовные страдания переходят в пошлость… И все же есть в нем непосредственность и правдивость. Душа его жива. Отвергнутый Еленой, Шубин отдается «вечному, чистому искусству», он уезжает в Рим и становится «одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей»…
Шубин – не конченый человек. Тургенев оставляет ему выход в «пригодность». Этот выход – через гамлетовскую способность видеть вещи реально, в самоанализе, самовоспитании, самоиронии. Именно Шубин дает беспристрастную оценку себе самому и своим современникам. «Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие, – говорит он Увару Ивановичу. – Да! да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Всё – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие!»
Упомянутый Увар Иванович, по фамилии Стахов, связан с Шубиным какими-то странными узами. Это фигура для Тургенева несколько необычная: соединение характера (отчасти сатирического) с символом (или воплощенной идеей). Неподвижность его, неспособность ни на какое действие, сонность – всё это состояния, грозящие охватить русского человека. Корни этого героя – в романе «Дворянское гнездо», и почти буквально в земле (как и полагается быть корням). Это сцена возвращения Лаврецкого на родину, когда он «в дремотном онемении» смотрит из тарантаса на родные места. Тишина и спокойная неподвижность целительно подействовали на его усталую душу. В этой устойчивой, словно бы никогда не меняющейся деревенской жизни, он, как ему показалось, обрел непреходящую правду жизни: «И вдруг находит тишина мертвая; ничто не стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика». «И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – думает Лаврецкий, – кто входит в ее круг, – покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши!.. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь: здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам». И при этом (о Лаврецком): «никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины»…
Вот в этот спокойный мир врывается товарищ Лаврецкого по университету Михалевич и называет его байбаком, лентяем. «И когда же, где же вздумали люди обайбачиться? – кричал он под конец спора, в 4 часа утра, – у нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит!» Беспокойство, кипящее в словах Михалевича, переходит в «Накануне»… Это беспокойство самого Тургенева, часто высказывавшееся им в его переписке. «Усыпляющий элемент русской жизни» в те же предреформенные годы вызвал к жизни такой характерный образ, как Обломов в одноименном романе И. А. Гончарова. Это тот же неподвижный «идол», как и Увар Иванович. И та же неподвижность грозила Шубину, – не случайно между «черноземной силой» и молодым художником была какая-то странная связь и «бранчивая откровенность».
Шубин называет Увара Ивановича «черноземной силой», «фундаментом общественного здания», «представителем хорового начала», «почвой». Можно предположить, что в этом герое отразились отчасти представления Тургенева о народе, о его скованных духовных силах. Об этом свидетельствуют такие национальные атрибуты, как кружка с квасом, всегда стоящая возле постели Увара Ивановича, а также его народное – общинное – представление о нравственности. Он, например, утверждает, что младшие должны безоговорочно подчиняться старшим… Шубин именует его еще и «стихийным человеком», – а это также народная черта. С другой стороны, в Уваре Ивановиче имеются «следы настоящей стаховской крови», то есть старого русского дворянства. Этот образ в какой-то степени символизирует те исторические формы, в которые вылилась дореформенная Россия, то есть крестьянскую общину с ее общинным сознанием («хоровым началом») и старое дворянское землевладение. Накануне реформы обострились споры именно о крестьянской общине: их вели славянофилы с западниками на страницах журналов «Русская беседа» и «Сельское благоустройство». Суть спора в общих чертах сводилась к противопоставлению «личность – община» и вытекающему из него другому противопоставлению: «Запад – Россия»…
Поземельную общину, крестьянский «мир», славянофилы (И. и П. Киреевские, Хомяков, Самарин, Кошелев, К. и И. Аксаковы) считали «основой общественного здания» России. Положив идею общины в основу своего учения, они считали себя первооткрывателями, связывая постановку проблемы об общине с возникновением славянофильства. «Славянское племя, и по преимуществу русское, отличается от всех других особенностью своего общинного быта», – писал в 1857 году в статье «Современный вопрос» А. С. Хомяков. Еще в 1839 году И. В. Киреевский говорил об общественном устройстве Древней Руси так: «Человек принадлежал миру, мир ему. Поземельная собственность, источник личных прав на Западе, была у нас принадлежность общества». К. С. Аксаков видел в общинном начале «душу русского народа» и был среди славянофилов самым горячим проповедником общины.
В условиях предстоящей отмены крепостного права славянофилы, бывшие поборниками скорейшей его ликвидации, боролись за освобождение крестьян с землей, основываясь на исконном праве крестьян на землю. В сохранении в России общинного землевладения при существовании и частной – помещичьей – собственности славянофилы видели гарантию ликвидации вражды между дворянским и крестьянским сословиями, основу для объединения нации. Они утверждали, что крепость общины не только оградит страну от революции («резни») и от «пролетарства», но и обеспечит «нравственную связь двух сословий, на основе помещичьей опеки над крестьянским «миром» (Хомяков).
Общинное начало, как свойственное России, славянофилы последовательно противопоставляли началу личностному, западному. Это они утверждали и в литературной критике, выступая за подчинение личности «хоровому началу». «Отделенная личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиримый разлад, – писал Хомяков. – Она до такой степени не способна быть началом или источником художества, что всякое ее проявление уже расстраивает или искажает художественное произведение».
Проблема «личность – община» (так же, как «Запад – Россия»), споры о которой начались задолго до реформы, не оставила равнодушным и Тургенева. Его спор со славянофилами, особенно в дореформенное время, нередко носил дружеский характер. Именно дружеские, весьма теплые отношения связывали его с некоторыми из них, например с семьей Аксаковых (отцом и двумя сыновьями). Тургенев спорит чаще всего с Константином Сергеевичем Аксаковым. В октябре 1852 года он пишет Сергею Тимофеевичу (отцу К. С.): «К сему письму приложено от меня несколько слов К-у С-чу насчет его замечаний, которые я большею частью признаю справедливыми, хотя в коренном нашем воззрении на русскую жизнь, а оттого и на русское искусство, мы расходимся. Он это, я думаю, знает; но чего он не знает, может быть, вполне, это – та горячая симпатия, которую я чувствую к его благородной и искренней натуре».
Еще в 1853 году в письме к К. С. Аксакову Тургенев говорит, что не может согласиться с его идеализацией общинного быта и с противопоставлением России, искони крепкой духом «общинности», Западу с его индивидуализмом. «Мы обращаемся с Западом, – пишет Тургенев, – как Васька Буслаев с мертвой головой, – подбрасываем его ногой – а сами… Вы помните, Васька Буслаев взошел на гору, да и сломил себе на прыжке шею. Прочтите, пожалуйста, ответ ему мертвой головы». Тургенев, в отличие от Аксакова, видит два источника «оживления» России – «западный» и «восточный». «Мы стоим у двух источников, – пишет он, – мертвой и живой воды; живая для нас запечатана семью печатями – а мертвой мы не хотим; но убитый богатырь воскрес от вспрыскивания обеими водами». Под живой водой, пользуясь терминологией самих славянофилов, Тургенев подразумевает народную жизнь с ее культурой, нравственностью, общинным сознанием.
Шубин, говоря о том, что Инсаров связан со своим народом общей целью – освобождением родины, – посмеивается над славянофилами (тут, без сомнения, Тургенев в его речь вкладывает свои мысли): «Он с своею землею связан – не то что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука!» Поднятая славянофилами проблема утраты образованным обществом народности существовала в реальности. Задача объединения нации на каждом шагу обнаруживала свою необыкновенную сложность… Тургенев считал, что и народ («простой») нужно учить, хотя отчасти приближать к интеллигентской культуре, пробуждать в каждом члене общины личность. Сам он во время подготовки реформы деятельно организовывает «Общество для распространения грамотности и первоначального образования». «Предприятие это касается всей России», – пишет он П. В. Анненкову из Вентнора в августе 1860 года. В этом вопросе у него был взгляд, противоположный славянофильскому.
Что касается общины, то и тут у Тургенева был свой – личный и живой – опыт. Так, не дожидаясь манифестов, он предпринял «крестьянскую реформу» в собственном имении, переведя своих крестьян с барщины на оброк и вольнонаемный труд, причем свое хозяйство он стал называть на западный образец «фермой». Эти нововведения он осуществил уже к началу 1860 года. «С крестьянами я почти везде благополучно размежевался (оставив, разумеется, старое количество земли), – пишет он И. С. Аксакову в октябре 1859 года, – переселил их (с их согласия) – и с нынешней зимы они все поступают на оброк, по 3 рубля серебром с десятины… Крестьяне, перед разлукой с «господами» – становятся, как говорится у нас, козаками – и тащут с господ всё, что могут: хлеб, лес, скот и т. д. Я это вполне понимаю – но на первое время в наших местах исчезнут леса, которые все продают теперь с остервенением. Ничего: лес вырастет – и уже не кое-где и не кое-как, а по указаниям науки. Трезвости у нас нет – такой пьяный уголок. Так и будут крестьяне сидеть на оброке с земли… пока не придут распоряжения сверху. О мире, об общине, о мирской ответственности в наших околотках никто слышать не хочет: я почти убеждаюсь, что это надо будет наложить на крестьян в виде административной и финансовой меры: сами собою они не согласятся – то есть они дорожат миром – только с юридической точки зрения, – как самосудством, если можно так выразиться, но никак не иначе».
Итак, Тургенев, как ему казалось, убедился на деле, что крестьяне не дорожат общиной и что она, следовательно, несвойственна крестьянской жизни, как утверждали славянофилы. Для того чтобы ее ввести, надо, в сущности, «налагать» ее на крестьян в административном порядке… Поэтому он и подвергал сомнению такие утверждения, как, например, следующее: «Сельская община есть факт первостепенный, самородный и бытовой, возражать на него было бы так же бесполезно, как спорить против климата, языка или физиономии народа» (Ю. Ф. Самарин). То есть Тургенев такие идеи не мог не считать иллюзиями, а их носителей – Дон-Кихотами…
Однако как бы они, по мнению Тургенева, ни заблуждались, они были чистыми, нравственными людьми. У них был героизм именно в тургеневском смысле – готовность пожертвовать собой во имя блага общества. В этом отношении показательно письмо И. С. Аксакова (1844) к родителям, приславшим ему копию с письма Гоголя: «Нет, сознавая истину его слов, я не могу оторваться от жизни и стремлюсь к противоположной цели… Жить, посвятив себя изучению собственной души своей, углубляться в самосознание, просветить духовные очи свои и после долгой, трудной борьбы, после тяжкого подвига исполниться гармонии и божественной любви – высоко, прекрасно. Но это может быть уделом одного лица. Человечество живет, движется, трепещет действительностью… И так сильно сочувствие мое к человечеству, тревожно бегущему к неизвестной цели, так близки мне интересы его нравственной жизни и материальных выгод, что, охотно пожертвовав блаженством христианским, личным, я посвятил бы себя на общую пользу, согласился бы быть одним из камней пирамиды… Мне кажется, что с Гоголевым настроением духа… не будешь годиться для общественной жизни».
Эти слова Аксакова вполне могли бы принадлежать тургеневскому Дон-Кихоту. Они созвучны и герою «Накануне» – Дмитрию Инсарову, в котором Тургенев подчеркивает всяческую определенность: «Черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ». Берсенев называет его железным человеком. Сравнивая лица Берсенева и Инсарова, Шубин замечает: «У болгара характерное, скульптурное лицо… у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть». В отличие от созерцателя Берсенева Инсаров – деятель, ДонКихот, его деятельность подчинена одной цели. Стоило при нем помянуть Болгарию, «все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь». «Когда тот (Инсаров. – В. А.) говорит о своей родине, – пишет Елена в дневнике, – он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит – он делал и будет делать».







