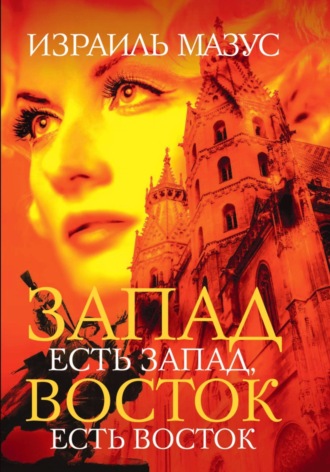
Израиль Мазус
Запад есть Запад, Восток есть Восток
Есть? Или нет?
Запад есть Запад, Восток есть Восток
Израиль Мазус
Нет Востока и Запада нет.
Редьярд Киплинг
Израиль Мазус, сиделец еще сталинских времен, сидевший за «дело», участник молодежного подполья, составитель уникального справочника молодежных антисталинских организаций, инженер-строитель, писатель, на девятом десятке своей долгой жизни – выпускает о нашем прошлом повесть, которую озаглавливает: «Запад есть Запад, Восток есть Восток».
Повесть о том, как в 1945 году победившие советские офицеры нащупывают контакты (в том числе эротические) с молодыми жительницами австрийской столицы Вены и как потом за это расплачиваются.
За что «за это»? За связи с враждебными Советскому Союзу элементами и тем самым – за измену Советскому Союзу. За вредительство, коротко говоря.
В какой-то мере эта история ложится в створ солженицынской прозы.
Тут и западни следствия, и восточный этап, неотвратимый в приговоре…
Запад и Восток – сойтись не могут?
Маршрут ссылки – не вынести? Вынести, но как вынести несправедливость?
Только если бежать…
Побег описан детально и врезается в читательское сознание своеобразной технологичностью. У зэков обнаруживаются и молотки, и гвозди, и стамески. Каким образом инструменты оказались в вагоне, вначале не совсем понятно. (Это потом уже после побега в деревенской бане Фролов узнает, что все это доставлялось в пути по крышам вагонов к небольшой тюремной решетке.) Доски вагонного пола, которые надо вырезать, не должны упасть на полотно дороги. Удары молотка по стамеске, напротив, должны… совпадать со стуком колес. Почему этому делу не мешает конвойный, который обязан стоять на переходной площадке? Тут трудно предположить сговор зеков с конвойными, скорее наша привычная российская неразбериха. Как и то, что беглецов, которые по ходу поезда выскользнут из вагона, – ждут… если не в Новосибирске, то в Красноярске, где идёт набор рабочих – строить в тайге новый город… назовём его Ангарском.
Заключенные и вольные работают вместе. В среде зеков действует иерархия и осуществляется своя справедливость. Руководство похоже на политбюро, только «без лукавства». Народ-то един, хотя и располосован на зоны.
Самое поразительное то, что сменивший фамилию Фролов «проколовшись» на звонках домой родителям, когда он просто слышал их голоса и потом вешал трубку; говоря телефонисткам, что не туда попал, оказавшись под гебешной слежкой, не арестовывается. Его начинают «вести». Фролов изменник родины. Значит, хотят дождаться связного из-за рубежа и взять обоих? Если бы так, но здесь все сложнее. В городе есть Хозяин. Начальник строительства как самого Ангарска, так и того градообразующего предприятия ради которого город и строится – генерал Бурдаков. Он же начальник лагеря, который называется Китойлаг, в котором сосредоточена основная рабочая сила.
Фролов один из ведущих руководителей строительства. Бурдакову жалко его терять. Генерал, много лет отработавший в карательных органах, оказавшись во главе строительства, видимо, только теперь понял свое истинное предназначение. Тем более, что обстоятельства «преступления» Фролова ничего кроме сочувствия в душе генерала вызвать не могли. Неизвестно сколько бы еще лет длилось сотрудничество этих двух людей, если бы не смерть Сталина.
А как же гэбэшники? Неужели и вправду верят, что вот-вот должен появиться связник? Сложное дело. Скорее всего, линию поведения по отношению к Фролову устанавливает им сам генерал Бурдаков. Истинный хозяин тех мест. Но разве для него это не рискованно? Еще как рискованно! Тогда зачем он это делает? Наверно потому, что строя Ангарск, Бурдаков все больше и больше ощущает себя строителем. Здесь все целесообразно, понятно и приносит удивительную радость. Вот почему все преследования, которые могли обрушиться на Фролова, всегда гасли где-то на полпути к зоне.
Участок Фролова получал переходящие красные знамена, денежные премии, сам он украшал своей фотографией городскую доску почета, а в это же время папка, на обложке которой было написано «Фролов он же Гладких», все пополнялась и пополнялась новыми оперативными данными. Пока в нее не были положены копии обращений самого Фролова в Генеральную прокуратуру и КГБ, с просьбой пересмотреть его дело.
Вроде бы системы слежки работают, а слежки нет, потому что люди явно не хотят осуществлять те репрессии, которые объявлены, записаны и сложены в папки.
Но как же так? Разве спецслужбы и лагеря не вызывали в народе отторжение?
Вызывали. Даже ненависть. Потому что в Гулаг мог по доносу загреметь кто угодно. Народ весь жил под этой готовой ударить дубиной. И терпел. Потому что и лагерная жуть, и страх измены были следствием войны. Лучше уж Сталин, чем Гитлер! – это люди понимали нутром, инстинктом. И терпели.
Как только Гитлер сгинул, и война окончилась, этот лагерный ошейник стал слабеть. Конечно, неофициально, необъявленно. А по-русски – молча. Пока жив был генералиссимус. Когда он помер – уже почти не стеснялись. Но в официозе смена курса не объявлялась вплоть до ХХ съезда партии. Реабилитации шли втихую.
Почему втихую? Да чтобы не сорвать дела безудержной сентиментальностью. Откровенно-то говоря, Фролов достоин сострадания. Но нет этого сострадания в эмоциональном составе повести. Есть некоторая суховатость тона. Чтобы эмоции не лезли в глаза.
А если при этом орать, то выйдет как раз бунт, бессмысленный и беспощадный. Лучше услышать, что ты дурак (это определение чаще всего используют в диалогах герои Мазуса), чем иметь действительную глупость выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. Уж если назрел поворот, то безопаснее тихий.
Характер русских вполне соответствует такому варианту. Мы привыкли к тому, что ничем не владеем, а всё – то у царя, то у генсека. У барина, у начальника. А притом – чувствуем себя хозяевами огромной страны. От края и до края. От Финских хладных скал до пламенной Колхиды. Попробуй, отними!
Гениально прочувствовала Ахматова: «Думали: нет у нас ничего… А как стали одно за другим терять…»
Так что же: есть у нашего народа страна, если он, народ, не хозяин?
А как потерять то, чего нет?
Нет? Или есть?
Или:
– Нет! Но есть…
Чтобы получше выявить эту зафиксированную у Мазуса русскую психологическую неизъяснимость, – напомню одну деталь из допроса, когда КГБ решило упечь офицера Фролова в лагерь за то, что он завёл роман с молодой австриячкой.
Следователь, уже напаявший Фролову срок, вдруг пускается в откровенность:
– В сущности, я такой же московский студент, как и ты. На фронт ушёл из университета. – Скорей всего, этот бывший студент после фронта и дембеля вернулся доучиваться в университет.
Это побуждает меня завершить статью личным воспоминанием.
На филфак МГУ я поступил после школы в 1951 году. В мужском контингенте нашего курса почти половину составляли фронтовики. Кто на костыликах, кто с палочкой… И все – с планками наград на пиджаках.
Мы с ними дружили. Пели «Бригантину». И цитировали Киплинга на каждом шагу. Кто перевёл знаменитые строки, мало кто из нас знал (перевела Елизавета Полонская, но нам чудилось, что Константин Симонов).
Как-то по-симоновски звучало в нашем восприятии:
– О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень с уд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Где это: у края земли – вопроса не было: конечно же, на границах СССР. Кто сильный окажется лицом к лицу с нашим сильным, – было не так ясно. Помнилась с военного времени газета «Британский союзник» где стояли на титуле наш солдат и английский – плечо к плечу… Но Черчилль в Фултоне своей яркой речью уже положил конец боевому союзу. Место второго сильного оставалось условным, однако ясно было, что именно так, через контакт сильных – будут решаться судьбы Истории.
Полвека спустя – подтверждается ли прозрение Киплинга?
Подтверждается! Только страны света надо бы обновить. Не Запад и Восток стоят лицом к лицу на краю света. Юг, одержимый неуёмной энергией, «прёт» на Север и уже мыслит землей обетованной не родные азиатско-африканские пустыни, а обустроенную северную Германию… А за океаном американцы возводят на южной границе стену, чтобы отбиться от мексиканцев…Две великие державы: американская и российская – ищут путей друг к другу, чтобы удержать всемирное равновесие…
Есть ли надежда, что контакт сильных спасёт человечество от нависшей катастрофы?
Есть? Или нет?
Лев АннинскийМарт 2016 г.
I
Конец июня 1945 г. Вена.
На одной из центральных улиц города Вены, у одной молодой велосипедистки с зубцов передаточного диска соскочила цепь. Девушка прислонила велосипед к фонарному столбу и в надежде на помощь кого-нибудь из проезжающих мимо водителей робко подняла руку. Одна из машин остановилась. Это был открытый джип, за рулем которого сидел капитан Красной армии Фролов. Тогдашним утром приказом коменданта города генерала Благодатова[1] он был назначен одним из офицеров связи с местным населением. До войны москвич Фролов учился в строительном институте, окончил 1-й курс, когда же началась война, был призван в армию, и направлен на командирские курсы. На фронте с весны 1942-го. Всю войну прослужил в пехоте. Серьезных ранений не было, а несерьезные чаще всего зарубцовывались сами. Только медсестрам, которые его перебинтовывали, иногда жаловался, что из-за бинтов не может по-человечески помыться. В госпитале побывал всего один раз, да и тот был прифронтовым. Во время боев в Австрии Фролов командовал батальоном, и его новое назначение показалось ему удивительным.
На совещании, где был зачитан и этот приказ, Благодатов сказал, чтобы офицеры связи начали свою работу, особое внимание обратив на водопровод и энергоснабжение города в тех районах, где эти системы пострадали во время боев. И тут же добавил, что пусть австрийцы и бывшие враги, но только не следует забывать, что они такие же жертвы немцев, как и мы, русские. Кто-то, сидящий в первом ряду, не очень громко сказал, что у немцев с австрийцами язык общий, а в 38-ом, когда случился аншлюс, разве не немцев австрийцы встречали цветами? Можно ли такое забыть? Может, пусть сами и восстанавливают? Благодатов ответил, что они и восстанавливают, но медленно, а то, что немцев цветами встречали, ну что ж, было и такое. Но только где же наше великодушие победителей, если вместо того, чтобы помочь совершившему ошибку народу, мы будем все время держать в уме этот прискорбный факт. Обманут народ был, недопонял. Но в зверствах не замечен, и уже одного этого вполне достаточно, чтобы как можно быстрее помочь австрийцам восстановить одну из самых замечательных европейских столиц.
Не исключено, что у некоторых офицеров в эту минуту и промелькнула быстрая мысль: а как же Гитлер, ведь он же австрияк? Однако высказать ее почему-то никто не решился. Что касается Фролова, то он об этом даже и не подумал. Наступивший мир, когда проходил день за днем, и ему больше не надо было подписывать похоронки, сделал его жизнь такой радостной, что он готов был передать эту радость всем вокруг. Вот почему к этой, выпавшей из своего гнезда цепи, Фролов отнесся, как к самому настоящему приглашению совершить свой первый, от всего сердца, добрый поступок по отношению ко всем жителям города Вены. Его внимание было так сильно сосредоточено на соскочившей цепи, что сойдя на дорогу со шведским ключом в руке, он всего лишь скользнул случайным взглядом по лицу велосипедистки. После чего сразу же опрокинул велосипед и уложил его у края дороги на руль и сиденье. Болезнь велосипедов была знакомая: ослабла гайка крепления заднего колеса. И верно – ось колеса почти свободно перемещалась в своей прорези. Фролов уложил на свое место цепь и когда натянул ее и стал крепить колесо, то увидел на гайке отверстия и понял, что она потому отвернулась, что потеряла свою шпильку. Фролов быстро посмотрел на девушку и сказал:
– Нихт шпилька, фройлен.
Девушка понимающе кивнула головой, а Фролов вслух подумал:
– Нужен тонкий длинный гвоздик, но только где его взять? Ну да ладно, нет гвоздя, будем искать проволоку.
Он подошел к машине и в багажнике на дне ящичка с инструментом действительно обнаружил проволоку подходящего размера. Там же нашлись и кусачки. Фролов быстро изготовил шпильку, протолкнул ее в отверстие и разогнул концы. Затем, очень довольный своей хорошо сделанной работой, он не только поставил велосипед на колеса, но еще и протер чистой тряпочкой сиденье и руль, после чего протянул велосипед девушке.
– Битте, фройлен, – с улыбкой сказал Фролов.
– Данке шон[2], – проговорила девушка.
Глаза их впервые по-настоящему встретились, и Фролов неожиданно обнаружил в ее взгляде что-то очень похожее на насмешку над собой. Но не злую, добрую. Еще Фролов заметил, что девушка удивительно хороша собой. Ее красоту можно было бы назвать даже строгой, если б не смешливое выражение глаз. И здесь Фролов вдруг подумал о том, что как бы это было замечательно, если б в школьные годы немецкий язык он учил с таким же усердием, как математику или историю с литературой. Потому что Фролов, сколько не старался, но никак не мог вспомнить тех слов, с помощью которых можно было бы продолжить это случайное знакомство.
Разделенные велосипедом они стояли друг против друга. По дороге мчались машины. На них обращали внимание. Кто-то даже просигналил, не сбавляя скорости. И ни он, ни она не торопились разъехаться, словно бы ждали чего то. Говори она по-русски, у него для нее нашлось бы множество слов. Скорее всего, Фролов бы сказал, что у него такое ощущение, будто бы они уже где-то встречались. И если бы она ответила, что это невозможно, ведь они живут в разных странах, то он бы тогда сказал, что, значит, видел ее во сне. И еще воскликнул бы в ответ на ее недоумение: да какая разница-то?! Ведь видел же! И тут вдруг Фролов, наконец, вспомнил некоторые из тех слов, которые должен был сказать еще в самом начале их знакомства. Он произнес:
– Фройлен, битте, заген мир ви ист зи Намэ[3]?
Девушка с готовностью произнесла:
– Хельга.
– Хельга?! – восторженно переспросил Фролов, – так ведь это же Ольга, если по-русски. Понимаете, Ольга! Форштеен?
Смех в глазах Хельги разгорелся еще сильнее.
– Я, я, то есть «да, да», – проговорила она и вдруг чисто по-русски добавила: – А вы хорошо говорите по-немецки, герр официр.
После чего заливисто рассмеялась.
– Вот это да-а, – наконец-то получив отгадку смеющимся глазам Хельги, изумленно проговорил Фролов, – что же ты сразу не призналась, что ты русская, Оля?
Хельга поежилась, огоньки в ее глазах погасли.
– Теперь вы не очень хорошо сказали, товарищ офицер. Я вам ни в чем не призналась. Разве вы меня допрашиваете?
Лишь теперь в словах Хельги Фролов смог уловить очень легкий иностранный акцент.
– Извините, – сказал Фролов, – и, правда, нехорошее слово подвернулось, случайное. Но только я никогда и никого не допрашивал. Я строевой офицер. Но вы-то сами кто?
– Здесь надо немного помолчать, но я не умею, – опять с непонятным весельем в глазах сказала Хельга. – У нас неправильный разговор. Я назвала себя, а вы нет. Извините.
– Не извиняйтесь, все правильно. Это все потому, что я еще не совсем понимаю, как мне с вами себя вести. Если честно, то я даже немного растерян… Но мы это сейчас исправим. Для начала представлю себя: Фролов Владимир Афанасьевич, офицер по связям военной комендатуры города Вены. А дальше, будь что будет, но я делаю вам предложение перейти на «ты». Тогда я стану для вас просто Владимиром, а то может быть даже и Володей. Вы согласны?
– Согласна, очень даже согласна, Владимир, – улыбнулась Хельга, – это имя лучше, чем Володя, ведь вы… ты уже не ребенок, у тебя на груди много награждений. И еще я согласна быть для тебя Ольгой. А теперь про то, что ты меня спросил. Я здесь родилась, и я совсем не русская, я немка. Но моя мама родилась и жила в Петербурге. Русский язык это единственное богатство, которое нам осталось от России, хотя, как у вас неправильно говорят, это было давно и неправда. Мама всю жизнь старается хотя бы немножко говорить со мной по-русски. В нашей библиотеке есть русские книги еще царского времени. Теперь я все больше их читаю. А то, что я тебе не сказала, что говорю по-русски, так это потому, что ты на меня совсем не смотрел. Когда же я услышала, как ты сам себе говорил, особенно про гвоздик и гвоздь, ты мне стал очень интересен. У тебя чистый язык. Когда вы к нам пришли, я стараюсь при каждом случае слушать слова вашей речи. Они ужасные. Зачем вам столько некрасивых слов? А вот ты очень мало говорил, но это было как музыка. Я слушала тебя и думала про мой скорый разговор с мамой, когда она узнает про мою и твою встречу, когда ты даже не думал, как я хорошо тебя понимаю.
– Ты, должно быть, очень хорошая дочь, если у тебя есть такое сильное желание все-все говорить своей маме…
– Нет, все-все я не говорю, но у нас намедни был один разговор, когда я сказала, что ужасно страдаю от языка русских солдат, когда начинаю их слушать. Мама тогда спросила: чего же ты ожидала? На каком еще языке должны говорить эти потомки убийц и воров? О, Владимир, что у тебя стало с лицом?! Я сказала не те слова?!
– Сказала. Про воров и убийц, – на лице Фролова больше не было улыбки, а во взгляде появился холод. – И не оправдывайся. Тем более что это не твои слова. Знаю, что дальше хочешь сказать. Что, оказывается, есть и такие русские, которые сами с собой на правильном языке говорят. Да откуда тебе знать, какие слова мне иногда приходилось кричать? Но я уже остыл. А те, кого ты подслушивала, значит, еще не остыли, да и подслушивать нехорошо. Взяла бы и спросила их о чем-нибудь. Даже и не сомневаюсь, что с тобой они бы сразу по-другому заговорили. Слушай, а про то, что я хорошо по-немецки говорю, ты ведь надо мной смеялась, да? А я и сам знаю, что плохо говорю. Еще немного, и у меня бы весь мой словарный запас закончился. Ну и что? Почему я должен обязательно знать немецкий?! Да век бы я о нем ничего не слышал. Вот для меня он и есть самый главный на земле язык убийц и воров! А твоей мамочке скажи, что после всего, что немцы у нас сделали, ей должно быть стыдно такие слова говорить…
– Не надо так про маму! – вскрикнула Хельга, – она не злая, она добрая!
– Все вы тут добрые. Нет, не надо тебе было таких слов повторять. Неужели твоя мама не знает, что немцы у нас натворили? Никого не жалели! Ты-то хоть знаешь?! Все вы тут смотрите на нас круглыми глазами, и никто из вас ничего не слышал и не видел, и не понимает, о чем вообще речь. Сегодня утром у меня и мысли такой не было, что с вами тоже надо разбираться, а теперь задумался. Чего застыла? Страшно стало?
– Ни капельки, – робко ответила Хельга. – Просто и ты, и мама говорите одинаково, но только ты этого еще не понимаешь. Для этого надо хорошо задуматься. У тебя это обязательно получится. Когда-нибудь. А теперь я хочу спросить: по каким связям ты офицер?
– Разве ты не догадалась, почему я кинулся чинить твой велосипед?
– О, еще как догадалась! Я тебе приглянулась, нет, по-русски говорят лучше: я тебе понравилась! Но только почему ты потом на меня совсем не смотрел?
Фролов засмеялся.
– Смотрел, но только не сразу. Поначалу-то, если честно, я тебя и не разглядел совсем. Я только заметил, что у местной гражданки сломался велосипед, который срочно нуждается в технической помощи. А я, как офицер по связям с местным населением, отвечаю тебе на вопрос, просто был обязан оказать тебе срочную помощь. Что же касается твоего предположения, что ты мне понравилась, так это да, это имеет место. И должен тебе признаться, что чем больше я с тобой говорю, тем больше ты мне нравишься. Подожди, ничего не говори, а то забуду самое главное, что хотел сказать. Мы с тобой познакомились совсем недавно, а у меня такое чувство, будто бы мы давно знакомы. Поэтому предлагаю продолжить наш разговор, сидя в машине, чтобы на нас не таращили глаза прохожие и водители. Будем сидеть в машине, и делать вид, что кого-то ждем, понимаешь? Ты согласна? Мы еще поговорим? И ты мне опять Ольга?
– Согласна я, поговорим. И я тебе опять Ольга. – Она засмеялась, глядя, как Фролов поднял велосипед, и прислонил его к спинкам кресел. – Я даже знаю, что будет дальше. Дальше ты скажешь как-нибудь так, что солнце очень жаркое, и хорошо бы поехать к реке… покупаться…
– Искупаться, – поправил ее Фролов, – так лучше. Слушай, но это просто удивительно, как совпадают наши мысли. Я еще только подумал, а ты об этом взяла и сама сказала. С тобой очень легко, Оля. Покажи направление, и поехали.
Машина уже медленно покатилась по дороге.
– Жалко, что у меня нет купального костюма, и когда ты будешь входить в Дунай, я смогу только полоскать себе лицо, – сказала Ольга, после чего Фролов проговорил, что у него есть одна очень хорошая идея.
– Я должна опять ее угадать? Как до этого угадала твою идею про Дунай?
– Нет, Оля, до этого ты точно не додумаешься. Я тебе ее открою, когда окажемся на берегу.
– А если угадаю?
– Даже и не пробуй. Ты лучше мне вот что скажи: когда из города выедем, у того места, где мы остановимся, есть какие-нибудь ориентиры, чтобы я заранее их увидел?
– Есть. Подбитый танк. И еще, Владимир, очень хочу, чтобы ты знал, как мне важно тебя слушать и говорить с тобой. Потому, что это совсем другой разговор, какой всю жизнь был у меня с мамой. Твой язык очень… свежий.
– Язык как язык, но ты особо-то не увлекайся, – серьезно проговорил Фролов, – на свежем языке у нас говорят и пишут только писатели. Поэтому их интересно читать. А так, как я говорю, у нас полстраны разговаривает. Если бы не война, я бы этим летом получил диплом инженера-строителя.
– А я учусь в университете на славянском отделении, в том числе учу там русский язык и философию. Я потому сказала, что ты на свежем языке говоришь, что до тебя, как теперь между собой говорят в России, никогда не слышала. Только солдат на улице.
– Опять ты про это? Но почему мужицкий язык для тебя не русский? Он тоже русский, но только для особых обстоятельств. И если он вдруг иногда становится таким громким, что его слышат женщины, то у нас они, чаще всего, делают вид, будто бы ничего не слышат. Ведь и при царях так было. А тебе не везло, когда ты специально прислушивалась к чужим разговорам. Я же тебе сказал, что ты, должно быть…
– Да, да, попадала на ребят, которые еще не остыли, – прервала его Ольга. – Но ты же остыл?
– Я просто, Оля, раньше их стрелять перестал. Не знаю, как у других, но у нас, русских, когда мы стреляем, то говорим на одном языке, а когда перестаем, то совсем на другом. Да наверно и у всех так. Слушай, снова у тебя смех в глазах?! Опять смеешься надо мной?
– Ты меня не понимаешь, Владимир. Я не смеюсь, я… забыла это слово. Когда получают радость от другого человека…как правильнее сказать?
– Удовольствие, – сказал Фролов.
– Именно так я и хотела сказать. Спасибо тебе, Владимир, я получаю удовольствие от твоей речи, с самого начала, как ты заговорил.
– Я от тебя это уже слышал. И что – это правда?
– Большое честное слово.
– Тогда прости меня. Значит, я не всегда правильно тебя понимаю. Очень жаль, сколько времени зря потеряли! Обидно.
– Но у нас с тобой много времени. Мы догоним. Как еще лучше сказать?
– Не знаю, может быть, на-верста-ем…
– О, от слова «верста», я именно о нем и хотела вспомнить. Я когда волнуюсь, то начинаю забывать некоторые слова. Но это только по-русски, потому мне, австрийке, это про-сти-тель-но. Зато вот какое слово вспомнила!
Уже за городом, когда машина на небольшой скорости покатилась вдоль закрытого кустарником Дуная, Фролов вспомнил самое начало их знакомства и спросил:
– А ты куда ехала, когда мы встретились? – Она ответила, что отец отправил ее с заявлением к бургомистру. На их улице стоит много машин, которые бросили местные наци, когда убегали в Германию, и жители просят разрешить им временно, пока нет их владельцев, воспользоваться ими для уборки улиц от следов боев.
– Майн фатер имеет большое товарищество, и они чистят улицы от войны, понимаешь?
– Понимаю, понимаю, – сказал Фролов и засмеялся.
Ольге его смех не понравился.
– Когда кто-нибудь смеется, он не может смеяться просто так. Если он не один, то должен что-нибудь еще и сказать.
– Ладно, скажу, – проговорил Фролов. – Вспомнил одну карикатуру из нашей дивизионной газеты. Там немцы со двора уводят корову и говорят хозяйке: мир махен цап-царап нихт, ейн фах[4] – за-б-ра-ли.
– Тебе не нравится, что папа желает пользовать чужой транспорт для уборки разбитый кирпич? – с обидой спросила Ольга.
– Вот этого я и боялся, что ты не поймешь наш юмор…
– Я понимаю, что юмор, но только он почему-то совсем не красивый…
– Оля, честное слово, о твоем папе я совсем не думал, когда про этих чертовых немцев, ой, прости, вспомнил, просто так совпало, как ты не понимаешь?! Да ведь я и не хотел тебе ничего говорить. Как чувствовал, что ты не так поймешь. Вот у нас с тобой и получилось недоразумение, из ничего, на пустом месте, и мне опять очень жаль. Здесь хочешь, не хочешь, а вспомнишь Киплинга…
– Киплинга?! – с интересом встрепенулась Ольга, – а что именно?
– А вот это: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись…
– А мне нравится другое начало, – воскликнула Ольга: – О! Запад есть Запал, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут. Как я рада за тебя, что ты тоже знаешь такие стихотворения!
– Это случайно. В школе учитель литературы любил Киплинга и часто читал нам его стихи. Особенно про пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, а я, понимаешь, раньше эти стихи больше других любил, а вот когда сам начал шагать по грязи и пыли, то мне эти слова быстро разонравились.
– Жалко, – сказала Ольга.
– Чего тебе жалко?
– Хороших стихов. А у тебя есть стихи, военные, про пыль и грязь, которые тебе никогда не разонравятся? – спросила Ольга.
Фролов задумался и с удивлением сказал:
– А ты знаешь, таких стихов и песен, о которых ты спросила, чтобы очень крепко за душу взяли… нет. Их, наверно, еще только пишут.
– Жалко, что нет. Я бы очень хотела их послушать… вместе с тобой…
Танк они увидели одновременно. Был он немецким и Фролов обрадовался, что не свой. Он еще, когда только услышал, что пляж рядом с подбитым танком, решил, что если танк окажется своим, то будет искать другое место для стоянки. Ольге он твердо решил ничего об этом не говорить до того, как приедут на место. Да рядом и с любым другим танком ему тоже купаться не хотелось бы. Но танк со свернутой башней застыл не рядом с пляжем, а на значительном расстоянии от него. Когда же джип продрался сквозь скрипящий кустарник, Фролов обрадовался, что это и не пляж совсем, в московском понимании. Когда в жаркий день на Москве-реке собирается множество людей большими и маленькими компаниями, и они каким-то совершенно немыслимым образом не замечают друг друга. Пляж был крохотным и безлюдным. Поэтому Фролов, прежде чем выйти из машины, сдал ее немного назад, чтобы плотно закрыть проход к реке.
– О, похоже на гнездышко, – насмешливо проговорила Ольга.
– Для гнездышка рановато немного, – засмеялся Фролов, – мы с тобой еще должны хорошо узнать друг друга. Если тебе не нравится, могу откатить машину обратно.
– Мне нравится, – все также насмешливо ответила Ольга. – Особенно, если знаешь велосипедистов, что остались у нас за спиной. Они катились именно сюда. У меня и моей подруги с ними конкуренция, кто раньше займет этот пляж. До следующего надо еще немного ехать. Но мы уже здесь, и я никак не дождусь узнать, какая у тебя и-де-я. Ты обещал сказать сразу, когда приедем.
Фролов сбросил с себя одежду и в черных трусах до колен подошел к машине, чтобы из багажника вынуть ковер и расстелить его на траве рядом с узкой полоской белого песка, который отделял их от Дуная. Когда же усадил на ковер Ольгу, то тут же и положил перед ней рубашку с кальсонами, которые утром получил вместе с сухим пайком в хозяйственной части комендатуры. До такого Ольга действительно не додумалась бы никогда в жизни. Ее охватил приступ неудержимого веселья. Она смеялась до слез и никак не могла остановиться. Когда же успокоилась, то спросила:
– Ты хочешь, чтобы я оделась в эти панталоны?
– Ну, – сказал Фролов и замолчал.
– Что значит твое «ну»? Я не понимаю, – с уже очень строгим выражением на лице спросила Ольга.
– «Ну» по-сибирски обозначает «да».
– Но я не говорю по-сибирски!
– Тогда прости, – улыбнулся Фролов, – я думал, что у вас на факультете сибирский язык тоже учат, он ведь славянский.
– У тебя странный юмор, и я его стала очень плохо понимать. Ты меня дразнишь? – с улыбкой спросила Ольга.
– Ну, наконец-то, отошла. Теперь слушай, ту часть купального костюма, который я тебе предложил надеть, называют не панталонами, как ты их обозвала, а кальсонами. И потом ты даже до них не дотронулась, а они не просто какие-нибудь трикотажные солдатские, а льняные офицерские, понимаешь?
Ольга дотронулась до белья и сказала:
– О, да, действительно…
И весело добавила:
– Ты, конечно, не знаешь, но у твоего предмета есть история. В старые века женщины носили это под верхней одеждой, и их называли панталонами, а когда женщинам разрешили открыть ноги, мужчинам было жалко выбрасывать материю, и они надели ее на себя зимой под штаны в уменьшенном объеме и носят еще и теперь. Мой папа тоже. Французы их называют кальцонес. Вы опять взяли чужое слово? Зачем?
– Это не у меня, у тебя надо спросить, почему оно у нас появилось. Это вы, а не мы тогда в Петербурге жили. А у нас до этого другое слово было – подштанники. Короче, забирай кальсоны и переодевайся, рубашку не забудь надеть. Купаться хочу, сил нет, и не один, а обязательно с тобой.
И Ольга с бельем в руках тут же стремительно поднялась и встала у него за спиной, произнеся одно только слово:
– Замри!
– О, ты даже это знаешь?! – удивился Фролов. – А что говорят потом?
– Я еще не готова, чтобы сказать это слово, – смеясь, ответила Ольга, – но ты знаешь, я эти слова услышала еще совсем маленькой. Мы с мамой в это играли. И еще хочу тебе сказать, что я не буду завязывать веревочки, я лучше подниму ткань до колен…
– Не делай этого, в воде штанины обязательно сползут, и когда выйдешь на берег, будешь по ним ходить. Я сам завяжу тебе тесемки…
– Отомри! – вскрикнула Ольга.
Фролов повернул голову и снова замер. Лицо Ольги из-за странного и впервые увиденного Фроловым неожиданного испуга в ее глазах показалось ему еще более прекрасным и беззащитным. Его замешательство продолжалось одно мгновение, и когда он пришел в себя, то сразу же подумал: это все из-за белого цвета. Потом наклонил голову и, увидев лежащие на ковре тесемки, тихо засмеялся и проговорил:


