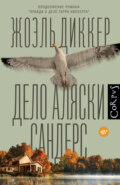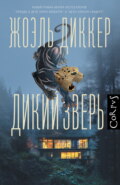Жоэль Диккер
Правда о деле Гарри Квеберта
Я поставил машину на гравийной парковке, рядом с крыльцом. Его красный “корвет” был на месте, перед маленькой пристройкой, служившей гаражом, как всегда. Как будто хозяин дома и все хорошо. Я хотел войти в дом, но он оказался заперт. В первый раз на моей памяти эта дверь не открылась передо мной. Я обошел дом; мне не встретилось ни одного полицейского, но весь участок за домом был обнесен заградительными лентами. Я всмотрелся в обширное огороженное пространство, протянувшееся до самой опушки леса. Издалека угадывались очертания зияющего кратера, свидетельство усердных полицейских раскопок, а прямо рядом с ним засыхали всеми забытые гортензии.
Наверно, я проторчал так битый час, потому что вскоре сзади послышался звук подъезжающей машины. Из Конкорда приехал Рот: увидел меня по телевидению и сразу примчался сюда. Первыми его словами было:
– Явились все-таки?
– Да. А почему такой вопрос?
– Гарри сказал, что вы приедете. Сказал, что вы чертовски упрямый осел и скоро явитесь сюда, будете совать нос в его дело.
– Гарри хорошо меня знает.
Рот порылся в кармане пиджака и извлек оттуда клочок бумаги:
– Это от него.
Я развернул листок. Это была записка.
Дорогой мой Маркус!
Если Вы читаете эти строки, значит, Вы приехали в Нью-Гэмпшир узнать, как дела у старого друга.
Вы храбрый малый; никогда в этом не сомневался. Клянусь, я не виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Тем не менее, думаю, мне придется некоторое время просидеть в тюрьме, а у Вас есть чем заняться, кроме как мной. Займитесь своей карьерой, займитесь романом, который Вам надо к концу месяца сдать издателю. Ваша карьера для меня важнее. Не тратьте на меня время.
Ваш Гарри.
P. S. Если Вам вдруг все-таки захочется немножко пожить в Нью-Гэмпшире или время от времени наезжать сюда, то Вы знаете: Гусиная бухта Ваш дом. Можете жить здесь, сколько хотите. Прошу Вас только об одном одолжении: кормите чаек. Кладите хлеб на террасу. Кормите чаек, это важно.
– Поддержите его, – сказал Рот. – Вы нужны Квеберту.
Я кивнул.
– Как для него все складывается?
– Плохо. Видели новости? Про книжку всем все известно. Это катастрофа. Чем больше я узнаю, тем чаще задаюсь вопросом, как мне его защищать.
– Откуда утечка?
– По моим представлениям, прямо из кабинета прокурора. Они хотят еще сильнее надавить на Гарри, облить его грязью в глазах общественного мнения. Им нужно чистосердечное признание, они знают, что в деле тридцатилетней давности признание – штука первостатейная.
– Когда я могу с ним встретиться?
– Уже завтра утром. Тюрьма штата находится на выезде из Конкорда. Где вы остановитесь?
– Здесь, если можно.
Он поморщился:
– Сомневаюсь. Полиция обыскала дом. Это место преступления.
– Разве место преступления не там, где яма? – спросил я.
Рот обследовал входную дверь, потом быстро обошел дом и, улыбаясь, вернулся ко мне.
– Из вас бы вышел неплохой адвокат, Гольдман. Дом не опечатан.
– Значит, я имею право здесь поселиться?
– Значит, вам не запрещено здесь поселиться.
– Я, кажется, не совсем понял.
– В этом прелесть американского права, Гольдман: если закона нет, вы его сами придумываете. А если к вам посмеют прикопаться, идите в суд, он признает вашу правоту и вынесет решение имени вас: Гольдман против штата Нью-Гэмпшир. Знаете, почему в этой стране вам сразу после ареста обязаны зачитать ваши права? Потому что в шестидесятых годах некий Эрнесто Миранда был осужден за изнасилование на основании собственных показаний. Так вот его адвокат, представьте, решил, что это несправедливо, ибо милейший Миранда в школе не засиделся и не знал, что Билль о правах позволяет ему не свидетельствовать против себя. Этот самый адвокат поднял шум, обратился в верховный суд, и все такое – и, представьте себе, выиграл, козел! Признания недействительны, решение “Миранда против штата Аризона” увенчано лаврами, и теперь любой коп, засадивший вас за решетку, должен бубнить: “Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде, ваш адвокат может присутствовать при допросе, если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством”. Короче, всем этим дурацким ля-ля тополя, какое все время слышишь в кино, мы обязаны другу Эрнесто! Мораль: правосудие в Америке, Гольдман, – это коллективная работа, в ней может участвовать каждый. Так что забирайте себе это местечко, ничто вам не мешает, а если полиция обнаглеет и начнет цепляться, грозите судом, возмещением громадного ущерба и убытков. Они этого пугаются. Зато вот ключей от дома у меня нет.
Я достал из кармана связку:
– Гарри мне дал в свое время.
– Гольдман, да вы волшебник! Только заклинаю, не заходите за полицейские ограждения: у нас будут проблемы.
– Договорились. Кстати, Бенджамин, обыск дома что-нибудь дал?
– Ничего. Полиция ничего не нашла. Потому-то его и не опечатали.
Рот уехал, а я вошел в огромный пустой дом. Запер дверь изнутри и направился прямиком в кабинет, на поиски пресловутой шкатулки. Но ее там больше не было. Куда Гарри мог ее деть? Мне непременно хотелось ее добыть, я обшарил все книжные полки в кабинете и в гостиной, но тщетно. Тогда я решил тщательно осмотреть каждую комнату, поискать хоть какую-нибудь мелочь, которая помогла бы понять, что произошло здесь в 1975 году. Неужели в одной из этих комнат была убита Нола Келлерган?
В конце концов я нашел несколько альбомов с фотографиями, которые прежде никогда не видел или не замечал. Открыв наугад один из них, я обнаружил наши с Гарри снимки времен университета. В аудиториях, в зале для бокса, в университетском парке, в кафешке, где мы часто встречались. Там были даже фото с моего вручения диплома. В другом альбоме хранились вырезки из газет и журналов, посвященные мне и моей книге. Отдельные фрагменты были подчеркнуты или обведены красным карандашом; только теперь я понял, что Гарри всегда самым пристальным образом следил за моей жизнью и благоговейно хранил все свидетельства, имевшие ко мне хотя бы отдаленное отношение. Я нашел даже вырезку из газеты Монтклера полуторагодичной давности с описанием церемонии, устроенной в мою честь в Фелтоновской школе. Где он раздобыл эту статью? Я прекрасно помнил тот день. Незадолго до Рождества 2006 года продажи моего первого романа превысили миллион экземпляров, и директор школы, где я получил среднее образование, воодушевившись моим бурным успехом, решил воздать мне должное.
Помпезное чествование состоялось субботним вечером в актовом зале школы, куда собрали избранных учеников, выпускников и нескольких местных журналистов. Весь этот бомонд теснился на раскладных стульях перед огромным занавесом; после торжественной речи директора занавес упал, открыв большой стеклянный шкаф с надписью: “В честь Маркуса П. Гольдмана по прозвищу Великолепный, учившегося в этой школе в 1994–1998 гг.” За стеклом красовался экземпляр моего романа, мои старые табели с оценками, несколько фотографий, моя майка игрока в лакросс и майка команды бегунов.
Я перечитал статью с улыбкой. Мое пребывание в Фелтоне, маленьком, очень спокойном учебном заведении в северной части Монтклера, настолько врезалось в память однокашникам и учителям, что они прозвали меня Великолепным. Но в тот декабрьский день 2006 года никто из аплодировавших витрине моей славы не знал, что признанной звездой Фелтона на четыре долгих прекрасных года я стал лишь благодаря череде сперва случайных, а затем умело подстроенных недоразумений.
Эпопея Великолепного началась одновременно с первым учебным годом: мне предстояло выбрать вид спорта, которым я стану заниматься. Я решил, что это будет либо футбол, либо баскетбол, но число мест в обеих командах было ограниченно, а я, на свою беду, в день записи явился в нужный кабинет слишком поздно.
– Я уже закрылась, – заявила мне толстая дама, отвечавшая за регистрацию. – Приходите на следующий год.
– Мэм, пожалуйста, – взмолился я, – мне обязательно надо записаться на какой-нибудь вид спорта, а то меня выгонят.
– Фамилия? – вздохнула она.
– Гольдман. Маркус Гольдман.
– Какой вид?
– Футбол. Или баскет.
– Мест нет. Остались команды либо акробатического танца, либо лакросса.
Лакросс или акробатический танец. Хрен редьки не слаще. Я знал, что если попаду в танцевальную команду, надо мной будут смеяться, и выбрал лакросс. Но в Фелтоне уже лет двадцать не было хорошей команды по лакроссу, никто из учеников не хотел туда идти, и теперь она состояла из тех, кого выгнали отовсюду или кто опоздал на запись. Так я оказался в ущербной, никчемной и неумелой команде, которой, однако, предстояло покрыть меня славой. В надежде перейти со временем в футбол я решил добиваться спортивных достижений, чтобы меня заметили, и тренировался с таким невиданным усердием, что через две недели наш тренер усмотрел во мне звезду, которую ждал всегда. Меня немедленно сделали капитаном и без каких-либо особых усилий с моей стороны сочли лучшим игроком в лакросс за всю историю школы. Я легко побил рекорд по голам двадцатилетней давности – совершенно убогий – и за подобную доблесть попал на школьную Доску почета, чего еще ни разу не случалось с первогодком. Это, разумеется, впечатлило однокашников и привлекло ко мне внимание учителей. Из этого опыта я вынес одно: чтобы стать великолепным, достаточно пускать пыль в глаза другим; в конечном счете все дело в штукарстве.
Я быстро втянулся в игру. Естественно, вопрос об уходе из команды по лакроссу для меня больше не стоял: отныне мной владела одна-единственная мысль – во что бы то ни стало быть лучшим, любой ценой обратить на себя внимание. Был, к примеру, общий конкурс личных научных проектов, в нем победила сверходаренная мелкая стерва по имени Салли, а я оказался на шестнадцатом месте. Во время вручения премии в актовом зале я ухитрился взять слово и сочинил историю о том, как все выходные напролет добровольно занимался с умственно отсталыми детьми, что сильно помешало моей работе над проектом; а в конце произнес со слезами на глазах: “Мне безразличны любые первые премии, если я могу принести крупицу счастья моим маленьким трисомным друзьям”. Все были явно взволнованы; я сумел затмить Салли в глазах учителей, товарищей и самой Салли, у которой оказался братик с тяжелой инвалидностью (этого я не знал) и которая отказалась от премии, потребовав, чтобы ее вручили мне. После этого эпизода мое имя появилось на Доске почета – которую я, вполне сознавая свое самозванство, называл про себя “Доской бесчестья”, – в рубриках “спорт”, “наука” и “приз лучшему товарищу”. Но остановиться я не мог, я был как одержимый. Неделю спустя я побил рекорд продажи билетов вещевой лотереи, купив их сам у себя на деньги, накопленные за два последних лета, когда убирал лужайки вокруг городского бассейна. Большего и не требовалось: вскоре вся школа стала говорить, что Маркус Гольдман – человек высшей пробы. В итоге ученики и учителя наградили меня прозвищем Великолепный, словно заводским клеймом, гарантией абсолютного успеха, а моя скромная слава прокатилась по всему нашему кварталу в Монтклере, преисполнив родителей невероятной гордости.
Заработанная таким сомнительным способом репутация побудила меня заняться благородным искусством бокса. Я всегда питал слабость к боксу и всегда был неплохим бойцом, но, тайно отправляясь на тренировки в один бруклинский клуб, в часе езды на поезде, где меня никто не знал, где не существовало Великолепного, я искал другого: права быть уязвимым, права уступить победу более сильному, права потерять лицо. Это был единственный способ сбежать подальше от созданного мною пугала совершенства – в зале для бокса Великолепный мог потерпеть поражение, мог быть плохим. Здесь мог существовать Маркус. Ибо мало-помалу моя навязчивая идея стать абсолютным номером один превзошла все мыслимые пределы: чем больше я выигрывал, тем больше боялся проиграть.
На третьем году моего обучения директору из-за сокращения бюджета пришлось распустить команду по лакроссу: она обходилась школе слишком дорого, а не приносила почти ничего. И значит, мне, к великому моему горю, нужно было выбирать новый вид спорта; конечно, футбольная и баскетбольная команды строили мне глазки, но я знал, что, попав в одну из них, столкнусь с куда более одаренными и целеустремленными игроками, чем мои товарищи по лакроссу. Я рисковал оказаться на вторых ролях, снова стать никем или, хуже того, оскандалиться: что будут говорить, если Маркус Гольдман по прозвищу Великолепный, бывший капитан команды по лакроссу, побивший рекорд по числу забитых мячей за двадцать лет, вдруг окажется мазилой на футбольном поле? Две недели я жил в тоске и тревоге – пока не услышал о всеми забытой команде по бегу, состоявшей из двух коротконогих толстяков и одного тощего задохлика. Оказалось к тому же, что это единственный вид спорта, в котором Фелтон никогда не состязался с другими школами: здесь я мог быть уверен, что мне не придется тягаться ни с кем, кто мог бы представлять для меня опасность. В общем, я с большим облегчением и без колебаний записался в фелтоновскую команду по бегу и на первой же тренировке, под влюбленными взорами директора и нескольких девиц из группы поддержки, побил рекорд скорости моих незлобивых товарищей.
И все бы прекрасно обошлось, если бы не директор, которому пришла в голову несуразная мысль устроить большие соревнования по бегу между учебными заведениями округа, дабы поправить положение школы: прельстившись моими результатами, он не сомневался, что Великолепный играючи одержит победу. При этом известии меня охватила паника; я без устали тренировался целый месяц, но знал, что против бегунов из других школ, поднаторевших в соревнованиях, у меня нет никаких шансов. Я был лишь картонным фасадом; меня поднимут на смех, и в придачу на своей же территории.
В день забега болеть за меня собрался весь Фелтон да еще половина нашего квартала. Прозвучал стартовый выстрел – и, как я и боялся, меня немедленно обогнали все остальные бегуны. Настал решающий момент; на кону стояла моя репутация. Забег был на шесть миль, двадцать пять кругов по стадиону. Двадцать пять унижений. Я финиширую последним, поверженный и обесчещенный. Победитель, быть может, обойдет меня на целый круг. Надо было любой ценой спасать Великолепного. Я собрал все силы, всю свою энергию и, выдав в отчаянном порыве безумный спринт, под восторженные вопли толпы возглавил забег. Теперь, пока я был первым, пора было воплощать разработанный мной иезуитский план: чувствуя, что силы мои на исходе, я сделал вид, будто споткнулся, и полетел на землю – со всеми положенными кульбитами, воплями на публику и криками толпы; в итоге это стоило мне сломанной ноги, что, конечно, предусмотрено не было, зато спасло величие моего имени – ценой операции и двухнедельного лежания в больнице. А на следующей неделе после происшествия школьная газета писала обо мне:
Во время этого легендарного забега Маркус Гольдман по прозвищу Великолепный, далеко оторвавшийся от соперников и готовый одержать сокрушительную победу, пал жертвой дурного качества беговой дорожки: он неудачно упал и сломал ногу.
Таков был конец моей карьеры бегуна и спортсмена вообще: по причине тяжелой травмы меня освободили от занятий спортом до самого окончания школы. За свою самоотверженность и героизм я был удостоен таблички с моим именем в витрине почета, где уже красовалась моя майка бегуна. А директор, кляня дурное качество спортивных сооружений Фелтона, затеял дорогостоящие работы по замене всего покрытия беговой дорожки на стадионе; средства он черпал из бюджета внеклассной работы, и ученики всех классов на весь следующий год лишились каких-либо мероприятий.
По окончании школы мне, со всем моим ворохом отличных оценок, грамот и рекомендаций, предстоял роковой выбор: выбор университета. И когда однажды вечером, лежа на кровати в своей комнате, я разложил перед собой три пригласительных письма – одно из Гарварда, другое из Йеля, а третье из Берроуза, маленького, никому не ведомого университета в Массачусетсе, сомнений у меня не было: я хочу в Берроуз. В крупном университете мне грозила опасность потерять ярлык Великолепного. Отправиться в Гарвард или Йель значило задрать планку слишком высоко: у меня не было ни малейшего желания сталкиваться с неугомонной элитой, явившейся со всех концов страны и готовой поселиться на всех досках почета. Доски почета Берроуза представлялись мне куда более доступными. Великолепному вовсе не хотелось осрамиться. Великолепный желал остаться Великолепным. Берроуз подходил для этого идеально: скромный кампус, где я, бесспорно, буду блистать. Мне не составило труда убедить родителей, что факультет литературы в Берроузе во всех отношениях лучше, чем в Гарварде и Йеле, – и осенью 1998 года я перебрался из Монтклера в маленький промышленный городок в Массачусетсе, где мне предстояло встретиться с Гарри Квебертом.
Под вечер, когда я все еще сидел на террасе, разглядывая альбомы с фотографиями и погружаясь в воспоминания, мне позвонил ошарашенный Дуглас:
– Маркус, дьявол тебя раздери! В голове не укладывается! Ты уехал в Нью-Гэмпшир и даже меня не предупредил! Мне звонят журналисты, спрашивают, что ты там делаешь, а я не в курсе. Пришлось включить телевизор, чтобы что-то узнать. Возвращайся в Нью-Йорк. Вернись, пока не поздно. Эта история – совершенно не твоего ума дело! Прямо завтра на рассвете выбирайся из этой дыры и возвращайся в Нью-Йорк. У Квеберта отличный адвокат. Пускай он делает свою работу, а ты займись своей книгой. Тебе через две недели рукопись сдавать Барнаски!
– Гарри нужно, чтобы рядом был друг, – ответил я.
Повисла пауза, а потом Дуглас прошептал – так, словно только сейчас осознал то, чего не мог понять долгие месяцы:
– У тебя нет книги, да? Две недели до срока, а ты, блин, не удосужился написать эту долбаную книгу! Так, Марк? Ты собрался другу помогать или ты из Нью-Йорка сбежал?
– Заткнись, Дуг.
Снова повисла долгая пауза.
– Марк, скажи, что у тебя есть идея. Скажи мне, что у тебя есть план и есть веская причина отправиться в Нью-Гэмпшир.
– Веская причина? А дружба – этого мало?
– Да блин, чем ты ему таким обязан, этому Гарри, чтобы туда ехать?
– Всем, абсолютно всем.
– То есть как это – всем?
– Дуглас, это сложно.
– Черт, Маркус, что ты хочешь сказать?
– Дуг, в моей жизни был эпизод, о котором я никогда тебе не рассказывал… После школьных лет я бы точно пошел по дурной дорожке. А потом я встретил Гарри… В каком-то смысле он спас мне жизнь. Я перед ним в долгу… Без него я бы никогда не стал писателем, тем, кем я стал. Это случилось в Берроузе, штат Массачусетс, в 1998 году. Я обязан ему всем.
29. Можно ли влюбиться в пятнадцатилетнюю девочку?
– Мне бы хотелось научить вас писать, Маркус, не затем, чтобы вы просто умели писать, но чтобы вы стали писателем. Потому что писать книги – это пустяки: писать все умеют, но не все при этом писатели.
– А как человек узнает, что он писатель, Гарри?
– Никто не знает, что он писатель. Ему об этом говорят другие.
Все, кто помнит Нолу, скажут, что она была чудесная девушка. Из тех, что надолго врезаются в память: нежная и предупредительная, лучезарная и одаренная во всем. В ней, казалось, обитала та упоительная радость жизни, какая способна озарить самый хмурый дождливый день. По субботам она подрабатывала официанткой в “Кларксе”; кружила между столиками в порхающем облаке светлых вьющихся волос. Всегда находила приветливое словечко для каждого клиента. Посетители не сводили с нее глаз. Нола – это был целый мир.
Единственная дочь Дэвида и Луизы Келлерган, южан-евангелистов, родилась 12 апреля 1960 года в Джексоне, штат Алабама, откуда были родом ее родители. Семейство Келлерган обосновалось в Авроре осенью 1969 года: отец Нолы получил место пастора в приходе Сент-Джеймс, главной общине Авроры, в то время весьма многочисленной и постоянно пополнявшейся. Церковь Сент-Джеймс, внушительное дощатое здание, стояла у южного въезда в город; сейчас от нее ничего не осталось: общине Авроры пришлось слиться с общиной Монберри из-за финансовых трудностей и малого числа прихожан. Теперь на этом месте ресторан “Макдоналдс”. С самого приезда Келлерганы поселились на Террас-авеню, 245, в симпатичном одноэтажном доме, принадлежащем приходу: скорее всего, именно через окно своей комнаты шесть лет спустя, 30 августа 1975 года, Нола ушла и растворилась в пространстве.
Всеми этими описаниями встретили меня завсегдатаи “Кларкса”, куда я отправился наутро после приезда в Аврору. Проснулся я внезапно, на рассвете, от мучительно неприятного чувства, что на самом деле сам не знаю, зачем я здесь. Совершив пробежку по пляжу, я покормил чаек – и тут же спросил себя, вправду ли добрался до самого Нью-Гэмпшира только ради того, чтобы побросать хлеба морским птицам. Встретиться в Конкорде с Бенджамином Ротом, чтобы навестить Гарри, я должен был только в одиннадцать; оставаться одному не хотелось, и я решил пока сходить в “Кларкс” поесть оладий. Когда я в студенческие годы гостил у Гарри, он имел обыкновение таскать меня туда на рассвете. Будил еще до зари – безжалостно тряс со словами, что пора надевать спортивный костюм. Потом мы спускались на берег океана пробежаться и позаниматься боксом. Если он слегка уставал, то начинал изображать тренера: останавливался, якобы затем, чтобы поправлять мои удары и стойки, но я знал, что главным образом ему просто надо отдышаться. Так, за упражнениями и пробежками, мы одолевали по пляжу несколько миль, отделявших Гусиную бухту от Авроры. Затем поднимались по скалам Гранд-Бич и шли по спящему городу. На главной улице, погруженной в темноту, издалека виднелся яркий свет, лившийся из витрины забегаловки – единственного заведения, открытого в такую рань. Внутри царил полный покой; редкие посетители, дальнобойщики и коммивояжеры, молча поглощали свой зав трак. Где-то в глубине говорило радио, неизменно включенное на новостном канале, но звук был слишком тихий, и слова диктора не всегда можно было разобрать. Если утро выдавалось жарким, под потолком с металлическим скрежетом крутился вентилятор, и вокруг ламп плясали пылинки. Мы усаживались за столик номер 17, и Дженни сразу приносила нам кофе. Мне она всегда улыбалась нежно, почти по-матерински. Говорила: “Бедный Маркус, он тебя заставляет вставать ни свет ни заря, да? Вечно он так, сколько его знаю”. И мы смеялись.
Но сегодня, 17 июня 2008 года, несмотря на ранний час, в “Кларксе” уже царило необычайное оживление. Все только и говорили, что об этом деле, и едва я успел войти, как меня обступили знакомые из числа завсегдатаев: все хотели знать, правда ли это, была ли у Гарри связь с Нолой и убил ли он ее и Дебору Купер. Я уклонился от ответа и уселся за 17-й столик, он оставался свободным. И обнаружил, что таблички в честь Гарри больше нет: только две дырочки от шурупов в деревянной столешнице да выцветший лак на месте металлической пластины.
Дженни принесла мне кофе и приветливо поздоровалась. Вид у нее был грустный.
– Ты переехал к Гарри? – спросила она.
– Конечно. Ты сняла табличку?
– Да.
– Почему?
– Он написал книгу для этой девчонки, Маркус. Для пятнадцатилетней девчонки. Я не могу оставить табличку. Это не любовь, это мерзость.
– Думаю, все не так просто, – ответил я.
– А я думаю, что нечего тебе лезть в это дело, Маркус. Лучше бы ты вернулся в Нью-Йорк, подальше от всего этого.
Я заказал ей оладьи и сосиски. На столе валялся заляпанный жиром номер Aurora Star. На первой странице поместили громадную фотографию Гарри времен его славы: представительный вид, глубокий, уверенный в себе взгляд. А сразу под ней – снимок из Дворца правосудия в Конкорде: Гарри входит в зал заседаний, в наручниках, опустившийся, осунувшийся, с всклокоченными волосами и перевернутым лицом. Овальные портреты Нолы и Деборы Купер. И заголовок: “Что совершил Гарри Квеберт?”
Вскоре после меня пришел Эрни Пинкас и сел ко мне за столик с чашкой кофе.
– Видел тебя по телевизору вчера вечером, – сказал он. – Ты перебрался сюда?
– Да, наверно.
– Чего ради?
– Сам не знаю. Ради Гарри.
– Он ведь невиновен, да? Не могу поверить, чтобы он такое сотворил… Нелепость какая-то.
– Я уже ничего не знаю, Эрни.
По моей просьбе Эрни рассказал, как несколько дней назад полиция обнаружила останки Нолы, зарытые в Гусиной бухте на метровой глубине. В тот четверг жителей Авроры взбудоражили сирены полицейских машин, съехавшихся со всего округа: тут были и машины дорожной полиции, и авто уголовной полиции без опознавательных знаков, и даже передвижная лаборатория.
– Когда выяснилось, что это, вероятно, останки Нолы Келлерган, все были просто в шоке! – объяснял Пинкас. – Никто не мог поверить, что все это время она была прямо тут, у нас на глазах. Я имею в виду, сколько раз я приходил к Гарри, на эту самую террасу, выпить стаканчик виски… Чуть ли не рядом с ней… Скажи, Маркус, он правда написал ту книгу для нее? Не могу поверить, что у них был роман… А ты что-нибудь про это знал?
Вместо ответа я стал изо всех сил размешивать кофе, устроив в чашке водоворот, и сказал только:
– Тут сам черт ногу сломит, Эрни.
Немного погодя к нашему столику подсел Тревис Доун, шеф полиции Авроры и в придачу муж Дженни. Он был из числа самых давних моих здешних знакомых: седеющий шестидесятилетний добряк, этакий беззлобный деревенский коп, которого уже давно никто не боится.
– Мне очень жаль, сынок, – произнес он, поздоровавшись.
– Жаль чего?
– Да я об этой истории, что свалилась тебе на голову. Вы очень близки с Гарри, я знаю. Нелегко тебе, должно быть.
Тревис оказался первым человеком, который подумал и о моих чувствах. Кивнув, я спросил:
– Почему за все время, что я здесь бываю, я ни разу не слышал о Ноле Келлерган?
– Потому что, пока не нашли ее тело в Гусиной бухте, это была старая история. О таких историях вспоминать не любят.
– Тревис, что произошло 30 августа 1975 года? И что случилось с этой Деборой Купер?
– Скверное дело, Маркус. Очень скверное. И я оказался на первых ролях, потому что в тот день было мое дежурство. Я тогда был простым полицейским. Именно я принял тот звонок… Дебора Купер, симпатичная старушка, после смерти мужа жила одна в уединенном домике на опушке леса Сайд-Крик. Знаешь, где Сайд-Крик? Это там, где начинается тот большущий лес, в двух милях за Гусиной бухтой. Прекрасно помню мамашу Купер: она постоянно звонила. Особенно по ночам, говорила, что вокруг дома какой-то подозрительный шум. Страшно ей было в своей здоровой хибаре у самого леса, вот и хотела, чтобы кто-нибудь ее время от времени развлек. Всякий раз извинялась за беспокойство и угощала полицейских, которые к ней ездили, пирожками и кофе. А назавтра приходила в участок и приносила какой-нибудь гостинец. Я же говорю, милейшая старушка. Таким всегда хочется оказать услугу. Короче, этого самого 30 августа 1975 года мамаша Купер набирает телефон экстренного вызова и говорит, что видела девушку в лесу, а за ней гнался мужчина. Ну и я сразу отправился к ней. Она позвонила днем, в первый раз такое. Когда я приехал, она меня ждала у дома и сказала: “Тревис, может, вы решите, что я спятила, но на сей раз я правда видела что-то странное”. Я осмотрел опушку леса, там, где она видела девушку, и нашел лоскут красной ткани. Я сразу решил, что дело серьезное, и предупредил шефа Пратта, тогдашнего шефа полиции Авроры. Он был в отпуске, но немедленно приехал. Лес-то громадный, второй человек не помешает. Вошли мы в лес, прошагали добрую милю и нашли следы крови, светлые волосы и еще обрывки красной ткани. Но задаваться вопросами оказалось некогда, потому что в эту минуту со стороны дома Деборы Купер донесся выстрел… Мы бросились туда – и нашли мамашу Купер на кухне, в луже крови. Потом мы узнали, что она еще раз звонила в полицию, сообщить, что девочка, которую видела незадолго до того, укрылась у нее.
– Девочка вернулась в дом?
– Да. Пока мы ходили по лесу, она прибежала, вся в крови, ей нужна была помощь. Но мы уже никого в доме не застали, кроме трупа мамаши Купер. Свихнуться можно.
– А девушка, это была Нола? – спросил я.
– Да. Мы это быстро поняли. Во-первых, чуть позже позвонил ее отец и сказал, что она пропала. А во-вторых, Дебора Купер сама назвала ее имя.
– И что потом?
– После второго звонка мамаши Купер сюда выехала полиция округа. Подъезжая к опушке леса Сайд-Крик, помощник шерифа заметил черный “шевроле-монте-карло”, на большой скорости удалявшийся на север. Была организована погоня, но машину так и не задержали, несмотря на полицейские кордоны. Следующие недели мы искали Нолу, весь округ перевернули. Кто же мог подумать, что она в Гусиной бухте, у Гарри Квеберта? По всем признакам, она должна была быть где-то в этом лесу. Устраивали облаву за облавой, но так и не нашли ни машину, ни девочку. Если б могли, всю страну бы прочесали, но спустя три недели поиски пришлось прекратить, хоть и скрепя сердце: большие шишки в полиции штата заявили, что они обходятся слишком дорого, а уверенности, что будет толк, никакой.
– Вы кого-то подозревали тогда?
Он на секунду замялся, потом сказал:
– Официально это не говорилось, но… думали на Гарри. И причины у нас были. Я хочу сказать: он приезжает в Аврору, а через три месяца исчезает малышка Келлерган. Странное совпадение, нет? А главное, какая у него была тогда машина? Черный “шевроле-монте-карло”. Но улик против него не хватало. По сути, эта рукопись – то самое доказательство, какое мы искали тридцать три года назад.
– Не думаю. Это не Гарри. И потом, зачем ему оставлять такую улику против себя вместе с телом? И зачем он послал садовников рыть землю именно там, где закопал труп? Это же ни в какие ворота не лезет.
Тревис пожал плечами:
– Поверь моему опыту старого копа: никогда не знаешь, на что способны люди. И особенно те, кого вроде бы хорошо знаешь.
С этими словами он поднялся и сердечно попрощался со мной: “Если я могу что-то для тебя сделать, скажи, не стесняйся”. Пинкас, не проронивший ни звука за все время нашего разговора, недоверчиво произнес: “Надо же… Понятия не имел, что полиция подозревала Гарри…” Я ничего не ответил. Оторвал первую страницу газеты, сунул в карман и, хотя было еще рано, поехал в Конкорд.
* * *
Мужская тюрьма штата Нью-Гэмпшир расположена по адресу Норт-Стейт-стрит, 281, на севере Конкорда. Чтобы попасть туда из Авроры, нужно свернуть с шоссе 93 за торговым центром “Капитолий”, потом, на углу “Холидей-Инн”, на Норт-стрит, и ехать прямо минут десять. За кладбищем Блоссом-Хилл и озерцом в форме подковы возле реки дорога идет вдоль решетчатой ограды с колючей проволокой, не оставляющей сомнений в том, куда ты попал; чуть подальше висит указатель с названием тюрьмы, а за ним видны угрюмые строения из красного кирпича, обнесенные толстой стеной, и решетки главного входа. Напротив, на другой стороне улицы – дилерский центр по продаже автомобилей.