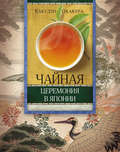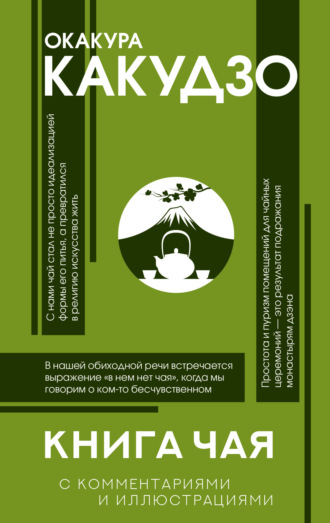
Какудзо Окакура
Книга чая. С комментариями и иллюстрациями
Конфуцианство – Северный Китай
Первой волной континентального влияния, захлестнувшей искусство первобытной Японии еще до того как в VI веке к нам пришел буддизм, стал поток эпох Хань и Шести династий Китая.
Искусство Хань само по себе было естественным результатом развития первобытной китайской культуры, которая достигла расцвета при династии Чжоу с 1122 по 221 год до н. э., и его основную мысль можно в широком смысле слова назвать конфуцианской, по имени великого Мудреца, который разъяснил основные идеи своего учения народу Поднебесной.
Китайцы, которые являются татарами-земледельцами так же, как татары – это китайцы-кочевники, неисчислимое количество лет назад поселились в богатой и плодородной долине Желтой реки и сразу же начали развивать великую систему социального коммунизма, совершенно отличную от цивилизации их кочующих собратьев, оставленных ими в монгольских степях. Хотя, без сомнения, даже в те стародавние времена в их городах в царствах на плато существовали пусть еще незаметные предпосылки для зарождения конфуцианского учения. С этого момента, затерянного в доисторической ночи времен, и до наших дней повседневная жизнь народов Желтой реки шла одинаково: идя по собственному пути развития, они время от времени принимали свежие силы татарских кочевников, ассимилировали и встраивали их в свою земледельческую модель.
Это процесс, который перековывал меч кочевника на орало крестьянина, ослаблял силы сопротивления нового гражданина и вновь оставлял его страдающим и «за стенами» от судьбы, которая настигала извне. Таким образом, длинная череда китайских династий – это всегда история возвышения некоего нового племени до управления государством, чтобы потом быть вытесненным другими, когда события повторятся.
Ранние китайские идеалы
Однако в течение многих веков после их поселения на равнинах китайские оседлые татары все еще сохраняли пастушеские представления о формах правления: губернаторы, или наместники, девяти провинций, на которые был разделен Древний Китай, назывались му, или пастухами. Они верили в патриархального Бога, чьим символом мыслилось Тянь, или Небо, который, в Его благосклонности, изливал людям судьбы с математической упорядоченностью; по-китайски слово, обозначающее судьбу, – Мин, что переводится как «приказ», и, вероятно, ключевая идея этого фатализма, будучи передана арабам татарами, дала магометанство (мусульманство). Китайцы же продолжали испытывать страх перед блуждающими духами невидимого мира и были склонны к идеализации женственности, которая впоследствии получила воплощение в традициях восточных гаремов; они берегли знания о звездах, собранные благодаря знакомству с дуалистической мифологией Туркестана в те времена, когда они еще бродили среди высоких трав плато; а прежде всего, они сохранили великую идею всеобщего братства – неотъемлемое наследие всех скотоводческих народов, которые кочуют между Амуром и Дунаем. Тот факт, что в Китае крестьянину предшествовал пастух, нашел отражение и в мифологии, которая утверждает, что первым императором стал Фу Си, Учитель Пастбища, за которым последовал Шэнь-нун, чье имя переводится как «Божественный Земледелец».
Учитель Пастбища – прозвище означает «развивавший скотоводство».
Потребность в формировании именно земледельческого общества все же складывалась медленно, неспешно развиваясь в течение бесчисленных веков спокойствия, пока не породила великую этическую и религиозную систему, в основе которой лежали Земля и Труд и которая до сих пор составляет неисчерпаемую силу китайской нации. Верные этой системе, своему родовому укладу с его самодостаточным и возвышенным принципом общинности, ее дети и сегодня, несмотря на политические беспорядки, продолжают распространять свое промышленное завоевание всех доступных уголков земного шара.
Конфуцианство
Именно на долю Конфуция (551–479 гг. до н. э.) в конце правления династии Чжоу выпало прояснить и изложить эту великую схему всеобщего труда, достойную изучения всеми современными социологами. Он посвящает себя созданию религии, в основе которой лежит этика и посвящение Человека Человеку. Для Конфуция Богом является человечество, а главная идея его учения состоит в достижении гармонии жизни. Предоставив индийской душе воспарять и сливаться с бесконечностью неба, эмпирической Европе – исследовать тайны земли и материи, а христианам и семитам – мечтать в земной жизни о вознесении в рай, конфуцианство призвано удерживать великие умы чарами своих широких интеллектуальных обобщений и своего бесконечного сострадания к простым людям.

Эмпирический – равняющийся на опытное знание, добывающий новое знание путем эксперимента, проверяющий знание по данным, полученным в материальном мире.
И Цзин, или Книга перемен, китайская Веда, полная намеков и аллюзий, отсылающих к пастушеской, крестьянской жизни, хотя с ее помощью она приближается к Непостижимому, является почти запретной страницей для агностика Конфуция, который говорил: «Еще не зная, что такое жизнь, как я могу рассуждать о смерти?» Согласно китайской этике, ячейкой общества является семья, основанная на упорядоченной системе иерархического послушания, и крестьянин имеет равное значение с императором – правителем-отцом, чьи добродетели поставили его во главу великого общинного братства взаимных обязанностей, с полного согласия этого братства и по его собственному выбору.
Агностик – философ, считающий невозможным достоверное знание о Боге и предельных вопросах бытия, таких как бессмертие души. Агностицизм допускает бытие Бога и бессмертие, но не считает возможным об этом рассуждать, из-за того, что это рассуждение всегда будет основано на мнимом знании, не обладающем достоверностью. Агностику противопоставлен гностик, философ, настаивающий на полной или частичной познаваемости Бога, на том, что наше достоверное знание о предельных вопросах уже есть наше спасение и вечная жизнь. Великие религиозные системы отвергают как агностицизм, показывая нравственную достоверность Божества и неотменимость религиозных фактов, и гностицизм, требуя благоговения перед Божеством как тайной.
Музыка и поэзия
Высшим жизненным принципом было самопожертвование индивида обществу, и искусство ценилось за его служение делу воспитания нравственных основ. Отметим, что музыку ставили на самую высшую ступень, поскольку ее особая функция заключалась в гармонизации человека с человеком и общины с общинами. Вот почему в эпоху Чжоу изучение музыки считалось первым по важности занятием юноши благородной крови.
Некоторые вспомнят, что знают из жизни и учения Конфуция не только несколько диалогов, в которых он с любовью рассуждает о красоте, но и истории о том, как он ограничивал себя постной пищей, но не отказывался от прослушивания музыки, о том, как он однажды шел за ребенком, который бил в глиняный горшок, просто ради удовольствия наблюдать, как люди воспринимают этот ритм, или, наконец, о том, как он отправился в провинцию Шэй (Шаньдун), движимый желанием услышать древние песнопения, которые там сохранились с древних времен Тайко-бо.
Тайко-бо – советник первого властителя из династии Шу, впоследствии единоличный правитель провинции Шей (Шаньдун).
Подобным образом и поэзия рассматривалась как средство, способствующее политической гармонии. Деятельность правителя состояла не в том, чтобы приказывать, а в том, чтобы предлагать, и целью его было не запрещать, а направлять; признанным средством достижения этого считалась поэзия. Существует теория, которая утверждает, что, как и в средневековой Европе, главными формами этой поэзии являлись народные песни сельской местности, с их любовными волнениями, воспеванием труда и красоты земли; военные баллады о пограничных сражениях, в которых слышны лязг оружия и топот копыт рвущихся вперед коней; а также странные песнопения о сверхъестественном, о границе того царства, где невежество преклоняется перед Бесконечным. Такие поэтические представления могли появиться только в век, богатый подобными элементами, и лишь среди людей, у которых поэзия еще не стала способом индивидуального самовыражения. Мудрец собрал древние баллады для иллюстрации обычаев и нравов китайского золотого века – времени трех ранних династий Гха (Шан), Инь и Чжоу, когда их песни содержали информацию о том, благополучна ли жизнь в провинции, хорошее или плохое там управление.
Существует теория… – Окакура воспроизводит обычное в тогдашней медиевистике деление средневековой поэзии на «поэзию народа», «поэзию замка» и «поэзию монастыря». Многообразие средневековых поэтических жанров в этой теории объяснялось наличием трех разных областей творчества: народная простодушная поэзия, изысканная феодально-куртуазная поэзия и религиозно-мистическая поэзия. Это весьма упрощенная схема, но она позволяла связать поэтические мотивы и социальный контекст их возникновения.
Даже живопись ценилась за то, что она прививала привычку к добродетели. В своих диалогах о жизни и семье Мудрец рассказывает о посещении мавзолея правителей Чжоу и упоминает изображения на стенах: портрет Чжоу-ко, держащего на руках младенца, будущего правителя Цэй-во, он противопоставляет изображениям Се-цзу и Чжу, деспотичных тиранов прошлого, показанных в моменты праздных наслаждений. Обращаясь к рисункам, мудрец рассуждает на их примере о славе и подлости.
Чжоу-ко, Чжоу-Гун – младший брат У-вана, основателя династии Чжоу. Цей-Вон, Цзи-сун, он же Чжоу Чэн-ван; Чжоу-Гун как раз был регентом при малолетнем Чэн-ване. Се-Цзу, Ся Цзе – легендарный китайский правитель, образец нечестивого правителя, возмущение которым привело к свержению династии Ся, о которой нет достоверных исторических свидетельств. Чжу, Чжоу, он же Ди Синь – один из худших правителей Китая, полулегендарный последний правитель династии Шан; свергнуть его удалось сыну Вань-вана, У-вану, основателю династии Чжоу.
Противоположность идеалов
Можно также упомянуть о вазах и различных бронзовых изделиях эпохи правления Чжоу: по совершенству формы они равны греческим, хотя их создатели следовали иным канонам. В действительности они вместе составляют антитезис идеалов: прохладный нежный нефрит и сверкающий гордый алмаз – два полюса художественного импульса на Востоке и Западе. И здесь, у мастеров, работающих по металлу и нефриту, мы замечаем те же страстные усилия по воплощению идеала гармонии, которому посвящают себя певцы и художники того периода.
Объединяющая страну власть династии Чжоу просуществовала около пятисот лет, но затем она начала ослабевать из-за усиления власти крупных феодальных домов, которые впоследствии, следуя извечной судьбе Китая, были побеждены и около 221 года до н. э. окончательно завоеваны племенем из дальних земель, известным как Цинь, чье могущество росло в течение примерно шестисот лет. Эти монгольские пастухи еще недавно служили коневодами и возницами при первых императорах Чжоу, но теперь, явившись из пустыни, заняли господствующее положение. Существует предположение о том, что именно от названия их земель, расположенных на границах империи, взято название «Поднебесная», под которым иностранцы знают Китай.
Цинь
Древние конфуцианские ученые приписывали этим тиранам все мыслимые и немыслимые мерзости и ужасы. Однако замечу, что в конечном итоге они приложили немало сил, чтобы развить достижения империи Чжоу. Именно они укрепили и объединили Китайскую империю, провели дороги и построили великие стены, создали провинциальное управление по типу персидских сатрапий, а также изобрели, вернее, выбрали национальную систему письма. Именно они действительно разоружили и усмирили Китай, и именно они первыми приняли титул императоров и императорский стиль правления. Быть может, во всем этом они только следовали общей традиции имперского устройства и сознания, которая позволила им ради собственных целей провести масштабную централизацию, посредством которой их династия потом и была свергнута.
Сатрапия – военно-гражданская единица древней Персии, область и соответствующая система управления, подчинявшаяся напрямую государю Персии. Сатрап – военно-гражданский правитель такой области.
Антипатию правителей Цинь к учености и образованию необязательно рассматривать как неприятие конфуцианских учений: скорее, она была связана с подавлением свободной политической мысли – опасного элемента в феодальных царствах последнего периода власти Чжоу. В эпоху династии Цинь существовали национальные школы, но преподавать в них имели право только назначенные правительством наставники, которых называли хакуси.
Это был век широкого распространения и развития философской мысли во всем мире. Буддизм становился общественным сознанием. Афины оказывали живое влияние. В Александрии уже занималась заря христианства. На восточной стороне этого великого пространства в эпоху тиранов Цинь тоже существовало множество философских школ. Здесь практиковали цензуру, известную как «огонь Цинь», но вполне вероятно, что уничтожение литературных памятников, так сильно оплакиваемое потомками, на самом деле было вызвано не столько этим явлением, сколько гражданской войной, которая бушевала в течение двадцати лет, во время падения недолго просуществовавшей империи.

Афины… – здесь используется в значении греческого мира вообще, влияния эллинизма после походов Александра Македонского. В результате распада империи Александра и империи Селевкидов возникло Греко-Бактрийское царство, позднее расширившееся как Индо-Греческое царство. Далее после падения Индо-Греческого царства в начале I века образовалась Кушанская империя в Средней Азии. Во всех этих государствах буддизм подвергся сильному влиянию греческой философии.
Идеалы Хань
Династия Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.), пришедшая на смену Цинь, в основном следовала ее политике, с одной, но весьма существенной разницей: со времен правления третьего императора знание конфуцианства стало обязательным при сдаче экзаменов, необходимых для поступления на государственную службу, и это правило дошло до наших дней. Такая практика оказалась весьма полезной в деле привлечения лучших умов страны к управлению государством; кроме того, в учении исправили спорные моменты, за его ростом и развитием следили, а само конфуцианство начало обретать более строгие и четкие формы.
Влияние конфуцианской мысли в этот период сделалось настолько сильным, что в I веке христианской эры первый министр по имени Омо взошел на Трон Дракона и получил власть, согласно конфуцианской традиции, как один из мудрейших людей своего времени.
Омо – Ван Ман, он же Цзюйцзюнь (45 г. до н. э. – 23 г. н. э.), государственный деятель, ярый приверженец конфуцианства.
Интересно отметить, что этот человек был настоящим гением. Он основал династию Синь, и предполагается, что именно в период короткого четырнадцатилетнего правления Ван Мана монеты, отчеканенные им, достигли всех частей известного мира, что именно тогда возникло название Китай (Chine – Земля Синь). Однако, возможно, что при этом императоре уже известное название просто стали употреблять чаще, ведь оно и раньше появлялось в индийской литературе. А еще ему принадлежит честь быть первым государем в истории, который издал указ об отмене рабства, и падение его власти произошло только тогда, когда конфуцианские убеждения привели его к провозглашению необходимости осуществить равный раздел земли среди всех людей. Объединившись, аристократы пошли против него, и он был убит в 23 году н. э. Обстоятельства его смерти – великолепный пример фатализма, естественного для конфуцианского сознания. Император сидел во дворце с нефритовой безделушкой в руках и смотрел на звезды, в то время как снаружи бушевала битва. «Если на то будет воля Небес, я умру; если нет, ничто не сможет меня убить», – спокойно сказал он, и враги бросились на него и убили его, не встретив ни малейшего сопротивления с его стороны. Вокруг его имени до сих пор витает аромат той изысканной вежливости, с которой он принимал иностранные посольства.
Фатализм – вера в необоримую силу судьбы, в возможность судьбе взять верх над нашими действиями в любой момент. Фатализм как настроение – готовность принять любую развязку событий, независимо от твоего вклада в текущий ход событий.
Искусство ханьцев, распространявших конфуцианские идеалы так же, как римляне эллинскую культуру, по форме напоминало искусство эпохи Чжоу, хотя обладало более богатой палитрой и великолепной образностью, являвшимися неотъемлемой частью сознания периода Хань с его стремлением к всеобщему единообразию и роскошной жизни. Относительно литературы можно с интересом отметить, что писатели всегда стремились найти этическую основу для этого, отыскать блистательные оправдания для колоссального потворства желаниям людей этой эпохи, причем авторы делали это с серьезной опорой на знание общественной жизни. Любой китайский ученый вспомнит рифмованную прозу Сыма Сянжу и Сун Чживэня, где, после описания чудесных охотничьих отрядов императора с их сверкающими колесницами, слонами и львами, привезенными из далеких царств, их пирами и танцорами, они всегда добавляют: «Мы по-настоящему счастливы, что живем в мирные времена, а потому правители могут позволить себе такую роскошь!» Или, например, они перечисляют красоты и достоинства главных городов империи и заканчивают предположением о том, что истинная красота столицы заключается, скорее, в счастливых лицах ее людей, чем в башнях и украшениях на фасадах ее зданий.
Сыма Сянжу (179–117 гг. до н. э.) – государственный деятель и поэт эпохи Хань, создавший стиль фу, то есть рифмованную прозу.
Сун Чживэнь (прибл. 656–712) – чиновник и придворный поэт эпохи династии Тан, за участие в заговоре отправлен в ссылку, повлиял на развитие системы стихосложения.
Этот период в истории архитектуры характеризуется строительством гигантских дворцов с колоннами кариатидного типа и обильными барельефами, представляющими в основном сюжеты морализаторского характера. Будучи истинными преемниками династии Цинь, ханьцы возводили высокие башни и огромные сооружения из дерева и кирпича. Это была эпоха военных стен, и потому, как после них римляне, императоры Цинь оставили о себе память в виде Великой стены, которая протянулась от Доквона до Желтого моря. В действительности этот расцвет, быть может, также стал началом упадка их власти, истощив как ресурсы, так и престиж правительства. Однако многие последующие династии продолжали строительство. Другие архитектурные достижения периода, такие как колоссальные статуи из бронзы и железа, о которых так часто упоминается в письменных источниках, ныне утрачены: отчасти потому, что у китайских императоров существовал обычай сжигать себя вместе со своими сокровищами в час поражения, а отчасти из-за вандализма, который неизменно сопровождал смены династий.
Колонны кариатидного типа – имеются в виду декоративные колонны, как часть декора, в том числе весьма изощренного, когда колонна как бы вырастает из стены. Кариатиды в узком смысле, то есть колонны в виде полноростовых статуй людей, в китайском искусстве не использовались.
Живописный стиль эпохи Хань, конечно, уже не восстановить, и потому мы можем только представить себе его богатство и зрелость по грубо обработанным камням захоронения семьи Ву в Шаньдуне, гробницы провинциальной знати, относящейся к последнему периоду правления династии Хань. Находящиеся там фрески и скульптуры представляют собой сюжеты китайской мифологии и истории, а также рассказывают о жизни и обычаях Древнего Китая.
Каменные скульптуры
Чтобы увидеть образцы замечательных ремесел этой эпохи, нам придется отправиться в Японию и обратиться к коллекциям императорской семьи, к сокровищницам синтоистских храмов и находкам из раскопок в дольменах. Ведь искусство Хань, а возможно, даже и китайская литература появились у нас задолго до того, как Вани Хакуси, корейский ученый, привез нам конфуцианские сочинения и начал их толковать. О том, что и до этого существовал более ранний поток влияния, свидетельствуют многочисленные записи на китайском языке, показывающие легкость, с которой этот язык был усвоен нами вскоре после его появления. Таким образом, в Японии, как и в Китае, конфуцианство подготовило почву, на которую впоследствии упали семена буддизма.

Вани Хакуси, Ваникиси, кореец-писец, прибывший в Ямато в 285 году; с его именем связывают распространение китайской письменности в Японии.
Подавляющее большинство китайских и корейских иммигрантов были художниками и ремесленниками, которые работали в традициях Хань, о чем свидетельствуют изготовленные ими зеркала, конская сбруя, орнаменты на мечах и прекрасные доспехи из бронзы и золота. Так, усвоение основ художественного образования в Японии было почти завершено к тому времени, когда буддизм призвал к новому великому творчеству в период Асука. Гений Торибуси, нашего великого скульптора, родился не в одну ночь, не на пустом месте, а был результатом давно существовавших причин; и его творения – только первый урожай могучей культуры, которой засеивали пашни в течение очень долгого времени.
Торибуси – Тори, прозванный Бусси («создатель Будд», «создатель изображений Будды»), – японский скульптор начала VII века, из клана Курацукури, изготовителей сёдел. Ему приписывались многие бронзовые скульптуры того времени.
Однако конфуцианский идеал с его симметрией, рожденной дуализмом, и его стремлением к покою – результату инстинктивного подчинения части целому – неизбежно ограничивал свободу искусства. Будучи поставленным на службу этике, искусство естественным образом стало ремесленным. В действительности китайское художественное сознание всегда тяготело бы к декоративности (как это видно на примере его необычайного мастерства в области текстиля и керамики), если бы даосизм не привнес в него свой игривый индивидуализм и если бы позже не пришел буддизм, чтобы поднять его до высот своих идеалов. Но даже если бы оно осталось декоративным, то никогда не могло бы опуститься до буржуазного уровня, поскольку азиатскому искусству не грозит даже малейшая опасность этого благодаря его теснейшей связи с Всеобщим и Безличным.
Примечания
И Цзин, или Книга перемен. Древнее китайское сочинение, которое составлялось постепенно во времена правления династий Гха (Шань) и Инь и достигло своей нынешней формы при Вун Но – первом правителе династии Чжоу. Конфуций добавил комментарий к этому труду, который конфуцианцы считают неотъемлемой частью И Цзин. Здесь много говорится о Человеке как о центральной точке столкновения противоборствующих сил Неба и Земли, таким образом, принцип коллективизма и общинности осмысляется с философской точки зрения. Даосы же обычно предпочитают игнорировать комментарий Конфуция и толкуют И Цзин по-своему. Для сторонников даосизма его великая нота раскрывается в высказывании: «Раскрой сущность и создай вещь». Эту древнюю китайскую Веду можно с уверенностью назвать философией Природы, а не историей Творчества. В ней говорится об имманентности Единого во всей двойственности и о связи четырех времен года, или Неба, с восемью элементами, или Землей. Она состоит из четырех книг или разделов.
Вун Но – Окакура имеет в виду Чжоу Цзычана, известного как Вэнь-ван, который был отцом У-вана, основавшим саму династию Чжоу; считается, что царем, то есть «ваном», Вэнь-вана уже назвали посмертно.
Древние времена Тайко-бо (Тай-гуна). Тай-гун был главным советником первого правителя Чжоу, когда тот отнял трон у династии Инь. Этот великий министр в награду получил назначение правителем области Шэй (Шаньдун).