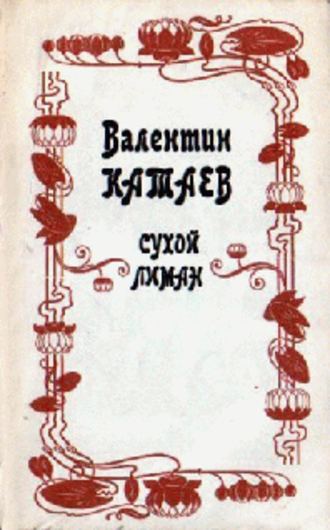
Валентин Катаев
Спящий
Он не носил галстука. В повороте его головы, в белой аристократической шее девушки находили нечто байроническое.
Девушек было несколько, все в цветных шелковых платочках, завязанных на голове. Среди них снились две сестры и одна их подруга, случайно попавшая в компанию.
Впрочем, в компанию все попали случайно. Она все время сидела в маленькой каюте на узком кожаном диванчике и делала себе маникюр: натирала ногти розовым камнем, а потом до зеркального блеска шлифовала замшевой подушечкой. При этом она говорила, что если яхта потерпит аварию и все они утонут, то по ее ногтям люди узнают, что перед ними труп элегантной утопленницы из хорошего общества.
Добрый малый Вася, сидевший за рулем, повернул яхту еще круче в открытое море, и на дальнем берегу открылся второй маяк, старый, уже не работающий, – остатки каменной башни. А через некоторое время показался третий маяк, новый, белоснежный, металлический, как бы в рыцарском шлеме с опущенным забралом, состоящим из хрустальных рубчатых линз, откуда по ночам в былые времена вырывались два резких луча электрического гелиотропового света – один строго-строго горизонтальный, а другой строго вертикальный, упирающийся в звездное небо мирного времени.
Гик грота перешел справа нелево под ветер, и парус надулся еще круче. Маленький ялик, так называемый тузик, привязанный за кормой, запрыгал по волнам, как ореховая скорлупа.
Вася был сыном миллионера – бывшего, а впрочем, кто его знает, может быть, и будущего. Незадолго до войны он выписал из Англии, из Гринвича, небольшую яхту и подарил ее сыну. Теперь эта яхта, в сущности, была единственное, что осталось от прежних миллионов. Так что Васина невеста Нелли, старшая из двух сестер, дочерей бывшего прокурора палаты по гражданским делам, осталась ни при чем, хотя и продолжала надеяться на лучшие времена и возвращение Васиных миллионов.
Что касается самого прокурора, то он почти что остался не у дел. Все жители города трех маяков остались не у дел.
В городе царило божественное безделье, как говорилось по-итальянски, «дольче фар ниенте».
А как жили?
Жили прекрасно, продавая фамильные драгоценности и домашние вещи, которые охотно обменивались пригородними крестьянами на муку, масло и свиное сало. Каждое утро пригородные крестьяне приезжали на привоз, а иногда попросту заворачивали со своими подводами и бричками во дворы, где шла меновая торговля. Драгоценности же – изделия Фаберже, бриллианты, сапфиры, высокопробное золото – по дешевке скупались таинственными ювелирами. Несметные богатства время от времени переправлялись за границу.
О том, что случится завтра, никто не думал. Мечтали, что так будет продолжаться вечно. Конечно, это было приятное заблуждение. Приятному заблуждению поддался даже сам прокурор, которому, в сущности, нечего было делать: некого судить. И он по целым дням шлепал в своем домашнем шлафроке и в разношенных туфлях по квартире из комнаты в комнату.
…Густые поседевшие усы, столь же традиционно густые прокурорские брови, истощенное бездельем лицо оливкового цвета и на носу пенсне, верой и правдой служившее ему при рассмотрении судебных дел. Теперь оно служило ему при рассматривании через биоскоп двойных картинок швейцарских видов с Шильонским замком и двойными парусами над Женевским озером. Через это же пенсне прокурор любил рассматривать журнал «Нива» за 1897 год с портретами адмиралов, генералов, сенаторов и архиереев…
Что же касается прокурорши, то она была милая, совсем седая, серебряная, маленькая, худенькая старушка, соблюдавшая в доме дореволюционный порядок: завтрак, обед, пятичасовой чай, файф-о-клок, и вечером горячий ужин с рублеными котлетами
Кухарка и горничная давно уже сгинули, увлеченные матросами с посыльного судна «Алмаз», так что прокурорше приходилось все делать самой, в том числе ходить на базар менять вещи на продукты питания. Вещей для обмена оставалось все меньше, хотя еще вполне достаточно. С этим дело обстояло благополучно, если не считать огорчений, причиняемых ей непониманием приезжими крестьянами истинной ценности обмениваемых предметов.
Крестьяне, а особенно крестьянки, сидя на возу и прикрывая юбками привезенные продукты, рассматривали какую-нибудь воздушную батистовую шемизетку времен конца девятнадцатого века и совершенно не обращали внимание ни на фасон, ни на отделку, а только придирчиво рассматривали ткань на свет, считая, что чем плотнее материал, тем лучше, причем с пренебрежением говорили: «Це реденько!»
Но что было с них взять! Простота! Народ!
Лучше всего шли простыни, а их накопилось за всю жизнь – уйма, так что на ужин всегда подавались котлеты.
Спящий особенно отчетливо видел проплывающее блюдо горячих котлет, посыпанных укропом – таким кружевным, таким зеленым, какой может присниться только в цветном сне.
Вечерние котлеты особенно привлекали молодую компанию после длительной морской прогулки на яхте. Впрочем, не только котлеты и крепко заваренный, почти красный чай с сахаром. Красавица Нелли и ее младшая сестра Маша могли поспорить с котлетами.
Нелли пела романсы, а Маша аккомпанировала ей. Царили Рахманинов, Гречанинов и этот, как его? – снова забываю его фамилию. Да. Черепнин.
«Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц… В небе звездочка скатилась…»
Или нечто подобное.
Оно и сейчас звучало во сне.
У Нелли было сильное, хотя еще не отработанное, домашнее, меццо-сопрано. Ее прелестный голос как бы ударялся в поднятую черную лакированную крышку еще не проданного рояля, наполняя комнату чудными звуками, которые улетали через открытые окна сначала в небольшой внутренний дворик, потом на улицу, на перекресток, на бульвар и затихали где-то на загородном шоссе, там, где стояла давно уже неподвижная зеленая паровая трамбовка с трубой, как у паровоза, и асфальтово-серым передним трамбовочным колесом.
А голос все звучал, звучал: «…в саду малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы…»
Спящий плакал во сне от счастья и видел загородное шоссе с зеленой трамбовкой, кучками щебенки и двух девушек – красавицу Нелли и ее сестру Машу, которые шли на теннисную площадку, держа в руках ракетки. Они были одинаково одеты в летние спортивные костюмы – эпонжевые жакетки и английские юбки, тоже эпонжевые, шершаво-белые. Старшая – красавица с блестящими черными волосами, гладко причесанными на прямой ряд, с испанским черепаховым гребешком на затылке, придававшим ей нечто царственное, с удлиненным лицом, как говорится, цвета слоновой кости и с бровями, не вызывавшими сомнения, что она родная дочь прокурора. А младшая, считавшаяся дурнушкой, небольшая, еще не вполне выросшая, почти девочка, вся выдалась в прокуроршу: те же ласковые телячьи глаза, легкие белокурые волосы, доброта, разлившаяся по всему ее нежному лицу, с родинкой на шее пониже уха, вся светящаяся молочной белизной, с ресницами, бросавшими тень на крылья некрасивого, но ужасно симпатичного носика, и незаконченность во всех движениях.
Старшая шла уверенно, слегка поигрывая ракеткой с маркой «Дэвис», стеклянно блестящей на солнце, а на полшага сзади нее шел ее жених, владелец яхты Вася, коренастый, только что успевший окончить гимназию, еще в гимназической куртке, хотя и без пояса, и было что-то исконно русское, даже, может быть, крестьянское, если не купеческое, в его походке, в его русых волосах, аккуратно постриженных. Из таких пареньков некогда рождались русские миллионеры. Он боготворил свою невесту и назвал ее именем яхту: «Нелли».







