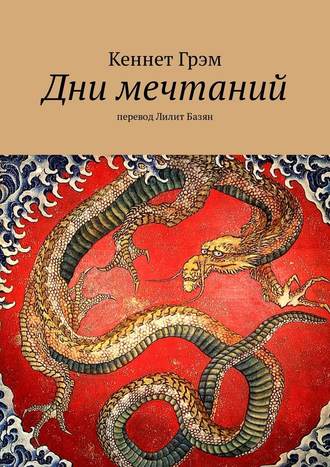
Кеннет Грэм
Дни мечтаний. перевод Лилит Базян
иллюстрации Анны Базян
на обложке гравюра "Дракон" Кацусика Хокусая
© Кеннет Грэм, 2018
ISBN 978-5-4493-1397-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Двадцать первое октября1
В вопросах общей культуры и знаний мы, детвора, находились на довольно низком уровне. Каждую секунду любого из нас могли схватить и заставить бороться со склонениями какого-нибудь из дурацких, давно мертвых языков, совершенно не учитывая при этом, насколько человек готов к такого рода занятиям. А от кого-то другого, повинуясь причудливому художественному чутью, почти всегда себя не оправдывавшему, требовали гаммы и музыкальные экзерсисы, регулярно орошаемые слезами скуки и протеста. Однако, и в обычных дисциплинах, необходимых и тем, чье честолюбие не простиралось дальше щелканья кнутом на арене цирка – в географии, например, в арифметике, в заучивании скучных деяний королей и королев – даже в таких предметах мы звезд с неба не хватали. И правда, независимо от таланта и склонностей, наше неизменное упрямое желание увильнуть и уклониться привело, в результате, к тому, что наибольшего успеха мы достигли лишь в невежестве и непослушании.
К счастью, существовали темы намного интересней вышеперечисленных, среди которых каждый выбирал ту, что приходилась ему по вкусу, и с удовольствием изучал ее. Каждый из нас следовал избранному пути, совершенствуясь с каждым шагом, что поражало несведущих в этих вопросах взрослых, как нечто сверхъестественное. Для Эдварда особое очарование таилось в Британской военной форме, в ее цветах и нашивках. В нашивках он разбирался великолепно, знал все существующие награды, медали и звезды. Он мог перечислить по именам почти всех полковников Британской армии, и был способен потратить чудесный солнечный день на изучение армейского списка, растянувшись при этом на траве и не обращая никакого внимания ни на птиц, ни на животных.
Мои пристрастия были иного рода, они имели намного более широкий, как мне казалось, диапазон. Драгуны могли куражиться и красоваться друг перед другом, а стрелки наряжаться хоть в юбки-шотландки и не заслужить при этом ни грамма внимания с моей стороны. Но если бы вам вдруг срочно понадобилась информация о фауне материка под названием Америка, вам стоило сразу же обратиться ко мне. Где и почему купаются бизоны, как поймать бобра, и какая походка у диких индюков, как справиться с настоящим гризли, и каким образом удав душит жертву. Одним словом, я знал все о том, где обитают и как ведут себя существа, что роют землю, вышагивают, как павы, рычат или извиваются на суше между Атлантическим и Тихим океанами. Все признавали мое превосходство в этом вопросе, и если вдруг кто-то приносил книжку, в которой описывалась охота на медведя, то прежде чем предаться восторгу от ее приобретения, следовало сперва передать ее мне, чтобы опытный знаток мог удостовериться, что процесс охоты описан в книге правильно, без каких-либо ошибок, даже когда автор книги оказывался знаменитым писателем-натуралистом. Если, на мой взгляд, блюдо, приготовленное им, было несъедобным, книгу просто-напросто выбрасывали и никогда больше о ней не вспоминали.
Гарольд в силу юного возраста еще не обнаруживал склонности к какому-либо предмету. Несомненно, у него были таланты. Птичьи гнезда, например, он находил безошибочно. Там, где мы лишь предполагали и строили догадки, Гарольд не сомневался ни секунды. Он шел напрямик к кустам, ветке или дуплу словно был магом-лозоискателем. Однако, этот его дар был слишком прост и не мог встать в один ряд со знаниями Эдварда о нашивках на военной форме или с моей осведомленностью о повадках луговых собачек2. Все, чем мы могли похвастаться, приобреталось серьезным трудом и подробным изучением «сиянья золотых прекрасных сфер»3, иными словами, армейского списка и приключенческих романов Роберта Баллантайна.
Селина же, по какой-то необъяснимой причине, увлекалась историей военно-морского флота. В принципе, не существовало запрета на ту или иную тему, когда у кого-то появлялись пристрастия и овладевали им целиком и полностью. Никому не приходило в голову изучить природу этих пристрастий, и причину их возникновения. Селина никогда не видела моря. Должен признаться, что и моя нога ни разу не ступала на Американский материк, который я, тем не менее, исходил вдоль и поперек. Скалистые горы Северной Америки были для меня родным домом, а если бы сказочный джинн неожиданно перенес Селину в Портсмут, она бы несомненно навела там порядок.
Селина незримо присутствовала в каждом знаменательном сражении Британского флота, со времен адмирала XVII века Роберта Блейка до смерти адмирала Нельсона (после Нельсона история ее мало интересовала). И даже в мрачные времена, когда ей приходилось подбирать юбки и спасаться бегством от мужланов голландцев де Рюйтера или Ван Тромпа4, она не унывала и помнила, что вскоре наступят славные дни побед, и она радостно сокрушит все мировые флотилии. И когда наступал золотой век, у Селины оказывалось полно дел: она не только участвовала в сражениях, самых опасных, где густо летели щепки, но и, как примерная ученица, изучала мореходное искусство и искусство маневрирования. Она знала, в каком порядке огромные боевые корабли вступают в бой, изучила их снаряжение и то, что для швартовки существуют специальные тросы (хотя и не понимала толком, что это значит), и, конечно же, множество раз обручалась с возлюбленным на палубе великолепного корабля под оглушительную пушечную канонаду.
В день выходки Селины я был, к сожалению, в отъезде, наносил тоскливые визиты вместе с тетушкой, и потому могу лишь пересказать то, что слышал от других. Об этом отъезде я жалею до сих пор, и по-прежнему во всем виню тетушку. В случившемся таилась какая-то великолепная бессмысленность, которую, обладая высоким художественным вкусом, я не преминул оценить. Поразительно и то, что выходку совершила именно Селина, Селина, которая недавно начала выписывать «Журнал для юных дам» и с явной покорностью посещала скучнейшие чаепития, неустанно напоминая мне, что бесконечные светские разговоры, оплетавшие нас вязкой сетью уныния, лишь дань приличиям.
Эдварда поглотила школа, и потому он тоже отсутствовал, хотя для него в этом не было большой трагедии. С его практичным взглядом на жизнь он бы не увидел во всем произошедшем, как он сам мог бы выразиться, никакого смысла. А вот Гарольду, пользовавшемуся особой благосклонностью богов, было даровано стать не просто свидетелем, но жрецом, раздувавшим священное пламя. Обреченный нести наказание, измышленное для него людьми с убогим воображением, которым мы были вынуждены подчиняться, он, наверняка, хранил в сердце светлую радость служителя, удостоенного чести кадить в алтаре во время Мессы.
Созревал октябрь. Лес и поля насыщались нежными оттенками цвета. В неподвижном воздухе тихого дня вдруг послышалось прерывистое дыхание бегуна, приближавшегося к цели. Задумчивая Селина стремительно прошла сквозь сад и вышла на пастбище. На небольшом пригорке, с которого открывался вид на холмы с одной стороны и на старую дорогу – с другой, она опустилась на землю, чтобы без помех пережевывать жвачку своей фантазии. Однако, вскоре к ней присоединился Гарольд, запыхавшийся и полный новых обид.
– Я просил его не делать этого, – взорвался он, – я сказал, что лучше немного подождать пока не вернется Эдвард, свинья не будет против, и Эдвард обрадуется – все будут счастливы. Но он ответил, что сало нужно заготавливать заранее. Тогда я сказал, что он просто скотина и убежал. Сейчас… сейчас он этим и занимается!
– Да, он скотина, – рассеянно ответила Селина. Ее не сильно заботила судьба свиньи.
Гарольд разбросал свежую землю над кротовой норой и ткнул в нее палкой. С фермы Ларкина донесся протяжный скорбный вой, визг, говоривший о том, что тучная душа черной беркширской свиньи отправилась по каменистому пути в Аид.
– Знаешь, какой сегодня день? – вдруг негромко спросила Селина. Она смотрела прямо перед собой, словно видела что-то.
Гарольд не знал и не особенно интересовался. Он разворошил кротовую нору уже почти на целый ярд и продолжал увлеченно копать.
– Сегодня день Трафальгарской битвы, – продолжала Селина, словно в трансе. – Трафальгарская битва! И всем наплевать!
Что-то в ее голосе заставило Гарольда понять, что он ведет себя неподобающе. Он не мог сказать, что именно, но, все же, оставил в покое нору и изобразил на лице вежливое внимание.
– Вон там, – продолжала Селина, пристально всматриваясь в старую дорогу, – там ездили почтовые кареты. Мне дядя Томас рассказывал. Люди привыкли наблюдать, как кареты проезжают мимо, иногда они привозили почту. Но, однажды утром, обычным утром, сначала появилось облако пыли, а потом промчалась карета. Вот тогда они и узнали! Ведь вся карета была украшена лавром, сверху донизу! И кучер был увенчан лавром, и охрана, скакавшая рядом! Тогда-то они и узнали!
Гарольд слушал в почтительном молчании. Он бы с большей радостью поохотился на крота, но тот, наверняка, был уже далеко, если не дурак. Гарольд обладал природным чутьем джентльмена, основное достоинство которого не подавать виду, даже если тебе смертельно скучно.
Селина поднялась на ноги и беспокойно прошлась взад-вперед, как ходят по палубе.
– Неужели мы бессильны? – выпалила она. – Он стольким пожертвовал ради нас! Почему же мы ничего не делаем?
– Кто? – кротко спросил Гарольд.
Не имело смысла дальше разорять нору. Крота давно и след простыл.
– Как кто, Нельсон, конечно, – ответила Селина, беспокойно оглядываясь в поисках решения.
– Но он… он же умер! – озадаченно произнес Гарольд.
– Ну и что с того? – парировала сестра. Она металась словно лев в клетке.
Гарольд был просто ошеломлен. В случае со свиньей, например, чей последний крик замер вдали, он считал главу завершенной. Какими бы веселыми ни были каникулы Эдварда, эта свинья в них участвовать не будет. А теперь ему дают понять, что с переходом в мир иной ничего особенно не меняется! Похоже, что ему придется пересмотреть свои взгляды.
Мальчик присел на корточки и обратил взор в сторону сада, словно искал там ответа на вопрос. И тут он разглядел тонкую струйку дыма в неподвижном осеннем воздухе. Садовник подмел опавшие листья и теперь, в невольном священнодействии, приносил их в жертву богине желтых оттенков и приближающихся холодов, которая неспешно парила над землей в этот золотой полдень. Гарольд тут же вскочил и бросился бежать. Он позабыл обо всем не свете: о Нельсоне, свинье, кроте, предательстве Ларкина и странных терзаниях Селины. Он увидел огонь, настоящий огонь, а играть с ним намного веселее, чем возиться в воде или перекапывать поверхность планеты. Стихия огня – лучшее, чем обеспечил этот мир здравомыслящих людей.
Селина осталась на месте. Она сидела, уперев кулаки в подбородок, и ее мечтания кружились и уплывали вверх вместе со струйками дыма. Когда быстроходные сумерки короткого осеннего дня легко шагнули в сад, прыгающие и растворяющиеся в дыму красные язычки огня стали более заметны. Гарольд маячил впереди, то набирая огромные охапки листьев, то энергично забрасывая их в огонь. Перед внутренним взором Селины вился совсем другой дым – дым вокруг мачт и корпусов боевых кораблей, дым, поднимающийся после грохочущего и разносящего все в щепки взрыва. Она слышала крики бегущих на абордаж матросов, хрип канонира, заряжающего пушку. И сквозь этот дым, как сквозь разорванную завесу, она, наконец, разглядела лучезарный образ Победителя, увенчанного славой идеальной смерти, чей дух твердым шагом уходил в эфир, где обитают Бессмертные. Сумерки окончательно превратились в темноту, когда Селина поднялась и медленно направилась к манящему огню. Что-то в ее походке напоминало походку жрицы, а в глазах ее загорелся странный фанатичный огонь.
Листья к тому моменту уже сгорели, и Гарольд бросил в огонь сухие ветки дрока. Их с треском поглощало пламя.
– Принеси еще палок, – приказала Селина, – опилки, дрова – все, что найдешь. Слушай, в огороде куча подпорок для гороха. Выдерни сколько сможешь и принеси, потом сходишь еще!
– Подожди… – удивленно начал Гарольд. Он живо представил ярость садовника при виде разоренного огорода.
– Принеси их, скорее! – крикнула Селина, нетерпеливо топнув ногой.
Гарольд побежал, он привык слушаться старших, так он был воспитан. Однако, глаза его округлились от удивления, и он всю дорогу разговаривал сам с собой, так он был потрясен.
Подпорки явно улучшили ситуацию: огонь уже не тлел, а горел вовсю, все больше напоминая настоящий костер. Гарольд, вначале испуганно молчавший, теперь прыгал вокруг пламени и радостно вопил. Селина смотрела на все это, мрачно нахмурив брови, она по-прежнему была недовольна.
– Сможешь найти еще палок? – спросила она. – Сбегай, поищи. Достань из сарая ненужные корзины, циновки. Сломай старый деревянный парник, в который Эдвард запихнул тебя, когда мы играли в разведчиков и Могикан. Подожди! Придумала! Я знаю, что делать, пойдем.
Неподалеку стояла теплица – особая гордость тети Элизы, с неохотой одобренная садовником. К ней был пристроен сарайчик, в котором хранилось топливо, необходимое для розжига камина, нам запрещено было притрагиваться к нему. Именно туда и направилась Селина. Гарольд безропотно следовал за ней, готовый после кражи подпорок к любому преступлению. Он только периодически щипал себя, чтобы убедиться, что не спит.
– Возьми немного угля, – коротко приказала Селина без лишней болтовни и споров. – Вот корзина. А я понесу дрова!
Через несколько минут уже не осталось сомнений, что из тлеющей ерунды выйдет настоящий костер. Селина, словно вакханка, с непокрытой головой и растрепанными локонами, утратившая весь лоск изысканной леди, бродила вокруг полыхающих, ею же сворованных дров, и тыкала в них подпоркой с огорода. Тыкала и бормотала: «Я знала, что это в наших силах! Знала, что мы сможем сделать хоть что-то!»
Садовник ушел домой пить чай. Тетя Элиза уехала по делам и должна была вернуться очень поздно, и этот дальний конец сада не просматривался ни из одного окна. Поэтому костер в честь Нельсона полыхал весело и беспрепятственно. Крестьяне, заметившие издалека пламя, проворчали что-то вроде «опять чертенята безобразничают» и отправились за пивом. Им даже в голову не пришло, какой это день, никто из них и не вспомнил адмирала, благодаря которому они по-прежнему платили за свое пиво честными английскими пенсами. Испуганные кролики повыпрыгивали из нор и пустились наутек, сверкнув на прощание белыми хвостиками; птицы взволнованно порхали среди ветвей или ускакивали по земле куда-нибудь в более безопасное место. Но, ни одна птица, ни один зверь не вспомнили о герое, чей подвиг позволил им все так же вить гнезда из конского волоса или мха в безопасности, под сенью Британского флага, и благодаря которому существовал английский охотничий закон, сохранивший так много звериных жизней. Никого это, похоже, не волновало. Перед жертвенным костром Селина стояла в полном одиночестве!
Хотя, возможно, и не в полном. Рев огня привлек внимание некоторых звезд, и они осторожно выступили вперед на необъятной поверхности небосвода. Они смотрели вниз сперва с недоумением, потом с интересом, а вскоре с согласием и радостью. Они-то понимали, что к чему. Среди них имя героя звучало часто, жизнь его была музыкой, под которую они танцевали, он был для них близким другом, товарищем. Поэтому они смотрели, мигали и вновь смотрели, звали отставших братьев присоединиться к ним и любоваться вместе.
«Что в нашей жизни лучше опьяненья?»5 Селине, после недолгой эйфории, пережившей восторг настолько ярко, насколько позволяла наша тусклая действительность, пришлось ощутить и неизбежную горечь пробуждения, едва догорели угли и пред нею предстала взбешенная тетя Элиза. Неприятней всего для сестры оказалось не то, что ее сразу же разжаловали до обыкновенного матроса и заклеймили, как человека, которому больше нельзя доверять, даже по сравнению с Эдвардом, находившемся в безопасности, в школе, и мной, за чьим воспитанием тетушка следила самолично; ее не расстроило и то, что карманные деньги больше не будут ей выдаваться, и что она не сможет принимать торжественное участие в церковной службе – честь, которой Селина была удостоена в свой день рождения, пока не восстановит у тети прежнего доверия. Больше всего Селину печалило, что она втянула в это жуткое предприятие несчастного Гарольда, да еще и против его воли. Теперь, когда она рассуждала здраво, восторженность угасла и призрак юной леди вновь боязливо поселился в ней, сестра поняла, какой была дурой и упрямицей, не достойной прощения.

Что касается Гарольда, он намного меньше переживал из-за случившегося, чем казалось его чувствительной сестре. Вначале он правда поднял рев в своей комнате, наверху, когда представил бесконечную унылую череду будущих страданий и унижений, однако, за дверью он неожиданно столкнулся с котом Огастесом и поймал его. Добыча эта сразу же повысила брату настроение: песнь скорби сменила песнь триумфа. Огастес был хитрым котом и отнюдь не стремился проводить время в кроватках маленьких мальчиков, поэтому охотничий успех Гарольда был настоящим достижением. Когда кот понял, что судьба его предрешена и вопрос с ночлегом решен, он поступил мудро и с видом апатичного понимания слушал бессвязный лепет о свиньях, героях, кротах и кострах, убаюкавший, в конце концов, самого рассказчика. Сомнительно все же предположить, что Огастес оказался редким существом, способным на глубокое сопереживание.
Селина не знала о том, что Гарольд уже утешился, так же как не знала, что звезды согласно мигали над ней, наблюдая за пламенем, и потому ей удалось совсем не скоро, обильно увлажнив слезами подушку, погрузиться в приятный мир, где можно встретить любимого героя на прогулке, полюбоваться всеми его причудливыми странностями и почувствовать при этом настоящее понимание и одобрение окружающих.
Dies Irae6
Вереница счастливых дней проходит передо мной в тумане былого, они полны воспоминаний, словно одуванчики – солнца. Но есть среди них и поникшие цветки, слепые, как оконное стекло, покрытое дождевыми каплями и не пропускающее больше ни солнечного цвета, ни щебетания птиц, ни дуновения ветерка из сада. Слезы, забрызгавшие его, не позволяют ощущать ничего, кроме самих себя.
Все началось с Марты, хотя саму ее не в чем винить. И правда, беда в том, что никого нельзя обвинить в чем-либо полностью и заставить искупать свою вину. Завтрак только закончился и солнце, словно глашатай, призывало нас выйти к нему навстречу. У меня порвался шнурок, и я побежал наверх, к Марте, но застал ее рыдающей в углу, прячущей лицо в передник. Я ничего не смог от нее добиться кроме тягостных всхлипываний, которые причиняли мне буквально физическую боль. А солнце светило все нетерпеливей, и надо было как-то решать вопрос со шнурком.
От других слуг я узнал, что случилось. Брат Марты, моряк Билли, погиб, утонул в одном из тех далеких морей, о которых мы грезили. Мы хорошо знали Билли и любили его. С нетерпением считали дни перед каждым его приездом, и когда из кухни вдруг раздавался его бодрый голос, с воплями бежали вниз. Сперва он демонстрировал нам татуировки на руках – предмет особого восторга, зависти и благоговения, потом показывал фокусы, жонглировал и делал удивительные гимнастические упражнения. А потом были истории, бесконечные истории, пока не приходило время идти спать. Никого похожего на Билли в нашем окружении не было, а теперь он утонул, они сказали, и Марта плакала, а у меня… а у меня порвался шнурок. Они сказали, что Билли больше никогда не вернется, но я посмотрел в окно на солнце, которое возвращается каждое утро, не пропускает ни одного дня, и не поверил им. Скорбь Марты тронула меня, но лишь потому, что ее заплаканный вид и рыдания причинили мне боль где-то глубоко внутри. И мне по-прежнему был нужен новый шнурок.
День начался плохо, несмотря на то, что погода за окном обещала иное. Я завязал ботинок куском старой веревки и пошел искать девочек, разлад в обычном порядке вещей немного сбивал меня с толку. Когда я вошел в классную комнату, напряжение, повисшее в воздухе, сказало мне, что и тут не все ладно. Селина безучастно смотрела в окно, ноги ее переплелись под столом. Я обратился к ней, но она лишь раздраженно дернула плечом и не снизошла до ответа. Шарлотта, абсолютно ничем не занятая, развалилась на стуле и периодически шмыгала носом. Подобная слезливость в столь ранний утренний час была необычна даже для нее. Причина, повергшая сестер в такое необычное состояние, была пустяковой, и поведение их я считал совершенно неразумным. Последние несколько дней в доме собирали корзину гостинцев для отправки Эдварду в школу. Туда не разрешалось отправлять посылки слишком часто, поэтому собирание гостинцев превращалось в пиршественный разгул и религиозный обряд одновременно. Поверх основной части продуктов, внимательно отобранных и аккуратно упакованных, таких как банки с вареньем, пирог, колбаса и множество яблок по краям, девочки положили свои личные подношения. Не помню точно, что это было, в любом случае, что-то не имеющее никакой практической пользы для мальчика. Однако, сестрам понадобились некоторая фантазия и умение, чтобы сделать их, они даже потратили часть карманных денег, ради осуществления задуманного, и не сомневались, что их подарки приведут брата в восторг. И вот, вчера пришло лаконичное письмо от Эдварда. Он высоко оценил пирог и варенье, одобрил колбасу и намекнул, что теперь, основательно подкрепившись, он был бы не прочь получить еще пять шиллингов почтовыми марками, и тогда никакие удары судьбы не сломят его. И ни слова о подарках сестер, ни слова благодарности. И мне, и Гарольду письмо показалось вполне естественным и достаточно чутким. В конце концов, что может быть важнее еды и пяти шиллингов, с которыми не страшна даже изменчивость фортуны. Приятно, конечно, получать подарки, но жизнь – это вам не шутка, и достойно выдержать ее натиск помогают пироги и монеты в полкроны, а вовсе не безделушки вроде вязанных рукавиц и тому подобного. И все же, девочки упрямо придерживались противоположного взгляда на равнодушие брата. Итак, это была вторая неудача за одно утро.
Немного расстроенный, я спустился вниз и вышел наружу, навстречу солнцу. Перед домом, на гравиевой дорожке, Гарольд играл в заговорщиков. Он выкопал небольшую яму, засыпал ее воображаемым порохом, и теперь прятался в кустах лавра, спасаясь от неотвратимого взрыва. Я услышал, как он шепчет:
– О Боже! – вскричал царь. – Все мои планы сорваны!
В этот момент я решил изобразить черную пуму. Гарольду нравились пумы, как и все остальные животные. Я прыгнул на брата, издав при этом устрашающий рев, и мы упали прямо на гравий.
Жизнь, как известно, состоит из удач и неудач. Моя фантазия, к сожалению, оказалась неудачной. Гарольд пронзительно закричал: «Ой, больное колено!», после чего с ревом вывернулся из крепких лап пумы. Вообще-то, я не знал, что у него больное колено и, более того, он знал, что я не знаю про его больное колено. Поэтому, с точки зрения мальчишеской этики, он даже не имел права на меня обижаться, тем более, ждать извинений. Однако, я пошел ему навстречу и предложил залечь в засаде у пруда, чтобы выследить уток, которые, ни о чем не подозревая, часто гуляют вдоль воды гуськом вразвалочку, а потом устроить на них настоящую охоту, будто они – бизоны на просторах прерий. Нам строго воспрещалось гонять уток, поэтому мы находили это занятие весьма увлекательным. Но моя попытка примирения не увенчалась успехом. Отчаянно рыдая, Гарольд ушел в дом.
Дела обстояли из рук вон плохо. Я пошел прочь, куда глаза глядят, и едва приблизился к воротам, как визгливый голос из окна велел мне держаться подальше от клумб. Лишь когда ворота злобно захлопнулись за мной, я почувствовал себя лучше. С каждым шагом во мне росло и усиливалось ощущение, что необходимо кардинально изменить свою жизнь, что я заблудился в каком-то лабиринте, и что нужно любым способом разрешить эту невыносимую ситуацию. Я ведь пытался все исправить. Но теперь мое сердце разбито, а ведь я хотел только одного: жить рядом с близкими и делить с ними все радости и печали. Мне оставалось лишь уехать куда-нибудь далеко. Где-нибудь в мире, я не сомневался, существуют справедливость и отзывчивость. Например, в Пампасах, мне нравилось это название. Огромные пространства, заполненные лишь травой, где можно изредка встретить дикую лошадь и никаких родственников на горизонте! Для израненной души подобное существование виделось единственно возможным и целительным. Много в мире подобных уголков, где можно нырять за жемчугом или вспарывать акулам брюхо огромным ножом. И никто из родственников не помешает твоим прекрасным занятиям. И все же, я не хотел окончательно разрывать отношения с близкими. Нужно сделать так, чтобы они поняли, как сильно ошибались, хотя будет уже поздно.
Из всех профессий служба в армии больше всего подходила для осуществления моего плана. Тебя вербуют, и долгие годы ты маршируешь под барабанную дробь, сражаешься и носишь оружие под чужими небесами. Но вот, ужасы войны обрушиваются и на родную деревню, где ты был рожден и вскормлен, но где память о тебе потускнела с течением лет. Кричащие и напуганные люди, выбегут тебе навстречу, среди охваченной паникой лиц можно будет заметить и лица некоторых тетушек.
– Что осталось нам, – спрашивают они себя, – кроме как сдаться на милость загадочного и удивительного генерала, о котором рассказывают столько прекрасных историй?
И тогда армия войдет в деревню, и пушки будут громыхать и подпрыгивать на ее улицах, а позади всех поскачет генерал, легендарный герой, на вороном коне. Бледное лицо его испещрено сабельными шрамами. А потом… каждый мальчишка великолепно осведомлен о том, что произойдет потом. Удивительное великодушие проявит генерал. Когда есть вороной конь и сабельные шрамы на бледном лице, можно позволить себе немного великодушия. Однако, своих родственников он отчитает довольно серьезно.
Тщеславные фантазии утешили меня минут на двадцать, но старое чувство обиды вновь всколыхнулось в душе и потребовало новых перевязок и обезболивающего. На этот раз я представил себе море. Лишь на морских просторах я смог бы осуществить задуманное. Ведь на море возможно служить честно и быть, одновременно, вольной птицей, тогда как в армии приходится подчиняться дисциплине. Жизнь, по большому счету, сама по себе сурова, но я, все же, жаждал острого страдания, хотел быть юнгой, которого пинают, бьют и постоянно ругают. Возможно, я надеялся, что сюда, в деревню, дойдет слух о моих страданиях.
Вскоре, как это часто бывает, на мачте нашего корабля взовьется Веселый Роджер, судно ощетинится пушками и начнет разгульную жизнь, а капитаном на нем буду я. И тогда, в один прекрасный день, нашей добычей станет крупный торговый корабль, и все необходимые мне родственники будут на нем. Экипаж захваченного судна прогуляется по доске, капитана вздернут на рее, а потом настанет очередь пассажиров – жалкой кучки уже известных нам лиц, дрожащих от страха. И вот я снова выступаю в роли великодушного победителя. Не сыскать никого великодушней главаря пиратов.
Когда я, в конце концов, вернулся с небес на грешную землю, то обнаружил, что чудесные видения помогли мне преодолеть довольно большую часть дороги; пришлось остановиться, чтобы осмотреться. С правой стороны я увидел длинное низкое здание из серого камня, выделявшееся на фоне пейзажа некоторыми характерными особенностями. Что это за здание можно было заключить вне зависимости от наличия лишайника на его стенах или ветхой, полустертой лепнины. Чужестранцу, возможно, было бы не по силам понять, что он видит перед собой, но для меня, с юных лет исследовавшего окрестности, место было знакомым. Такие строения обычно называют Пристанищами, а людей, проживающих в них, с непривычной для наших мест лаконичностью, – «ребятами, о которых вспоминают по праздникам», но чаще всего их зовут «монахами», и слово это произносится с легкой насмешкой. Лично я понимал, что насмешка абсолютно неуместна для такого слова, как «монах». Я был хорошо знаком с монахами по книгам, видел их длинные одеяния, их выбритые макушки, их великолепных огромных собак с бочонками бренди на шее, неустанно извлекающих несчастных путников из снега7. Единственным псом, обитавшем при местном монастыре, был ирландский терьер, и милые люди, которым он принадлежал, и которые, одновременно, принадлежали ему, носили неприметную одежду и отращивали бакенбарды. Однажды, когда я бродил поблизости, как всегда, в поисках чего-то неведомого, меня, как старого друга, пригласили зайти. Гостеприимно провели в маленькие комнаты, полные книг и картин, не обезображенные многочисленными кружевными салфеточками, показали часовню, устремленную ввысь, полную тишины и легкого аромата, в которой я почувствовал себя, как дома и в гостях, одновременно. Покормили в трапезной, где на небольшом возвышении стоял длинный стол, где вся деревянная мебель была чисто выскоблена, не выкрашена и благоухала лесом, из которого и пришла. Я долго берег в себе потом ощущение чистоты и свежести, словно умылся прохладной весенней водой. Большое выметенное пространство, красная черепица и дубовые скамьи, создававшие уют, не нуждавшийся в мягкой обивке…

Но, в то утро я искал одиночества и не мог наносить дружеские визиты. Что-то, однако, в этом месте перекликалось с моим настроением, и я решил подойти к монастырю с задней стороны, где аккуратный огород переходил в неожиданный обрыв. В ту пору я еще не был знаком ни с самой готикой, ни со словом, ее обозначающим, и все же, архитектура этого строения каким-то образом поддерживала меня, сопереживала мне в час уныния. Я задумчиво разглядывал низкое, серое сооружение и думал о милых людях, населявших его, о том, как счастливо проводят они дни, как резвятся с ирландским терьером, их равноправным другом. Я вдруг вспомнил то необычное выражение, свойственное их лицам, словно общая цель, общее дело объединяло их, и для достижения этой цели нужно было лишь исполнять простые и понятные обязанности. Я вспомнил еще и то, что говорила о них Марта, что они «творят добро». Я имел смутное представление об их самоотречении и самопожертвовании, и потому в глубине моей страдающей души возникла пленительная идея. Карьера военного и жизнь пирата показались мне в ту же секунду надуманными, примитивными и бессмысленными. Именно этот путь, путь отшельника, должен был стать моим призванием и моей местью. Что ж, путь этот был суров, так писали в книгах, на нем мне уготован черствый хлеб и власяница. Я дам обет, бесповоротный, леденящий кровь обет, и буду ждать в исповедальне за железной решеткой. Железная решетка была самым необходимым элементом в моих фантазиях, я мечтал, как по другую ее сторону, выстроятся в очередь все мои родственники. Мысленно пробежавшись по списку, я отметил, что вся банда в сборе. Печальные взгляды, грустные признания.







