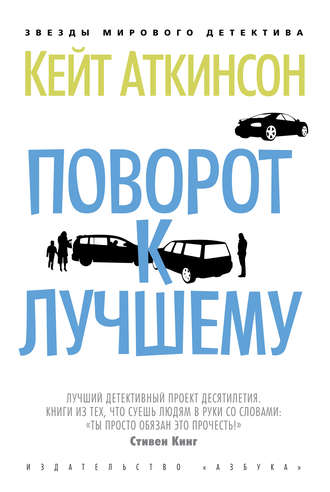
Кейт Аткинсон
Поворот к лучшему
Kate Atkinson
ONE GOOD TURN
Copyright © 2006 by Kate Atkinson
All rights reserved
© М. Г. Нуянзина, перевод, 2011
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®
***
Лучший детективный проект десятилетия… Книги из тех, что суешь людям в руки со словами: «Ты просто обязан это прочесть!»
Стивен Кинг
«Преступления прошлого» были очень хорошим романом – а уж «Поворот» прямо-таки произведение искусства и недосягаемый образец жанра. Жанра? На самом деле если бы в конце романа детективная интрига разрешалась всего лишь условно, как бог на душу положит, то и тогда он нисколько бы не разочаровывал: великолепная черная комедия, сатирические картины из жизни современной Англии. Но ведь это и детектив выдающийся; из тех редчайших, где все объясняется в последней фразе, – то есть буквально все, и буквально в последней, не поверите.
Лев Данилкин (Афиша)
Кейт Аткинсон – настоящее чудо.
Гиллиан Флинн
Столь непринужденному сочетанию комичного и трагичного мог бы позавидовать сам Диккенс – разве что сюжет у Аткинсон выстроен даже хитроумнее.
Хилари Мантел
Талант у Кейт Аткинсон поистине безграничный.
Маргарет Форстер
Кейт Аткинсон – поразительный мастер. Она произвела революцию в жанре детектива…
Мэтт Хейг
Кейт Аткинсон – обязательное чтение. Я обожаю все, что она пишет.
Харлан Кобен
Каждую новую книгу Аткинсон ждешь, как Рождества: никто другой из наших современных писателей не способен так виртуозно балансировать на грани между серьезным и увлекательным, комичным и трагичным.
Sunday Telegraph
Восхитительная головоломка.
The New Yorker
Это нечто новое – детективный роман, который не разочарует множащихся поклонников Кейт Аткинсон своими резко очерченными характерами и интеллектуальностью текста.
Glamour
Меткий черный юмор, очаровательный герой в лице Броуди, многоплановый талант рассказчика.
Marie Claire
Один из самых блестящих, остроумных авторов нашего времени… В «Повороте к лучшему» все, за что мы так любим Кейт Аткинсон, имеется с избытком: острые, как булавка, наблюдения, мощный комический талант, цепкость к лингвистическому абсурду…
The Scotsman
По литературному мастерству, по яркости и глубине психологических описаний Кейт Аткинсон сегодня нет равных.
Evening Standard
Кейт Аткинсон умеет быть загадочной и смешной, поднимая этот свой дар в каждом новом романе до заоблачных высот.
Sunday Tribune
Как это у нее получается? Аткинсон заставляет читателя то хохотать навзрыд, то рыдать в голос – иногда в пределах одной и той же фразы. Выдающийся триумф, неудержимая радость!
The Boston Sunday Globe
Литературная карьера англичанки Кейт Аткинсон вычертила довольно необычный зигзаг: начав с «просто романов», писательница переместилась в нишу детектива, добилась там колоссального успеха, а затем не моргнув глазом вновь вернулась к «просто романам».
Галина Юзефович
Просто невероятно, насколько книги Кейт Аткинсон полны радости жизни, притом что смерть в них отнюдь не редкая гостья. Безудержная энергия пронизывает ее романы от первой до последней страницы, сплавляя воедино прошлое и настоящее…
Guardian
В шотландской столице фестиваль искусств, балет на каждом балконе, клоуны в прихожей, петарды над ухом, дурдом на выезде. И разные мелкие несуразицы, трещинками разлетевшиеся от мелкого ДТП с участием жлоба с битой и ротвейлером. Закомплексованный автор дамских детективов швыряет в жлоба сумку – и спасает второго водителя от добивания. Симпатичная разведенка-полисвумен, истерзанная любовью к шалому сыну и больному коту, каждые полдня с растущим раздражением возвращается к фигурантам происшествия, никто из которых претензий ни к кому не имеет, но выглядит крайне подозрительно и вообще давно смылся. Затюканная жена авторитетного девелопера прямо на месте аварии узнает, что ее ненаглядный впал в кому в разгар игрищ с русской доминаторшей, – и с этого мига принимается жить заново. А Джексон Броуди, бывший инспектор и неудачливый частный детектив, ныне растерянный нувориш, сопровождающий артистическую подругу с характером, поспотыкавшись о весь этот карнавал, вдруг вылавливает в море труп девушки – и тут же уступает его бешеному приливу.
Первая книга была блестящей, вторая не хуже – хотя Аткинсон, кажется, выполняла формальное упражнение под лозунгом «А могу и наоборот». По большинству параметров и толчковых ног «Поворот к лучшему» является противоположностью «Преступлений прошлого», упираясь в почти Аристотелевы единства сюжета вместо сада расходящихся тропинок.
Текст прекрасен, перевод адекватен, счастье есть. Неистово рекомендую.
Шамиль Идиатуллин
***
Дебби, Глинис, Джудит, Линн, Пенни, Шиле и Тессе
Тем, кто мы были, и тем, кто мы сейчас
Male parta, male dilabuntur.
(Что дурно добыто, то дурно расточится.)
Цицерон. «Филиппики». II, 27
Вторник
1
Он заблудился. Непривычная штука. Обычно он составлял план и четко ему следовал, но сейчас все явно шло против него, и он решил, что просто не мог этого предвидеть. Два часа он тупо простоял в пробке на А1 и в Эдинбург въехал только к полудню. Потом увяз в потоке одностороннего движения и застрял на улице, перекрытой из-за прорванного водопровода. Всю дорогу на север лил неумолимый дождь, который дал слабину только на подъезде к городу, но толпу никак не распугал. Ему даже не пришло в голову, что в Эдинбурге разгар Фестиваля[1] и по городу разгуливают орды праздного народа, словно только что объявили о конце войны. Раньше он сталкивался с Эдинбургским фестивалем, только когда случайно включал «Ночное обозрение», где задроты-интеллигенты обсуждали очередную претенциозную постановку экспериментального театра.
В итоге он очутился в грязном эдинбургском центре, на улочке, которая казалась расположенной ниже уровня остального города, в этаком черном ущелье. От дождя булыжная мостовая стала скользкой и склизкой и ехать приходилось осторожно, потому что улица была забита людьми, которые норовили перебежать на другую сторону или сбивались в кучки прямо посреди дороги, – видимо, им никогда не говорили, что дороги – для машин, а для пешеходов есть тротуары. Во всю длину улицы вытянулась очередь – народ стоял, чтобы пробраться в дыру в стене, напоминавшую пробоину от взрыва, под вывеской: «„Фриндж“. Площадка № 164»[2].
У него в бумажнике лежали водительские права на имя Пола Брэдли. «Пол Брэдли» – легко забываемое имя. От настоящего имени – которое он больше не воспринимал как свое – его уже отделяло несколько других личин. Вне работы он часто (но не всегда) представлялся «Рэй»[3]. Просто и со вкусом. Луч света, луч тьмы. Луч солнца, луч мрака. Ему нравилось менять имена, ускользать как песок сквозь пальцы. Взятый напрокат «пежо» подходил идеально – ничего броского и брутального, машина для простого парня. Простого парня вроде Пола Брэдли. Если бы его спросили, чем он занимается, чем занимается Пол Брэдли, он бы ответил: «Да обычная офисная крыса, бумажки перебираю в бухгалтерии. Тоска зеленая».
Он вел машину и одновременно пытался разобраться в карте Эдинбурга, чтобы понять, как выбраться с этой адской улицы, – и тут кто-то выскочил под колеса. Он таких на дух не переносил – молодой, темные волосы, толстые очки в черной оправе, двухдневная щетина, в зубах сигарета, – в Лондоне они ошивались сотнями, все косили под французских экзистенциалистов-шестидесятников. Он мог бы поспорить, что никто из них в жизни не открывал книги по философии. Сам-то он прочел изрядно философов – Платона, Канта, Гегеля, – даже подумывал получить как-нибудь степень.
Он дал по тормозам, и очкарик не пострадал, только чуть подпрыгнул, как тореадор, уворачивающийся от быка. Парень был в ярости – размахивал сигаретой, орал и показывал ему средний палец. Неприятный тип, никаких манер, – интересно, его родители гордятся плодами своего труда? Он терпеть не мог курение – отвратительная привычка – и терпеть не мог типов, которые показывают тебе палец и орут: «А вот это видал!» – брызгая слюной из грязных, прокуренных ртов.
Он почувствовал глухой удар, примерно такой же силы, как если темной ночью сбить барсука или лису, только удар пришелся сзади, подтолкнув его вперед. Тем лучше, что парень в очках отплясал свой пасодобль и убрался с дороги, иначе его раздавило бы в лепешку. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Голубая «хонда-сивик», вылезает водитель, настоящий бугай, глыбы мышц, как у штангиста, – такие сгодятся для спортзала, но на деле пользы от них никакой, они не помогут протянуть три месяца в джунглях или в пустыне. Он и дня бы не протянул в отличие от Рэя. На бугае были уродливые водительские перчатки из черной кожи, с отверстиями на костяшках. Сзади в машине сидела собака, здоровенный ротвейлер, именно такого пса обычно и представляешь с подобным типом. Прямо-таки ходячее клише. Собака заходилась от бешенства, забрызгивая окно слюнями, и скребла когтями по стеклу. Она не особенно его беспокоила. Он умел убивать собак. Рэй вышел из машины и направился к заднему бамперу, чтобы осмотреть повреждения. Водитель «хонды» заорал:
– Ты, мудак тупой, ты соображаешь, чё сделал?
Англичанин. Рэй пытался придумать, что бы сказать, дабы избежать стычки и успокоить этого типа, – тот производил впечатление пароварки, которая вот-вот взорвется, которая хочет взорваться, подпрыгивая, словно выведенный из строя боксер-тяжеловес. Рэй принял нейтральную позу, придал нейтральное выражение лицу, но тут толпа дружно ахнула от ужаса, и он увидел в руке у верзилы ниоткуда взявшуюся бейсбольную биту и подумал: «Черт!»
Это была его последняя мысль на некоторое время. Когда через несколько секунд к нему вернулась способность думать, он валялся на земле, держась за разбитую голову. До него донесся звон стекла – ублюдок обрабатывал окна в его машине. Он попытался – безуспешно – подняться на ноги, но ему удалось лишь встать на колени, будто для молитвы, а бугай уже шагал к нему с занесенной битой, взвешивая ее в руке и собираясь пробить хоумран ему по черепу. Рэй, защищаясь, поднял руку, отчего голова закружилась еще сильнее, и, падая обратно на булыжную мостовую, подумал: «Боже, неужто конец?» Он сдался, на самом деле сдался – прежде с ним такого никогда не бывало, – но тут какой-то человек выступил из толпы, размахнулся и швырнул чем-то квадратным и черным в типа из «хонды», зацепив его за плечо и сбив с ног.
Он снова отключился на несколько секунд, а когда пришел в себя, рядом с ним на корточках сидели две женщины-полицейских, одна из которых говорила: «Просто дышите, сэр», – а другая вызывала по рации «скорую».
Впервые в жизни он обрадовался полиции.
2
Мартин никогда не делал ничего подобного. Он даже мух дома не бил, а терпеливо преследовал и ловил между стаканом и тарелкой, а потом отпускал на волю. Кроткие наследуют землю[4]. Ему было пятьдесят лет, и за всю жизнь он не совершил ни одного акта насилия над другим живым существом, хотя иногда думал, что это скорее из трусости, чем из пацифизма.
Он стоял в очереди и ждал, что кто-нибудь вмешается в ситуацию, но толпа уподобилась зрителю, случайно попавшему на особо жестокую постановку, и не собиралась портить себе развлечение. Да и сам Мартин поначалу подумал, что это очередное представление, не слишком удачная импровизация, цель которой – шокировать или доказать нашу невосприимчивость к шоку, потому что мы уже давно живем в мировом медиасообществе, сделавшем нас пассивными наблюдателями насилия (и так далее). В таком вот ключе мыслила отстраненная, рассудочная часть его мозга. С другой стороны, примитивная его часть думала: «Твою ж мать, какой ужас, пожалуйста, кто-нибудь, прогоните этого головореза». Он не удивился, услышав у себя в голове отцовский голос («А ну соберись, Мартин»). Тот уже много лет как умер, но Мартин до сих пор часто слышал его натренированный на плацу командирский рык. Когда парень из «хонды» покончил со стеклами серебристого «пежо» и направился к его водителю, потрясая битой и готовясь нанести последний, сокрушительный удар, Мартин понял, что лежащий на земле человек сейчас умрет, что сумасшедший с бейсбольной битой убьет его у всех на глазах, если никто ничего не сделает, и инстинктивно, без единой мысли – потому что если бы он подумал, то мог бы этого и не сделать, – он спустил с плеча портфель и размахнулся им, точно метательным молотом, целясь в голову обезумевшего водителя «хонды».
В голову он не попал, что было неудивительно, – он всегда мазал мимо цели, а если в него летел мяч – пригибался, но в портфеле был ноутбук, и его твердый, тяжелый край ударил водителя «хонды» в плечо и сбил с ног.
Ближе к настоящему месту преступления Мартин оказывался лишь однажды – на экскурсии Общества писателей по полицейскому участку Сент-Леонардса[5]. Кроме него, в их группе были только женщины. «Вы у нас за весь сильный пол», – сказала ему одна дамочка, и он почувствовал в вежливом смехе остальных неприкрытое разочарование, словно самое малое, что он мог бы сделать в роли представителя сильного пола, – поменьше походить на женщину.
Им предложили кофе с печеньем, шоколадным с шоколадной прослойкой, и розовыми вафельными сэндвичами – впечатляющий выбор, и «главный полицейский» развлекал их беседой в новом конференц-зале, будто специально устроенном для подобных экскурсий. Потом им показали другие помещения, дежурную часть и пещероподобную комнату, где сидели за компьютерами люди в штатском (как в «NCIS»[6]), – бегло взглянув на «писателей», они решили, что те не стоят внимания, и отвернулись обратно к мониторам.
Они постояли в шеренге, как подозреваемые на опознании, у одной из дам взяли отпечатки пальцев, а потом их заперли – ненадолго – в камере, где все ерзали и хихикали, чтобы притупить чувство клаустрофобии. Мартин тогда подумал, что слово «хихикать», вообще-то, применимо исключительно к женщинам. Женщины хихикают, мужчины – просто смеются. Он забеспокоился, что сам иногда подхихикивает. В конце экскурсии их ждало – точно для них разыгранное – волнующее зрелище: отряд полицейских облачился в защитное снаряжение, чтобы вывести из камеры «трудного» заключенного.
Экскурсия имела мало отношения к книгам, которые Мартин писал под псевдонимом Алекс Блейк. Это были старомодные, сентиментальные детективы, объединенные одной героиней – Ниной Райли, полной энтузиазма девицей, унаследовавшей от дядюшки детективное агентство. Действие происходило в сороковые годы, сразу после войны. Эта историческая эпоха с ее монохромной скудностью и затаенным разочарованием, пришедшим на смену героизму, особенно привлекала Мартина. Вена «Третьего человека», лондонские графства «Короткой встречи»[7]. Каково это было – поднять знамя в битве за правое дело, испытать столько благородных чувств (да, пропаганды хватало, но в изнанке-то была правда), избавиться от бремени индивидуализма? Оказаться на грани краха и поражения и выстоять? И думать: «Ну и что теперь?» Конечно, Нина Райли ничего подобного не испытывала, ей было всего двадцать два, и войну она пересидела в швейцарском пансионе для девочек. И она была книжным персонажем.
Нина Райли всегда была девчонкой-сорванцом, но лесбийских наклонностей не проявляла и постоянно становилась объектом ухаживаний самых разнообразных мужчин, с которыми держалась в высшей степени целомудренно. («Словно, – написал ему „благодарный читатель“, – классическая институтка выросла и стала детективом».) Нина жила в географически неопределенной версии Шотландии, где были и море, и горы, и холмистые вересковые пустоши и откуда она могла быстро добраться до любого крупного шотландского города (а если нужно, то и английского, зато в Уэльсе она не бывала – Мартин подумывал исправить этот недочет) на своем спортивном «бристоле» с откидным верхом. Первая книга о Нине Райли была задумана как поклон ушедшему времени и забытому жанру. «Пастиш, если хотите, – нервно сказал он, когда в издательстве его познакомили с редактором. – Ироничная дань уважения». Мартин был немало удивлен, что его решили печатать. Он писал книгу для собственного развлечения – и вот он уже сидит в безликом лондонском офисе, оправдываясь за эту ерундистику перед молодой женщиной, которой было явно трудно на нем сосредоточиться.
– Как бы там ни было, – заявила она, сделав заметное усилие, чтобы взглянуть на него, – для меня это книга, которую можно продать. Своего рода шарада с убийством. Люди обожают ностальгировать, прошлое – как наркотик. Сколько книг планируется в цикле?
– В цикле?
– Привет.
Мартин обернулся и увидел мужчину, с отработанной небрежностью прислонившегося к дверному косяку. Он был старше Мартина, но одет как молодой парень.
– Привет, – ответила редакторша, глядя на него с самым пристальным вниманием. Их скупой обмен репликами содержал в себе чуть ли не больше подтекста, чем мог вместить. – Нил Уинтерс, наш директор, – сказала она с гордой улыбкой. – Нил, это Мартин Кэннинг. Он написал замечательную книгу.
– Шикарно, – прокомментировал Нил Уинтерс и пожал Мартину руку. Ладонь у него была влажная и мягкая, как дохлая морская тварь на пляже. – Первую из многих, надеюсь.
Через две недели Нила Уинтерса перевели в верхний эшелон головного европейского офиса, и Мартин никогда больше его не видел, но все равно считал, что именно то рукопожатие стало переломным моментом, изменившим его жизнь.
Мартин недавно продал права на телевизионную экранизацию книг о Нине Райли.
– Как будто в теплую ванну залезаешь. Самое то для вечернего воскресного эфира, – сказал продюсер с Би-би-си.
Прозвучало как оскорбление, и, безусловно, это оно и было.
В своем двумерном вымышленном пространстве Нина Райли успела раскрыть три убийства, кражу драгоценностей и ограбление банка, вернуть владельцу скаковую лошадь и предотвратить похищение малолетнего принца Чарльза из Балморала[8], а в шестой раз выйдя на публику, практически в одиночку спасла от грабителей сокровища шотландской короны. Седьмой роман, «Араукария», переизданный в мягкой обложке, сейчас стоял на витринах «3 по цене 2» в каждом книжном. По общему мнению, он получился «мрачнее» («Блейковский нуар наконец стал более зрелым», – написал читатель на «Амазоне». В каждом живет критик), но его агент Мелани утверждала, что книги продаются все так же «бойко».
– Не видать конца и края, – сказала она.
Благодаря ирландскому акценту Мелани все, что бы она ни говорила, звучало приятно, даже если приятным не было.
На частый вопрос, почему он стал писателем, Мартин обычно отвечал, что раз уж он проводит бо́льшую часть времени в своем воображении, то почему бы не получать за это деньги. Он говорил это весело, но без хихиканья, и люди улыбались, словно он удачно пошутил. Они не понимали, что это правда: он жил у себя в голове. Но не в интеллектуальном или философском смысле – его духовная жизнь была весьма заурядна. Он не знал, у всех ли так бывает, проводят ли другие люди время в грезах об улучшенной версии «сегодня». Воображаемая жизнь была редкой темой для разговоров, разве что речь заходила о каком-нибудь высоком искусстве китсианского толка. Никто не сознавался, представляет ли себя в шезлонге на лужайке, под безоблачным летним небом, в предвкушении старомодного послеобеденного чаепития, поданного уютной женщиной со зрелой грудью и в безупречно чистом фартуке, которая говорила: «Давайте-ка доедайте, голубочки мои», потому что именно так, слегка по-диккенсовски, в воображении Мартина выражались уютные женщины со зрелой грудью.
Мир у него в голове был несравненно лучше того, что лежал за ее пределами. Булочки, домашний черносмородиновый джем, топленые сливки. Небесную синеву над головой резали ласточки, маневрируя и пикируя, как пилоты в Битве за Британию[9]. Звук ударов битой по крикетному мячу вдалеке. Запах горячего, крепкого чая и свежескошенной травы. Все это несравненно предпочтительнее типа в ужасном припадке гнева и с бейсбольной битой, не правда ли?
Мартин тащил с собой ноутбук, потому что хоть он и стоял в очереди на дневную комедийную постановку, но на самом деле направлялся (весьма неспешно) в «офис». «Офис» Мартин совсем недавно снял в отремонтированном многоквартирном доме в Марчмонте. Когда-то там был продуктовый магазин, но с некоторых пор это безликое, ничем не примечательное пространство – стены из гипсокартона, ламинатные полы, широкополосный интернет и галогенное освещение – занимало архитектурное бюро, ИТ-консультанты и теперь вот – Мартин. Он снял «офис» в тщетной надежде, что, если каждый день будет уходить из дому, чтобы писать, и соблюдать нормальный рабочий график, как другие люди, это поможет ему преодолеть летаргию, охватившую книгу, над которой он сейчас работал («Смерть на Черном острове»). Но «офис» существовал для него исключительно в кавычках, он был вымышленным понятием, а не местом, где действительно можно чего-то достичь, – и Мартин подозревал, что это плохой знак.
«Смерть на Черном острове» была точно заколдована – сколько бы он ни писал, книга не двигалась с места.
– Нужно изменить название, а то похоже на очередной выпуск «Тинтина»[10], – сказала Мелани.
До того как восемь лет назад он начал печататься, Мартин преподавал историю религии, и по какой-то причине Мелани – на ранней стадии их знакомства – вбила себе в голову (и так этого оттуда и не выбросила), что Мартин когда-то был монахом. Он так и не понял, как она пришла к такому заключению. У него и впрямь имелась преждевременная тонзура из редеющих на макушке волос, но, помимо этого, в его внешности вроде бы не было ничего монашеского. Сколько он ни пытался вывести Мелани из заблуждения, она по-прежнему считала монашеский опыт самым интересным фактом его биографии. Мелани поделилась этой дезинформацией с его издателем, который, в свою очередь, поделился ею со всем миром. Она попала в официальные документы, в газеты и в интернет, и не важно, сколько раз Мартин повторял журналистам: «Нет, на самом деле я никогда не был монахом, это ошибка», они продолжали строить на этом интервью: «Блейк испытывает неловкость при упоминании о его церковном прошлом». Или: «Алекс Блейк отказался от своего раннего религиозного призвания, но в нем все равно осталось что-то монашеское». И так далее в том же духе.
«Смерть на Черном острове» казалась Мартину еще более банальной и шаблонной, чем его прежние книги, из тех, что читаешь перед сном или на пляже, в больнице, поезде или самолете и тут же забываешь. С тех пор как он придумал Нину Райли, он писал по книге в год и просто-напросто выдохся. Они брели, едва переставляя ноги, автор и его блеклое творение, застряв в одной колее. Что, если им так и не удастся избавиться друг от друга и ему придется вечно писать о Нининых бессмысленных эскападах? Он превратится в старика, а ей по-прежнему будет двадцать два, и он выжмет всю жизнь до капли из них обоих.
– Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, – заявила Мелани, – это называется «разрабатывать золотую жилу», Мартин.
Или «выдаивать денежную корову досуха» – так сказал бы кто-нибудь другой, кому не полагались пятнадцать агентских процентов. Он подумывал, не пора ли сменить псевдоним или, еще лучше, воспользоваться своим собственным именем и написать что-нибудь другое, что-нибудь осмысленное и стоящее.
Отец Мартина был кадровым военным, старшиной роты, но сам Мартин избрал в жизни подчеркнуто невоинственный путь. Они с братом Кристофером учились в маленькой англиканской школе-интернате, где сыновья военных жили в спартанских условиях, лишь немногим лучше, чем в работном доме. Покинув это царство холодного душа и бега по пересеченной местности («Мы превращаем мальчиков в мужчин»), Мартин поступил в заурядный университет, где получил не менее заурядную степень по религиоведению, потому что это был единственный предмет, по которому он хорошо сдал экзамены, – спасибо неуклонной принудительной долбежке Библии, избавлявшей юношей в интернате от опасного свободного времени.
После университета он решил получить дополнительное педагогическое образование, чтобы дать себе время подумать, чем он «на самом деле» хотел бы заняться. Вообще-то, он не собирался становиться учителем, и уж конечно не учителем религиоведения, но так или иначе обнаружил, что к двадцати двум годам совершил в жизни полный круг и очутился в маленьком частном интернате в Озерном крае, где преподавал историю религии мальчишкам, провалившим вступительные экзамены в школы получше и интересовавшимся, судя по всему, исключительно регби и мастурбацией.
Хотя Мартин и считал, что родился «человеком средних лет», он был всего на четыре года старше самых старших своих учеников, и то, что он чему-то их учит, особенно религии, казалось смехотворным. Конечно, ученики не видели в нем молодого человека, для них он был нудным «старпером». Жестокие, грубые мальчишки с неплохими шансами вырасти в жестоких, грубых мужиков. По представлению Мартина, их готовили к тому, чтобы заполнить скамьи рядовых членов палаты общин от партии тори, и он считал своим долгом познакомить их с понятием нравственности, пока не стало слишком поздно, хотя, к сожалению, для большинства из этих ребят «поздно» уже наступило. Сам Мартин был атеистом, но допускал, что однажды обретет веру – пелена вдруг спадет, и сердце его откроется, – хотя, скорее всего, он обречен на вечный путь по дороге в Дамаск, дороге самой исхоженной.
Мартин старался, насколько позволяла программа, игнорировать христианство, делая основной упор на этику, сравнительную историю религий, философию, социологию (в общем, на все, кроме христианства). Если у какого-нибудь фашиствующего родителя, регбиста-англиканца, возникали претензии, он заявлял, что это его вклад в «развитие понимания и духовности». Он тратил уйму времени, рассказывая своим ученикам об основах буддизма: методом проб и ошибок он обнаружил, что это самый действенный способ влезть к ним в мозги.
Он думал: «Попреподаю немного, а потом поеду путешествовать, или выучусь на кого-нибудь другого, или найду работу поинтереснее, и начнется новая жизнь», но жизнь текла по-прежнему, и он чувствовал, нить ее разматывается в никуда и становится все тоньше, и сознавал, что если ничего не сделает, то останется там навсегда, с каждым годом становясь все старше своих учеников, пока не выйдет на пенсию и не умрет, проведя почти всю жизнь в интернате. Он знал, что должен действовать сам, он не из тех, с кем все просто случается. Его жизнь проживалась на нейтральной передаче: он никогда не ломал ни руки, ни ноги, его никогда не жалила пчела, он не бывал близок ни к любви, ни к смерти. Никогда не стремился к величию и получил в награду скромное существование.
Вот-вот стукнет сорок. Он был пассажиром экспресса, летящего навстречу смерти, – ему всегда служили утешением несколько лихорадочные метафоры, – когда записался на литературные курсы в рамках образовательной программы для сельской местности. Занятия проходили в сельском клубе, их вела сомнительной квалификации дама по имени Дороти, которая приезжала из Кендала. На счету Дороти была пара рассказов, опубликованных в каком-то северном литературном журнале, публичные чтения и семинары («книги в работе»), а также не имевшая успеха пьеса о женщинах в жизни Мильтона («Женщины Мильтона»), поставленная на эдинбургском «Фриндже». От одного упоминания об Эдинбурге Мартина охватила острая ностальгия по городу, которого он практически не знал. Его мать была уроженкой шотландской столицы, и он провел там три первых года своей жизни, когда его отец служил в Замке[11]. Однажды, подумал он, пока Дороти тараторила про форму и содержание и необходимость «найти собственный голос», – однажды он вернется в Эдинбург и будет там жить.
– И читать! – воскликнула она, широко раскинув руки, отчего ее необъятная бархатная накидка разошлась в стороны крыльями летучей мыши. – Читать все, что когда-либо было написано.
По классу прокатился мятежный ропоток – они пришли сюда учиться писать (по крайней мере некоторые из них), а не читать Дороти просто кипела энтузиазмом. Она красила губы красной помадой, носила длинные юбки и яркие шарфы и шали, которые закалывала большими оловянными или серебряными брошками, ботильоны на каблуке, черные чулки с ромбами и забавные шляпы из мятого бархата. Так было в начале осеннего семестра, пока Озерный край щеголял своим кричащим убранством, но, когда на смену пришла грязно-серая зимняя сырость, Дороти облачилась в менее театральные резиновые сапоги и флисовую куртку. В ее поведении театра тоже поубавилось. В начале семестра она часто упоминала своего «коллегу», писателя, который преподавал где-то литературу, но с приближением Рождества перестала о нем говорить, и красная помада сменилась грустно-бежевой, под тон ее кожи.
Они тоже обманули ее надежды, разношерстная кучка пенсионеров, фермерских жен и тех, кто хотел изменить свою жизнь, пока не стало слишком поздно. «Никогда не бывает слишком поздно!» – заявляла она с пылом проповедника, но большинство из них понимали, что иногда – бывает. В группе был один хмурый, довольно высокомерный тип, писавший – в хьюзовской манере[12] – о хищных птицах и мертвых овцах на склонах гор. Мартин решил, что он по сельскохозяйственной части – фермер там или егерь, – но тот оказался уволенным по сокращению геологом-нефтяником, который перебрался на Озера и замаскировался под местного. Была девушка, по виду студентка, которая презирала всех по-настоящему. Она красилась черной помадой (резковатый контраст с бежевыми губами Дороти) и писала о собственной смерти и о том, как ее кончина повлияет на окружающих. Еще была пара милых дамочек из Женского института[13] – те, казалось, вовсе ничего не хотели сочинять.
Дороти побуждала их изливать свои тревоги и страхи в исповедальных автобиографических эссе, терапевтических текстах о детстве, мечтах, депрессиях. Вместо этого они писали о погоде, отпусках, животных. Хмурый тип написал о сексе, и все как один вперили глаза в пол, пока он читал вслух, только Дороти слушала с вежливым интересом, склонив набок голову и растянув губы в поощрительной улыбке.
– Ладно, – сдалась она, – вот вам домашнее задание. Напишите о том, как ходили в поликлинику или лежали в больнице.
Мартин недоумевал, когда же они примутся за художественную прозу, но педагог в нем откликнулся на слова «домашнее задание», и он добросовестно его выполнил.
Дамы из Женского института разразились сентиментальными эссе о том, как навещали в больнице стариков и детей.






