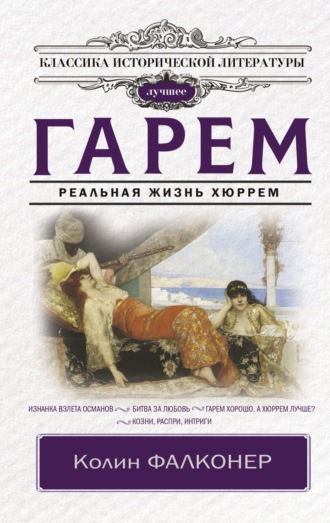
Колин Фалконер
Гарем. Реальная жизнь Хюррем
Глава 5
Гарем появился в стародавние времена, когда турки-османы были бродячими торговцами и кочевали по плоскогорьям Анатолии и Азербайджана. Саму идею гарема они позаимствовали у персов. После того как османы осели и создали султанат со столицей сначала в Бурсе, а затем в Стамбуле, гарем их султана постепенно превратился в самодостаточное учреждение со своим уставом, протоколами и системой управления.
Во главе этого замкнутого сообщества евнухов и дев стояла валиде-султан – мать верховного правителя. Правой рукой ее являлся капы-ага, главный белый евнух, совмещавший обязанности начальника стражи и посредника между валиде и самим султаном.
Любая из сотен наложниц могла дослужиться до высокого положения в администрации гарема и собственными трудами. Но путь к истинной власти был один-единственный – привлечь к себе внимание султана.
Если тот приглашал наложницу в свою постель, ей полагались собственные покои и жалованье. Она могла провести с господином жизни хоть одну ночь, хоть тысячу и одну. Всё это ей в зачет не шло до тех пор, пока она не родит султану сына. Родившая же сына наложница становилась кадын, одной из жен султана. Всего же их у султана могло быть четыре и не более. После появления четвертой кадын всякая беременность в гареме прерывалась абортом. Каждая из четырех жен затем оказывалась в шаге от истинной власти, но лишь одной из четырех суждено было в один прекрасный день стать следующей валиде-султан, если именно ее сын унаследует титул султана Османской империи.
Но Сулейман решительно порвал с традицией. Хотя ему было уже тридцать лет от роду, у него до сих пор была одна-единственная кадын и единственный сын. Слишком уж тонкая нить для столь буйного рода, как Османы, и мать Сулеймана тревожилась из-за воздержанности сына по части приумножения числа наследников.
Валиде приняла капы-агу в своей палате для аудиенций, необъятном вместилище мерцающего оникса и паутинистого мрамора.
Желтой молнией струился из-под высокого остекленного купола косой сноп солнечного света.
Она взирала на начальника стражи, сидя на кресле черного дерева с высокой спинкой и пурпурной парчовой обивкой.
– Хотел меня видеть, капы-ага?
Главный белый евнух облизал пересохшие губы. Он до глубокой ночи отрабатывал речь, но теперь слова вдруг покинули его, будто смытые нахлынувшим потоком черной паники.
– О, царица покрытых никабом головок… – выдавил он из себя официальное обращение.
– В чем дело? Нездоровится тебе?
– Познабливает.
– Так может, тебе лучше к аптекарю?
– Как скажете, Ваше Высочество.
– Тебя что-то тревожит?
– Прослышал о смуте среди девушек.
– Какой такой смуте? – нахмурилась валиде.
– Ну, кое-кто из них вроде как…
– Короче, капы-ага!
– Ревность их обуяла.
– Девы в гареме всегда ревнивы.
– Это не мимолетная зависть, а растущее недовольство. Думаю, надо бы нам обратить на это внимание.
Валиде пристально вперилась взглядом ему в лицо. Это еще больше нервировало.
– Давай дальше, – приказала она.
– Дело в Гюльбахар. Ее все любят, конечно…
– Кроме меня.
«Ну а то, – подумал капы-ага. – На это у меня и расчет».
– Часть девушек чувствуют себя несправедливо обиженными тем, что полностью обойдены вниманием Властелина своей жизни. Они делаются почти совсем неуправляемыми.
– Так это же твоя работа – твоя и кызляр-агасы – управлять ими.
– Конечно, госпожа моя. Только вот если бы мне было чем их приободрить на словах…
Валиде-султан приставила к щеке указательный палец с драгоценным перстнем.
– И чего бы им, по-твоему, хватило для ободрения?
– Того, верно, что Властелин жизни воспользуется ими в один прекрасный день, и день этот не за горами?
– Да кто ж его знает, что и когда он соизволит сделать или не сделать?!
Задел-таки он ее за живое. Если кто и был недоволен тем, что Сулейман такой однолюб и кроме Гюльбахар никого знать не хочет, так это его мать.
– Все они только и ждут дражайшей возможности сослужить своему господину службу, как только могут, – заверил он.
– Но есть ли среди них хоть кто-то сравнимый с Гюльбахар?
– Сами себя они все считают и вовсе несравненными, – ответил он с натянутой улыбкой.
Валиде перевела взгляд за окно, на сверкающие купола гарема. Перебрав большим пальцем левой руки остальные, она будто пересчитала в уме заветное число жен своего сына.
– Я переговорю с Властелином жизни, – сказала она. – Спасибо за то, что привлекли мое внимание к этому предмету.
Капы-аге хотелось крикнуть ей: «Постойте, я еще главного не сказал!». Но было поздно. Его отпустили. Он отвесил поклон и попятился к выходу.
– И последнее.
– Да, Ваше Высочество?
– Есть у тебя конкретная девушка на примете?
Он едва скрыл облегчение. А то ведь подумал было, что и не спросит.
– Есть одна достойная, по моему разумению, того, чтобы наш господин обратил на нее свой высочайший взор. Она смышлена и жива по своей природе, и он вполне может найти ее более чем приятной.
– Звать ее как?
– Хюррем, Ваше Высочество. Имя ей Хюррем.
Глава 6
Всякий раз по приходу в гарем в старом дворце Сулейман прежде всего посещал свою мать. Таково было требование.
Валиде-султан приняла сына на террасе. На ней был цветистый парчовый кафтан, а весеннее солнце искрилось на вычурных узорах из перламутра и гранатов в ее волосах. Ей же эти безделицы были милее настоящих драгоценных камней.
– Мать. – Сулейман поцеловал ей руку. Он присел на диван подле нее, а одна из служанок поспешила за шербетами и розовой водой. – Ты в порядке?
– Мерзну сильнее, чем раньше. В моем возрасте ждешь не дождешься весны.
– Да не так уж ты и стара.
– Я бабушка, – сказала она. – Правда, внук у меня один-единственный. Не впечатляет.
Сулейман, закинув голову, залился смехом:
– Только не это, сколько можно-то?
– Я опечалена твоим легкомысленным отношением к страхам старухи-матери. – Отняв руку, она взяла ею отборную фигу из стоящей перед нею чаши с фруктами. – А что покоритель Родоса? Куда тебя призывает Диван нанести следующий удар?
– В этом году военных барабанов ты больше не услышишь. Мои генералы пока зализывают раны. Пройдет какое-то время, прежде чем они изготовятся снова выпустить когти.
– Ну а ты?
– Мысль о еще одной кампании претит моей душе, – сказал он, тяжело вздохнув.
– Султан, отказывающийся идти на битву под знаменем Мухаммеда, надолго в султанах не задержится. Янычары за этим проследят.
Сулейману вспомнились слова отца, которыми тот напутствовал его, отправляя в Манису на первый в его жизни официальный пост губернатора: «Если турок слезает с седла ради того, чтобы рассесться на ковре, он обращается в ничтожество».
Ну так отец-то его в ту пору был воистину дик нравом.
– Не нужно напоминать мне о моем долге ни перед ними, ни перед Аллахом. Но на этот сезон я сыт войной по горло.
– Долг султана лежит не только на поле брани.
Так вот в чем дело: первые слова матери должны были его насторожить. Им снова предстоит разговор о Гюльбахар.
– У Османов есть наследник, – сказал он.
– А что, если он занеможет? У султана должно быть много сыновей.
– Чтобы они друг друга поубивали после моей кончины?
Сулейман снова вспомнил об отце. Ведь Селим-султан недаром получил в народе прозвище Грозный, а начал свое правление со свержения с помощью янычар собственного отца, которого затем еще и отравили по дороге к месту ссылки. Затем он порешил еще и двух своих братьев, и восемь племянников, дабы никто не оспаривал его власть. И даже трех других собственных сыновей он повелел казнить, дабы не обременять самого Сулеймана столь грязным делом, как учинение расправы над родными братьями. Или сомневался, не тонка ли у его наследника кишка на это?
– У тебя есть долг.
– Он включает множество обязанностей.
– И ни единой из них тебе не должно пренебрегать.
– Но я счастлив с Гюльбахар.
– Не о счастье речь, а о наследниках по линии Османов.
Сулейман отвернулся и уставился на панораму минаретов и куполов поверх нагромождения деревянных домов над Золотым Рогом.
– На этот миг в доме Османов бьются лишь два сердца, – сказала валиде. – Этого мало.
– Чего ты от меня хочешь?
– Я не прошу тебя отказываться от Гюльбахар. Естественно, у тебя должна быть любимая жена. Но в гареме много девушек. Кто-то из них вполне может послужить усладой для твоего взора.
– А я, значит, должен заступить на роль быка-производителя ради дома Османов?
– Грубо сказано, тем более перед пожилой-то женщиной, но да, именно в этом твой долг. Другое дело, если бы Гюльбахар родила тебе больше сыновей. Но она ведь уже девять лет твоя кадын…
– Мне с нею хорошо.
– А с другой разве не может быть хорошо?
Сулейман вскочил с дивана. Одна из материных служанок робко состроила ему подведенные сурьмой глазки. Его вдруг обуяло нетерпение поскорее покончить с этим разговором. Что с ним действительно не так? Ведь большинству мужчин исполнение такого долга было бы не в тягость, а в радость. Или, может, это он так доказывает всем и самому себе, что не такой, как все те грубые животные, что восседали на троне до него?
– Сделаю, как ты просишь, – сказал он и поцеловал матери руку. «Всех их покрою по очереди, если тебе так хочется, – подумал он. – Пусть дворец ломится от колыбелей с моими детьми».
А потом вернусь к своей Гюльбахар.
Кяхья вырвала из рук Мейлиссы подушку, швырнула ее на пол и принялась топтать.
– Это что такое?! Ты меня нарочно доводишь?
Мейлисса жалобно покачала головой.
– Ты только погляди на эти стежки! Я бы такое крестьянке в поле под задницу не дала подложить – не то что валиде-султан под голову!
– Простите.
– Что вообще с тобою? В последние недели ты сделалась просто несносной! – С этим словами кяхья больно ущипнула Мейлиссу за щеку. Девушка взвыла, старухе это понравилось, и она ущипнула ее и за другую.
Хюррем вскочила со своей рабочей лавки и выхватила шелковую подушку из-под ног у кяхьи.
– Вовсе не плохо. Оставьте ее в покое.
– Не сидится смирно, когда перья летят, дорогуша? – переключила свое внимание на нее женщина.
– Ей нездоровится.
– Ну так в лазарет ее тогда! А у тебя, смотрю, все стежки-то ровные да гладкие, вот и выполнишь всю работу и за себя, и за нее.
Хюррем швырнула старшей в лицо свою вышивку.
Кяхья замахнулась на нее, но на этот раз Хюррем оказалась проворнее и едва не сбила старуху с ног мощной оплеухой. За звоном пощечины последовала гробовая тишина.
Лицо кяхьи медленно расплылось в победной улыбке.
– А вот за это тебе точно причитается бастинадо, – шепнула она. – Капы-ага тебе своими батогами подошвы-то до костей обдерет. Теперь у нас весна на дворе. Почитай за счастье, если к зиме снова ходить начнешь.
На пороге появилась пара стражей. Один вошел и взял Хюррем за руку со словами:
– Тебе со мною. И шитье свое прихвати.
Хюррем была ошеломлена. Разве могла стража прийти за нею так скоро? Разве что караулила за дверью… Она сделала, что было велено: собрала свои иглы, пакетик с наждачным порошком и отрез зеленого шелка, который вышивала.
– Куда это вы ее уводите? – спросила кяхья.
– Куда капы-ага приказал, туда и уводим, – ответил стражник и увлек Хюррем за собою на выход.
– Ее же нужно в темницу, на бастинадо! – кричала им вслед кяхья.
Хюррем же позволила стражам побыстрее увести ее прочь по коридорам. Ведь если за нею послал сам капы-ага, это могло означать лишь одно – и отнюдь не бастинадо.
Глава 7
Над вымощенным миндалевидными булыжниками двором владений валиде господствовал мраморный фонтан с вычурной резьбой. Со всех сторон внутрь двора выходили окна.
Стражники спешно вывели Хюррем на середину двора и оставили там.
– Капы-ага велел тебе ждать. И петь не забывай.
– Петь? Зачем? Что происходит-то?
Но мужчины поспешили удалиться, не обронив более ни слова, и Хюррем лишь проводила их взглядом.
Наверно, капы-ага устроил ей смотрины у матери султана, подумала она.
Найдя у фонтана место, где камни попрохладнее, девушка уселась там по-турецки, разложила на коленях прихваченный с собою из мастерской платок, достала иголку и принялась за вышивание. А напевать при этом начала любовную песню, которой ее научила мать, – от лица парня, придавленного павшей лошадью в заснеженной степи. Замерзая и чуя близкий конец, юноша рассказывает ветру, как сильно любит одну девушку и как не смог набраться храбрости ей в этом признаться. Вот он и просит ветер донести его слова через равнину до любимой, чтобы она всегда помнила о нём. Глупая сентиментальная песенка, думала Хюррем, но ей всегда была по душе сама мелодия.
Она даже не заметила высокую стройную мужскую фигуру в белом тюрбане, до тех пор пока тень от нее не легла на шитье у нее на коленях.
– Первый закон гарема – тишина.
Вздрогнув, она подняла глаза. Мужчина стоял со стороны солнца, и девушке пришлось защищать глаза ладонью от слепящих лучей, чтобы хоть как-то его рассмотреть. Судя по голосу, не евнух, а по светлому цвету кожи – никак не нубиец. Оставался единственный мужчина, который волен был здесь разгуливать.
– Так может, нам и всем здешним соловьям глотки перерезать? А потом, опять же, пчелы. С ними же тоже нужно что-то делать. А то всё гудят и гудят без умолку. Или для них правила не писаны? – Слова эти сорвались у нее с языка прежде, чем она успела себя одернуть.
Мужчина смерил ее долгим взглядом. Тут только Хюррем вспомнила, что, прежде чем открывать рот, она должна была склонить голову в земном поклоне в знак повиновения. Она отложила вышивку и встала на колени. Она подумала, что следовало бы сразу попросить у султана милостивого прощения за нарушение тишины, но теперь как-то поздновато.
Позади Сулеймана стоял, обливаясь потом и обмахиваясь белым шелковым платком, старый кызляр-ага, главный черный евнух. Выглядел он так, будто его вот-вот хватит солнечный удар.
– Ты хоть знаешь, кто я? – спросил Сулейман.
– Властелин жизни.
– Что ты пела?
– Песню, которую узнала от матери, мой повелитель. Она о любви. И о неловком юноше, придавленном лошадью.
– Он что, лошади ее пел?
– Едва ли. Осмелюсь заметить, лошадь к тому времени лишилась всякого очарования.
– Как твое имя?
– Тут меня прозвали Хюррем, мой господин.
– Хюррем? Смешливая? Кто тебя так нарек?
– Те, кто меня сюда привез. Говорят, что якобы за мою вечную улыбчивость.
– А почему ты тогда все улыбалась-то?
– Да чтобы им слез моих видно не было.
Сулейман нахмурился. Своим ответом она его застала врасплох.
– Сама-то ты откуда родом, Хюррем?
Девушка снова глянула на него снизу вверх. Вот он, тот момент, на который всё поставлено, а она и думать не может ни о чем, кроме боли в коленях. Долго он еще, интересно, продержит ее перед собою коленопреклоненной на этой брусчатке?
– Я татарка, – ответила Хюррем. – Крымская.
– У вас, татар, у всех ли волосы столь дивного цвета?
– Нет, мой господин. В нашем клане я одна была такими обременена.
– Обременена? По-моему, так нет. Они у тебя весьма красивые. – Мужчина чуть погладил ее по волосам и пощупал одну прядку пальцами, будто оценивая качество и прочность ткани на базаре. – Прямо как шлифованное золото. Правда, Али?
– Красотища, мой господин, – согласно пробормотал кызляр-агасы.
– Ну, вставай, Хюррем.
Наконец-то. Она поднялась на ноги. Хюррем знала, что тут ей полагается потупить взор, и даже была этому обучена, но ее природное любопытство взяло своё. Так вот он каков – Властелин жизни, Хозяин мужских вый, Владыка семи миров… Привлекательный, как ей показалось, но не особо красивый и тем более не «великолепный», как его величают. Впрочем, намек на щетинистую бороду вкупе с орлиным носом все же придавал оттенок величия его лицу. Глаза серые…
Ими он и осматривал ее теперь с головы до пят, прямо как воины султана в тот день, когда отец Хюррем ее им запродал. Недовольства увиденным мужчина внешне вроде бы и не выказал, вот только вздохнул по завершении смотрин как-то долго и тяжеловато.
– Что вышиваешь-то? – спросил он ее.
– Платок, мой господин.
– Дай взглянуть. – Девушка протянула платок. – Тонкая работа. Ты великая искусница. Можно мне его взять?
– Он не закончен.
– Подготовь его мне сегодня же к ночи, – сказал он и бережно опустил платок ей на левое плечо. Хюррем успела заметить, что кызляр-ага от неожиданности даже выпучил глаза. Платок на левом плече означал, что отныне она гёзде – приглянувшаяся, – и Султан желает с ней спать. Ей говорили, что ни одна девушка из гарема такой чести не удостаивалась со времени его восшествия на престол.
Сулейман удалился, не произнеся более ни слова. Кызляр-агасы поспешил за ним.
Хюррем проводила их взглядом. «Не в бровь, а в глаз», подумалось ей. Теперь нужно просто так и оставаться зеницей его ока.
Сулейман быстро шествовал вдоль аркады. Он испытывал разом и злость, и некое облегчение. После прочитанной ему матерью тем утром нотации он понял, что выбора у него нет. Попросил капы-агу подогнать ему подходящую девушку. Выбранная им для него Хюррем ему глянулась своим эльфийским обликом и даже немного заинтриговала. В ней чувствовалось присутствие духа, в отличие от большинства гаремных наложниц – невыносимо пустых и тщеславных.
А теперь, если она от него забеременеет, мать его этим удовлетворится, а сам он сможет со спокойным сердцем вернуться к Гюльхабар и продолжить жить с нею в мире и счастии.
Глава 8
Полумесяц дрожал в остывающем ночном небе. Сулейман и Ибрагим отужинали осетриной, омаром и меч-рыбой утреннего улова из щедрых вод Босфора под шербет на меду с фиалками. Завершили же трапезу они распитием бутылки доброго кипрского вина.
Хотя вино и было запрещено Кораном, прегрешение это было ничтожно малым на фоне неимоверного удовольствия, которое оно приносило Сулейману, тем более что во всех прочих отношениях он неукоснительно следовал букве закона и предписаниям дворцового протокола.
Едва он пробуждался, как тут же прибывали главные мастера по уходу за его ногтями и волосами. Затем главный смотритель его гардероба выкладывал перед ним одеяния на предстоящий день – всенепременно ароматизированные алоэ. Затем главный тюрбанщик обматывал феску на его голове причудливыми извивами белого льняного полотна.
На рассвете султан уже спешил в Диван – кроме как по пятницам, когда выезжал на намаз в Айя-Софию вместе со всем своим двором, включая великого визиря, главного охотничьего, главного блюстителя соловьев, главного ключника и сорок сотен янычар.
После полудня он, согласно обычаю, некоторое время дремал вне зависимости от того, утомился он или нет. Всё это время султана бдительно охраняли пятеро стражников. Ну а затем он возвращался в Диван – к нескончаемым государственным делам.
Бокал вина на этом фоне выглядел чуть ли не бунтом.
С Ибрагимом же был связан главный в его жизни скандал. Во время осады они спали в одном павильоне и частенько менялись одеждами. Сулейман прекрасно знал о том, что вывел весь двор из себя столь показным вниманием к презренному рабу. Но ведь для Сулеймана тогда Ибрагим был не только и не столько рабом, сколько исповедником и советником. Если кто и подставил ему плечо, чтобы помочь вынести на себе эту ношу, то уж никак не Гюльбахар, не валиде и даже не великий визирь. Исключительно Ибрагим.
После вина Ибрагим уселся, скрестив ноги, под окном и ударил по струнам своей виолы. Хотя они и были ровесниками, Сулейман ощущал себя многим старше товарища. Точнее, более усталым от множества забот.
Ибрагим родился в деревне на западном побережье Греции, откуда работорговцы похитили его и вывезли на продажу на один из невольничьих рынков Стамбула. Купившая его там вдова из Манисы воспитала из него мусульманина, а обнаружив в нем способности к музыке и языкам, устроила ему хорошее образование. Так он научился игре на виоле и овладел персидским, турецким, греческим и итальянским.
Позже она продала его с большой прибылью в слуги Сулейману, когда тот прибыл в Манису новым губернатором провинции Каффа.
Став в 1520 году султаном, Сулейман взял Ибрагима с собою в Порту и поставил главным над челядью. И совета у него он искал много чаще, чем у Пири-паши, престарелого великого визиря своего. А после Родоса султан и вовсе произвел Ибрагима в советники, сделав вторым по рангу после великого визиря.
«Вот поэтому-то мы, османы, и пришли к верховенству в мире, – думал Сулейман. – Даже рабу из христиан у нас открыта возможность возвыситься по заслугам и сделаться выдающимся лицом в величайшей из исламских империй мира всех времен».
– Что за печаль, мой господин? – сказал Ибрагим, откладывая виолу.
– А тебя, Ибрагим, сожаления никогда не гложут?
– Сожаления? Оглядись вокруг. Хорошая еда. Доброе вино. Не дом, а дворец. О чем тут жалеть-то?
– А тебе никогда не хотелось быть кем-то иным? Ты никогда не задумывался, кем бы ты мог стать, не случись пиратам в тот день напасть на вашу деревню и увести тебя в рабство?
– Знаю, что случилось бы: ел бы одну рыбу на завтрак и ужин да латал бы рыбацкие сети целыми днями. А я вместо этого обитаю во дворце, пью лучшее кипрское вино и пребываю в милости у величайшего на земле императора.
– Зато жизнь там была бы куда как проще.
– Моя жизнь там гроша ломаного не стоила бы.
– Нравится тебе всё это, как я посмотрю? И на войну тебе ходить в радость, и бесконечное политиканство в Диване услада.
– Мы в самом центре мира, мой господин. Мы пишем историю.
– Мы служим исламу.
– Ну да, и это тоже. – Он снова взялся за виолу. – Мы – величайшие слуги ислама.
«Да нет, ты всё это делаешь просто ради дела, – подумал Сулейман. – Поэтому-то я тебя и люблю и так тебе завидую. Мне бы хотелось побольше походить на тебя».
– Мне порою думается, что лучше бы ты был султаном, а я сыном греческого рыбака, – сказал он. – Так нам жилось бы счастливее. – Он поднялся на ноги.
– Идем спать, мой господин?
– Ты можешь ложиться, Ибрагим. А мне нужно выполнить еще один долг.
Хюррем препроводили к хранительнице бань на омовение и массаж. Там же ей покрасили ногти, надушили волосы жасмином, умастили кожу хной, чтобы не потела, и подвели глаза черной сурьмой.
Затем рабыню отвели к хозяйке одеяний, и та обрядила девушку в розовую сорочку и лиловый бархатный кафтан с халатом из серебристо-абрикосовой парчи. Хозяйка драгоценностей принесла ей колье с брильянтами, тяжелое, как железный ошейник, нить маслянистых арабских жемчужин для вплетения в волосы и пару увесистых серег с рубинами, достававших ей чуть ли не до плеч.
Но утром всё это нужно будет сдать обратно, объяснила она.
Гедычлы поднесла ей зеркало, чтобы Хюррем как следует себя в нем осмотрела. Она и ее отражение взирали друг на друга с выражением, близким к полному недоумению.
– Жуть какая-то.
Хозяйка одеяний положила ей руки на бедра.
– Так положено.
– Так и положу мужа на пол кататься со смеху.
– Ты хоть понимаешь, сколь великая честь тебе выпала? Мне ли не знать, каково это, я ведь и сама была некогда зеницей ока прежнего султана Баязида. Давай расскажу, чем и как его лучше всего ублажить…
– Сама знаю, – ответила Хюррем. – Мне надо забеременеть.


