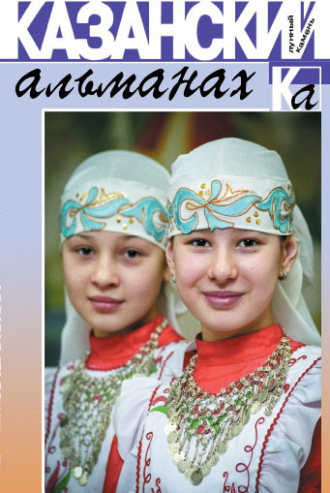
Коллектив авторов
Казанский альманах 2020. Лунный камень
«Я ловила бабочку – рукой…»
Я ловила бабочку – рукой.
Вдруг и потерялась за рекой…
Не отмоет чистая река —
вся пропахла крыльями рука.
Я ловила бабочку сачком.
И вспорола ноженьку сучком.
Нет курка у доброго сачка.
Милосердья нет и у сучка.
В дом приду и упаду ничком.
Пореву, усну – и всё молчком.
Нет подушки у того ничка,
как замочка у того молчка.
6. 05. 2019, Звенигово
Сюжет
Из чего творила тесто?
Чей рецепт старинный?
Было в тесной кадке место,
а месила – глину.
Чтобы вышел человечек,
словно на картинке:
палка, палка, огуречик,
новые ботинки.
Глина высохла, и вот
человечек бойкий
едет задом наперёд
в расписной ковбойке.
Подкрути ему усы,
Накорми малиной.
Не забудь надеть часы.
Обласкай, как сына.
Пусть гордится он собой
и стихи читает.
Дует ветер голубой,
кружит птичья стая.
Из ребра ему создай…
нету в глине рёбер!
Будет он шалтай-болтай
на большой дороге.
15. 06. 2019, Казань
Непогода
Вдруг стемнело, как будто нагрянули черти!
Это близость грозы или ливня наотмашь.
Как густа темнота – почерпни и намажь,
как гуашь на картину о жизни и смерти.
А вернее, о страхе одной пред другою.
Неизвестность терзает зелёные кроны.
Под могучей и ветреной чьей-то рукою
так деревьев отчаянны вскрики и стоны!
Не сбежать, не укрыться от бешеной силы.
Не спасти, не унять молодые побеги.
В этот час черноты и сближенья с могилой,
отведите её, опустите ей веки!
Пусть придёт, когда солнце сияет на небе,
и не страшно моим колокольчикам в поле.
Пусть внезапною будет, нечёткой, как небыль.
(Я скользну незаметно сквозь дырку в подоле
износившемся, выцветшем, словно желанье,
что за жизнь не сбылось, а теперь уж не надо…)
Пусть придёт не как смерть – как посланье
из небесного града.
29. 06. 2019, Звенигово

Ахат Мушинский
Запах анисовых яблок

Что ты будешь делать, опять приснилась!..
Он скинул с себя простынку, поднялся с постели и прошлёпал босиком на лоджию. Море вдали сливалось с небом – не разглядеть линию горизонта, то ли море уходит в бесконечную высоту, то ли без единого облачка небеса опустились по самые кипарисы владений пансионата. Утреннего солнца пока не видно, оно только-только выглянуло из-за дальних гор где-то сзади, со стороны парадного входа здания.
Третье его утро в Пицунде свидетельствовало: всё-то осталось тут неизменным, особенно этот ионизированный, пропитанный морскими солями, медузами, крабами воздух. Времена, конечно, меняются – исчезли в Абхазии дома творчества как таковые, превратившиеся в пансионаты, обветшали дороги, мосты, строения… Но море, но воздух, которым не надышаться, всё те же.
Сюда раньше Булат приезжал по путёвке писательского союза, почти бесплатно, не считая дороги. И Дом творчества встречал его с распростёртыми объятиями. А теперь вот пансионат…
Ну и что! Теперь и курортный отель по карману. Главное, здесь, на открытом воздухе, над бескрайним морским простором, в бархатный сезон пишется, как кое-кому в Болдинскую осень.
Сравнение, конечно, несколько претенциозное. Однако поэтический дар жильца гостиничного номера четырнадцать на его родине весьма почитаем. Кстати, над дверью комнаты Пушкина в Царскосельском лицее красовалась та же цифра 14. Да и сейчас красуется. Побывал Булат там недавно. И больше на этот раз принюхивался, чем рассматривал, как когда-то много лет назад, но ничего нового из пушкинских времён не вынюхал. Дело в том, что из всех пяти чувств у Булата наиболее развито обоняние. В его памяти – и запах детства, и запах армии, и первой любви, и любви последней и, как оказывается из очередного сна, – нескончаемой.
Мария… Они встретились пятнадцать лет назад в университете, куда его пригласили прочитать курс лекций по стихосложению и поэтической стилистике. И ничего удивительного, что ей, старшему преподавателю, специалисту по русской литературе первой половины XIX века, молодой, можно сказать, юной, но уже защитившей кандидатскую, на которую заглядывались студенты всех курсов, где она читала свои лекции, захотелось поприсутствовать на первом же часе литератора-практика.
Без особых предисловий новоиспечённый лектор начал своё университетское выступление с понятия рифмы, которую в оны годы называли краесогласием и которая является, наряду с размером стиха, важнейшей связующей стихотворения в русской поэзии, в отличие, скажем, от английской, французской, немецкой… Он говорил, что отглагольные рифмы – это позапрошлый век.
– Вот у Пушкина:
Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идёт она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить…
– В те времена это было нормально, – продолжал Булат. – Да и сейчас тоже, учитывая, что перед нами сам Пушкин и что это «дела давно минувших дней». Но поэзия, как, скажем, и наука, и техника, и медицина, и спорт и многое другое, движется вперёд, совершенствуется. Коэффициент полезного действия паровоза XIX века был пять процентов, а КПД современных локомотивов доходит до девяноста. Так и в поэзии. Сравните рифмы: гонит – клонит, грустить – ступить… и к примеру, у Маяковского: носки подарены – наскипидаренный. Качество рифмы со временем, несомненно, выросло, как и требования к ней…
Молодой кандидат наук слушала с интересом, поскольку Пушкин в её лекционной программе был главным действующим лицом. Она боготворила его. Мало сказать, знала всего «Евгения Онегина» наизусть. После лекции, возвращаясь вдвоём по нескончаемым коридорам университета на кафедру, спросила с нотками обиды в голосе:
– Что ж так жёстко с Пушкиным?
– Совершенно не с ним и не жёстко, – ответил Булат. – Простая диалектика. Всё течёт и всё, скажем так, усложняется в нашем мире.
– Про паровоз – это убедительно, Булат Касимович, – улыбнулась она одними глазами цвета спелого ореха. Не то под стёклами очков, не то сам по себе взгляд её был необыкновенно живым и в то же время сосредоточен на какой-то своей неотступной мысли.
– Можно просто Булат, – заметил он.
– У нас так не принято… в университете.
– А у нас отчества не в ходу.
– Да, я знакома с особенностями вашего круга, однако мы находимся в другом месте.
– Я всё понимаю, Марья Иванна, но мы же не на кафедре сейчас.
– Раз так… – Кандидат наук поправила выбившуюся из-за уха каштановую прядку. – И меня тоже можно… без отчества.
– Прекрасно! – согласился поэт, временно здесь, в университете, превратившийся в учёного червя.
В бесконечном коридоре было многолюдно. Он искусно лавировал между летящими навстречу студентами, порой касаясь локтя напарницы, чтобы предупредить о встречном метеорите.
Она взглядывала на него не то с благодарностью, не то с интересом и возвращалась к начатой теме:
– В поступательном движении поэзии всё-таки формальная часть опережает содержательную. Хотя, может, я застряла в девятнадцатом веке?
Булат подумал, что она не похожа на синий чулок, впрочем, нечто такое проглядывало в её облике – на прямой пробор причёска с закрученной в «воронье гнездо» косой на затылке, очки, ниспадающие на кончик носа, форменный пиджачок стопроцентной училки с торчащим из нагрудного кармашка карандашом, юбка ниже колен, но… Но этот аромат анисовых яблок! Он исходил от неё, как от яблонь в саду его детства, волнами, лёгкими, еле осязаемыми порывами. Булат отвёл от собеседницы очередной метеорит и сказал:
– А приходите в пятницу на поэтический вечер в Дом издательств, отвлечётесь от позапрошлого века. Там будут современные поэты из Москвы, Питера, Таллина…
– И вы тоже свои стихи будете читать?
– Прочту парочку.
– Интересно! Всё-таки современную поэзию я знаю меньше, чем классику.
– Вот и совместим приятное с полезным! – сказал Булат, пропуская университетскую даму в дверь кафедры языка и литературы. В помещении двенадцатого этажа с окнами на главное многоколонное здание университета они оказались не одни, и разговор их естественным образом прервался.
* * *
На международном поэтическом вечере Булат по очерёдности шёл за своим другом из Москвы Сашей Ткачёвым. После первых произнесённых строф он увидел Марию. Она сидела совсем рядом, во втором ряду, в том же форменном пиджачке, с той же строгой причёской, только без очков. Булат, не отводя от неё взгляда и даже разглядев её ореховые, чуть раскосые глаза, не защищённые оптическими стёклами, продолжал читать:
Хватит быть нам самими собой,
заскорузлую шкуру к чертям!
Поиграем с банальной судьбой —
Не породы слепых мы котят.
Это просто, поверь мне, мой друг,
это славно, любимых любя,
заступить за очерченный круг,
взять и выпрыгнуть вдруг из себя.
– Как это: хватит быть нам самими собой? – спрашивала она, когда они вышли из Дома издательств в сумерки осеннего дня. – Всюду утверждают, что, наоборот, надо, во что бы то ни стало, самим собой оставаться, не быть флюгером и хамелеоном.
– Объяснять стихи?.. – Булат недоумённо пожал плечами.
– Прости, пожалуйста! Иногда вдруг попадаешь в наивный капкан – у прозаика, прочитав его рассказ, допытываешься: на самом ли деле это было? Или: откуда ты это взял? У поэта… Но тут, как у меня сегодня… Знала ведь, такое не спрашивают, ан нет, чёрт попутал.
Она не заметила, как перешла с ним на «ты». Булат тоже не заметил, хотя для него это было естественно. В их кругу не принято «выкать».
Оказалось, они живут в одной стороне, недалеко от Дома издательств, буквально в двадцати минутах ходьбы. Это для неё. Для него же – минут на десять дальше.
Поэтический вечер ей понравился. Она призналась, что раньше с его творчеством по большому счёту знакома не была. Разве что пару подборок в журналах видела. Оценку им не дала, но вот два сегодняшних стихотворения помянула.
Булата её цепкая память удивила – она цитировала целыми кусками, оценивала их, правда со своей колокольни. Он не вмешивался, не оправдывался и, упаси боже, не разъяснял, лишь хмыкал, кивал, не лез в бутылку, как бывало с иными собеседниками. В общем-то, вечер удался. Он избежал вселенской пьянки с закадычными коллегами, мило пообщался с «академиком в чепце».
Проводив её до подъезда, Булат прибавил шагу, задышал полной грудью, будто вагон угля разгрузил. Пахло вечерними туманами, палой листвой и новыми стихами.

* * *
Месяц лекций показался Булату вечностью. Во-первых, надо было ни свет ни заря вставать, во-вторых, не получилось у него контакта со студентами – то ли слишком в дебри забредал со своими амфибрахиями и анапестами, то ли просто скучно вещал, то и дело впадая в ступор от корявой речи будущих филологов… Одна отрада – Машенька. (Да, с некоторых пор Мария превратилась в Машеньку.) Она понимала его, выслушивала, по делу вставляла слово. Общение своё они продолжали и вне стен университета, благо что рядом уютный сквер, недорогие кафешки…
Раз за чашкой кофе в пиццерии он спросил:
– Раньше я тебя в очках видел, а теперь… Поправилось зрение?
Она смутилась, заморгала:
– Нет, не поправилось. Просто, мне кажется, в очках… – не то. Меня и в школе четырёхмоторной дразнили.
– Удивительно! А мне всю жизнь девочки-очкарики нравились.
На другой день он застал её на кафедре в одиночестве. Она сидела над своими бумагами, поправляя на курносом носике лёгкие, в тонкой оправе очки. Он подсел к ней и попросился на её лекцию. Она в стеснении опустила глаза, подняла:
– Хорошо… Я ведь у тебя была.
Потом он заметил, что это движение её глаз за стёклами очков стало повторяться. То поднимет на него свои орешки, то опустит, то опять поднимет и так пристально посмотрит – аж не по себе поэту становилось.
На лекции она была совсем другой. Одно слово: Пушкин. Её любимая тема. К тому же – «Евгений Онегин». Разбирали письмо Татьяны. Вдохновенная, она ходила меж рядов, излагая свою мысль, жестикулируя, цитируя:
Ты чуть вошёл, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он…
Она взглянула на Булата, на секунду замерла, коснулась дужки очков и, поспешно переведя взор на аудиторию, продолжила движение. Что это? – забыла текст, перебила себя неожиданной мыслью? Нет, тут всё ясно было и очевидно…
Позднее её блуждающий взгляд при замирании на нём стал превращаться в умоляющий. Такого нескрываемого чувства к себе, такого преданного взгляда Булат никогда в своей жизни не испытывал.
Однажды вечером, когда на кафедре никого не осталось, и эти красноречивые взгляды повторились, он приподнял её со стула и притянул к себе. Это был их первый поцелуй.
Они стали встречаться в его однокомнатной квартире, увешанной живописными картинами друзей-художников, забитой книгами, журналами, заваленной блокнотами, рукописями, покоившимися всюду – на столах, полках, широкой спинке дивана, вокруг ноутбука и даже на полу.
При первой встрече у него дома она с нескрываем любопытством огляделась, взяла с полки том с золочёным профилем Пушкина и прочла вслух посвящение на обратной стороне обложки:
– Победителю заводского конкурса «Знаешь ли ты Пушкина?» – Подняла глаза: – Ты что, раньше на заводе работал?
– Довелось…
Это был трёхтомник, которым Булат как-то особо дорожил, который вдоль и поперёк испещрил карандашными пометками, нашпиговал закудрявившимися со временем закладками.
Она раскрыла книгу наугад:
Нас мало избранных,
счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой…
– А разве не так? – прервал Булат, отбирая Пушкина.
– Так, так… – промолвила она, снимая очки.
Без очков её глаза увеличивались чуть ли не вдвое. И каждый раз они не переставали удивлять его и завораживать. Быть может, потому-то очкарики и нравились ему – человек, сняв очки, будто обнажается. И не только физически. Он становится открыт, беззащитен и прозрачен до глубины души. И Машенька без этой стеклянной, деформирующей взгляд преграды была вся как на ладони.
Не девственную, но и, в общем-то, не сильно избалованную душу поэта ничто в ту минуту не сдерживало. Он потянулся к ней всем своим естеством. Но сказать себе, что это была любовь, не мог. Она проросла в нём не сразу. А всё-таки, что им в тот день двигало – инстинкт, тщеславие, отзывчивость? Или всё само собою произошло, просто шагнул навстречу?
В постели рядом с ней, после бурной и недолгой близости, он вдруг заснул, как младенец, сладко и безмятежно.
Проснулся оттого, что кто-то теребил его чубчик. «Кто-то»… Надо же так в небытие провалиться!
– Кажется, я уснул ненароком?!
– И довольно крепко, – промолвила Машенька. Глаза её за стёклами очков привычно уменьшились. Они были добрыми, любящими и спокойными. Что-то большое и значимое уже случилось, и все волнения были позади.
– От тебя пахнет анисовыми яблоками, – сказал Булат, поймав губами каштан её локона.
– А от тебя веет морем, – ответила она.
– Наверное, оттого что я там бываю почти каждое лето. – Взгляд его зацепился за крошечную родинку на её щеке, которую раньше не замечал. Булат разглядывал новую для себя Машеньку и чувствовал на себе тепло её дыхания. – А знаешь, твоим именем Пушкин назвал почти всех своих героинь и дочку в придачу?
– Знаю, конечно.
За окнами смеркалось. Поздняя осень. В окно, будто предупреждая о чём-то, стукнула ветка оголённого дерева.
– Мне пора, – сказала Машенька.
– Оставайся… – откликнулся он.
– Нельзя, мама будет волноваться. А обманывать я не привыкла.
– Утром вместе в университет пойдём.
– Представляешь себе, как это мы с тобой под ручку туда заявимся?!
– А что такого?
– Да ничего. Просто я к этому ещё не готова.
В окно опять стукнула ветка.
Да, первая близость с ней осталась в его сознании какой-то вспышкой. Не сказать, что очень яркой, но, как оказалось, под толщей времени упорно не потухавшей. Однако в тот осенний день он не придал событию особого значения.
Миновали лекции в университете, прошёл незаметно год. На каком же по счёту свидании он объяснился ей в любви? Впрочем, это не так важно. Важно, что объяснился. А она – нет. Ни слова о своих чувствах… Ни на первом свидании, ни на последнем, хотя было понятно, что чувства эти у неё были – и какие! Она ходила, как заворожённая. Это было видно невооружённым глазом.
Но однажды их застала его жена, проживавшая в другой квартире. Устроила скандал. Маша, и слова не промолвив, ушла. И всё. Как отрезало.
Поначалу он пытался объясниться. Сказать, что давно не живёт с женой, что супругами они числятся лишь в документах. Бесполезно. Она избегала встреч. Вскоре и из университета уволилась. Телефонные звонки оставались безответными, в подъезде дома её давно не видели. Был человек, и нет человека. Только в бесконечных снах его она продолжала жить, как ни в чём не бывало. Порой он просыпался: сон ли это? да сон! Переворачивался на другой бок, и прерванное видение продолжалось, как многосерийный фильм.
Однако тут, ранним черноморским утром, кроме видений и голосов появился запах, будто вновь повеяло на него ароматом анисовых яблок, и именно это подкинуло его в постели.
* * *
Вода в Чёрном море синяя-синяя, вдали она посветлее, вблизи, у пирса, – с зеленоватыми просветами. Булат закинул удочку, присел на швартовный гриб причала.
Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей.
Но здесь природа вечнозелёная. Ни дуновения календарной осени. Пахло безмятежной вечностью. Только безлюдное побережье выдавало время года. Или курортные потребности здесь изменились?
На пирсе, однако, он был не один. Тучный мужчина в белоснежной бейсболке с козырьком назад и шортах на ремешке под животом всё забрасывал и забрасывал спиннинг. Уж высоко поднялось солнце, но оба упорствовали.
– Не клюёт, – наконец обречённо заметил незнакомец.
– Да, не клюёт, – вздохнул Булат.
– Надо к самому рассвету подходить. Знал ведь, но всё равно припёрся.
– Может, здесь вообще рыбы нет?
– Не скажите… Вчера окунь шёл, точно угорелый.
Необязательно разговорились, как это часто бывает в поездах дальнего следования или, как теперь, на неудачной рыбалке. Выяснилось, что они из одного города. А вдали от дома любой земляк – человек родной. Кроме того, они оказались одногодками, и детство их прошло у перерезавшей городской район железной дороги, только по разные её стороны. И две враждебные ватаги тех лет осыпали друг друга из-за железной линии фронта голышом, как шрапнелью, шли в атаку с громким «ура!». Да, было время!..
– Мне разок в лоб попали, – показывал шрам под чёлкой Булат. – Теперь это смешно, а тогда «скорую» вызывали.
Земляки ещё немного потоптались на пирсе и, не прерывая воспоминаний, пошли в прибрежный бар.
Выпили по кружке пива. Его звали Кирилл. Заказали ещё…
– Знал бы – рыбы взял с собой.
– Можно купить.
– Это всё не то-о… – протянул новый знакомый. – Вот у меня дома кефалёк сушится! Это – да! И окунь морской сковородки дожидается. А пойдём ко мне. Я тут недалеко угол снимаю в одном домике. Двор, сад… Посмотришь, как местные живут. Я каждый год с женой приезжаю туда, бронь железная.
Булат нерешительно пожал плечами.
– Пошли, пошли! Пиво без рыбы – не пиво. – Кирилл достал мобильник. – Малыш, я сейчас с таким уловом вернусь! – И уже Булату: – Не переживай, жена у меня хлебосольная.
* * *
Двор за двумя белокаменными домиками-близнецами был просторный. В глубине, перед садом, вся в виноградной лозе – кухня под навесом, можно сказать, столовая. Через двор крест-накрест медная, тонкая проволока, увешанная серебристой рыбой. Булат спросил:
– Это и есть кефаль?
– Она самая, – ответил Кирилл, извлекая из сумки бутылки «Баварского», купленные по дороге, и расставляя на столе под навесом. Сняв несколько рыбёшек с проволоки, крикнул через плечо в сторону дома с распахнутой дверью: – Малыш, ну где ты? – Положил рыбу на стол и пошёл искать свою супружницу со словами: – А ты располагайся, Булат. Будь как дома.
Булат шагнул под навес, по-хозяйски взял с полки две гранёные кружки. Открывалку для бутылок не нашёл. Тут появился Кирилл:
– Сейчас будет она. Пожарит нам окуня. А так – я сам готовлю.
Вместо неё из другого дома появилась другая женщина – хозяйка «усадьбы» с распространённым в Абхазии именем Этери.
– Чем помочь, Кирилл Петрович? – спросила она и, услышав в ответ «спасибо, сами мы тут», удалилась, только окинула взглядом гостя и «праздничный» стол.
Кирилл оказался генеральным директором известного в родном городе крупного промышленного предприятия. Единственным отдохновением сверх занятого руководителя были ежегодные рыбалки на Чёрном море. Булат же не сказал, кем является на этом свете. Постеснялся. Объявить себя писателем, вычитал он где-то, – это всё равно, что назвать себя хорошим человеком. Представился лектором-филологом, что, в принципе, не противоречило действительности.
– А в какой области филологии? – поинтересовался Кирилл.
– В поэтической, – ответил Булат. – А что?
– А то, что, значит, кучу стихов знаешь! – А ну-ка, земеля, что-нибудь к месту и времени!
Булат склонил голову к плечу, взялся за пенную выше краёв кружку:
Друг мой, друг мой,
я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль…
– О, люблю Есенина! – воскликнул Кирилл и добавил: – У меня в юности целый диск был с песнями на его стихи.
– Пономаренки музыка?
– Точно, Григория Фёдоровича! Как только он сумел подобрать музыкальный ключ к Есенину, уму непостижимо?! А знаешь, что для меня интересно, – это то, что мой отец в один год с ним родился и в один год умер. Нет, конечно, не поэтому я его так чту. Пономаренко, скажу, – это Есенин в музыке. И он затянул бархатным, низким голосом, так же не выпуская из крепкой руки гранёную кружку баварского:
Не жалею, не зову не плачу,
Всё пройдёт как с белых яблонь дым…
После двойного тоста глухо чокнулись. Несмотря на свой сухопарый вид, рыба оказалась жирной и вкусной. До этого Булат знал её лишь по песенке «Шаланды, полные кефали».
– Где ж ты столько наловил? – спросил он, рассматривая серебристые гирлянды на проволоках через весь двор. – Не на пирсе же…
– С яхты… Два дня с приятелем рыбачил.
Было тепло, но не жарко. Тем не менее Кирилл вытер полотенцем побежавший по шее пот, снял бейсболку, обнажив солидную лысину. Он был из тех крупных мужчин, которые одним своим видом внушали расположение к себе и доверие.
За первой бутылкой незаметно под стол ушли, облегчившись, и вторая, и пятая…
Сквозь виноградную лозу Булат увидел, что из дома, наконец, вышла супруга Кирилла. Она миновала двор, ступила под навес, тепло поздоровалась. Её ореховые, чуть раскосые глаза в очках тонкой оправы были спокойны и приветливы. В руках она держала какие-то банки-склянки:
– Знакомьтесь, это наш земляк Булат, – представил своего нового друга Кирилл. – А это моя супруга Мария Ивановна.
Булат и слова не смог вымолвить в ответ. Язык прилип к нёбу, дыхание сбилось, сердце затрепетало, словно птица, пойманная в сеть… Это была она, его, Булата, Машенька. А может, он всё ещё во сне продолжает её видеть? Но щипать себя не пришлось, реальность была до обидного приземлённая и по-житейски проста.
– Сейчас будем жарить морского окуня, – промолвила деловито она. – Кир, дорогой, где оливковое масло? Никогда на место не вернёшь.
Она, можно сказать, совсем не изменилась. Только «вороньего гнезда» на затылке не стало – короткая стрижка, загар, шорты…
– Масло в тумбочке, а лимон, розмарин – под салфеткой, – пояснил глава семьи. – Пойду схожу ещё за пивом.
Кирилл надел бейсболку, взял сумку и скрылся за воротами.
Зашипела на плите сковорода, солнечные зайчики перескочили с холодильника на столь родной и знакомый до крошечной родинки на щеке профиль, а Булат сидел ошарашенный и немой. Его ноздри, лёгкие невероятным образом переполнял аромат анисовых яблок. Рядом жарилась рыба, за рыболовными сетями – сад с мандаринами, персиками, цветами неизвестных названий, а у него тут – анисовые яблочки. Булат прервал затянувшееся молчание ни к селу ни к городу фразой:
– Я слышал, что если кто-то снится тебе, то и ты снишься ему.
– Не знаю, – ответила жена гендиректора. – Трудно проверить, если приснившийся не рядом с тобой.
– Машенька! – не выдержал Булат, подойдя к ней и тронув за локоть.
– Не надо, Булат, – отстранилась она.
– Куда ты пропала?
– Я не пропала, я вышла замуж, у меня сын… учится в Лондоне.
– Почему же тогда вы с Кириллом не у него там сейчас?
– Я очень хочу к Витеньке. Тем более, что у него завтра день рождения. Но Кириллу с его работой не часто удаётся вырваться сюда. А он любит морского окуня и кефаль. – Маша перевернула рыбину на другой бок. – Любит простую жизнь на берегу моря.
– Вижу, у тебя с Кириллом всё хорошо?
– Он прекрасный муж и отец…
Ответа её Булат полностью не расслышал – зашипела по-новому сковорода. А может, и не хотел слышать то, что знал наперёд. Он отошёл к рыболовным сетям, развешанным у выхода с веранды в сад, оглянулся:
– Как же так получилось?.. Без объяснений, без единого слова взяла и перечеркнула всё на свете.
– Заступила за очерченный круг, как сказал когда-то один молодой поэт. – Она выключила газ, выложила порцию жареной рыбы в большое блюдо, накрыла его. – Не люблю обмана, терпеть не могу лжи.
– Но я не обманывал…
– Умалчивал, что одно и то же.
– Я с ней давно уже не жил.
– После скандала в это трудно было поверить.
– Маша!.. – Он подошёл к ней, взял за руку. – Ты же не разлюбила меня?
Она подняла на него глаза, опустила, вновь подняла, как тогда на кафедре в университете, протяжно посмотрела… И промолчала.
– Да, верно, – вздохнул Булат, – ты же никогда не признавалась в своих чувствах.
– Теперь это не имеет никакого значения. – Она неспешно отняла руку. – Помоги стол накрыть.
Кирилл вернулся с батареей пива и бутылкой красного вина.
– Абхазское, – пояснил он, кивая на бутылку с сургучом на горлышке. – Маша пиво не любит. А ещё вот что приобрёл я для сына нашего Витьки. – Он достал из сумки большую морскую раковину, изогнутую в рог, поднёс к губам и зычно затрубил. – Пусть там разок подъём друзьям своим сыграет.
Где «там» – не пояснил.
«Скромный парень», – подумал Булат. Ему вдруг сделалось весело. Он взял раковину и тоже изо всех сил подул в неё, словно хотел избавить лёгкие от каких-то застоялых паров.
– Тише вы! – приструнила друзей Маша. – Раздуделись на всю округу.
Натюрморт из морского окуня в жареной корочке с овощами и различной зелени жалко было трогать.
– Это же произведение искусства, достойное Лувра! – не покидало Булата неизвестно откуда взявшееся приподнятое настроение.
Кирилл тоже веселился. Супруга его была сдержанна, услужлива – то салфетку подаст, то тарелки сменит… О чём она думала, глядя на них? Сравнивала, сожалела или ничего подобного? – кто знает!
– Попробуем всё-таки винца и мы с тобой, – предложил Кирилл, наполнил стопки, приобнял своего нового друга:
– Давай тост!
Булат помедлил, перевёл взгляд с супруги на супруга и…
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина.
– Откуда это? – спросил Кирилл.
– Это – концовка «Евгения Онегина», – ответила супруга.
– Ну да, вы же филологи! – Кирилл опорожнил стопку.
Не допив свою, Булат сказал, что ему пора.
Хозяин застолья удивился: хорошо же сидим! Стал уговаривать, но гость был непреклонен.
Кирилл пошёл провожать его, кивнув жене:
– Прогуляюсь, Малыш.
– Не долго, – ответила она.
На прощальный поклон Булата веки её еле заметно дрогнули, и она отозвалась каким-то далёким эхом: – Прощайте. – Кратко, бесстрастно, на секунду оторвавшись от кухонных дел, будто бывал он у них каждый день.
Покрасневший лик солнца клонился к горизонту. Через всё море к берегу побежала золотистая дорожка. Земляки неторопливо шли по побитой временем аллее вдоль пустынного пляжа и душевно разговаривали. Больше говорил Петрович. Он рассказывал, что впервые в Пицунду его привезли родители ещё мальчишкой.
– С тех пор, конечно, здесь многое изменилось и не в лучшую сторону, но всё равно меня безудержно тянет сюда. Здесь я впервые в жизни поймал свою серебряную рыбку. Не на Волге, не где-нибудь, а именно тут, с ялика в море.
Потом он стал объяснять, что на спиннинг лучше клюёт окунь, горбыль, а на удочку – кефаль, чёрный карась, барабулька…
– И на сеть идут они хорошо, – улыбнулся Булат.
– С сетью совсем другая рыбалка и очень интересная, замечу.
За реликтовыми соснами замаячило здание пансионата. Вечерело. Запустили свои молитвы неугомонные цикады. Прощаясь, Кирилл воскликнул вдруг:
– А приходи завтра! У нашего сына день рождения. И что из того, что он далеко! Устроим кир на весь мир. С абхазским вином и шашлыком! Идёт?
– Сколько ему стукнет-то?
– Пятнадцать. А что?
– Да нет, так…
– Круглая дата! Придёшь?
– Не знаю даже.
– А кто должен знать?! – хмыкнул он и уже не терпящим возражений тоном: – Часам к пяти.
* * *
На другой день Булат маялся, прокручивая в голове вчерашнюю встречу. Ходил из угла в угол, вглядывался в синюю даль моря, будто там что-то разъясняющее ситуацию было изложено. Решил: не пойду! Но Кирилл не тот человек, чтобы смиренно дожидаться у себя за столом веранды, нагрянет в пансионат, от него так просто не отделаешься. Можно, конечно, уехать на экскурсию куда подальше – в Новый Афон, на озеро Рица… Детский лепет! Вспомнилась Машенька, которую Кирилл ласково называет «Малыш»…
Знал бы, не приехал сюда, и осталась бы она для него навсегда белокрылым ангелом. А теперь?.. Ведь чист он перед ней, а она – вон как! Кто кого предал, кто больше виноват? Позвонить бы Кириллу с благовидным отказом, да, дурьи головы, номерами телефонов не обменялись. Ладно, он, витающий в облаках, но ведь Кирилл Петрович-то – с компьютером в черепной коробке.
В другую минуту опять вспомнилась Машенька, обновлённая, с неожиданной короткой стрижкой, и всё такая же стройная, красивая, будто вчера только расстались.
Пробовал читать – не читалось, пытался дописать начатое стихотворение – не получилось. Весь день пошёл наперекосяк. После полдника побрился, надушился, купил в фирменном магазине бутылку красного вина «Букет Абхазии», в другом – коробку конфет, и ноги понесли его к домикам-близнецам с уютной верандой во дворе. А точнее – к ней, к ней, которую можно было видеть не только во снах.
Летел на всех парусах, подгоняемый попутным ветром с моря. Ну и что, что так сухо с ним обошлась! Как же прикажете себе вести себя при живом муже?! Да она всегда была хара́ктерной, не напоказ, глубоко скрывающей свои переживания.
На подходе притормозил, чтобы отдышаться, принять приличный вид и с достоинством зайти на званый праздник. Сердце, однако, не приняло передышки, билось в груди, как затравленный зверёк. Наконец, Булат скрипнул дверцей ворот и увидел первым делом, что на проволоке крест-накрест через весь двор нет ни одной рыбёшки.
Навстречу вышла Этери:
– А они уехали рано утром. Решили сюрприз сделать сыну – поздравить с днём рождения. «Подарю ему морской рожок», – сказал Кирилл Петрович. Удивительные люди! – Она кивнула в сторону веранды. – Там они гостинец вам оставили и очень просили извинять их за неожиданный отъезд.


