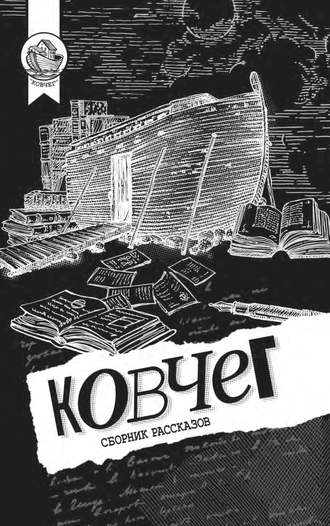
Коллектив авторов
Ковчег
Семьдесят лет – это все-таки такой возраст, когда человек с трудом впускает в свою жизнь что-то новое. Куда оно теперь, к чему? Хватает и старого, пережитого, привычного, подлежащего последнему осмыслению. Но Людмила Михайловна на удивление просто впустила в свою жизнь неожиданно открывшуюся в ней способность к полетам. Когда оставалась дома одна, то передвигалась по квартире уже исключительно перелетами: от холодильника к столу, от стиральной машины с охапкой мокрого белья в ванную. С неудовольствием обнаружила, сколько пыли скопилось на люстре и на карнизах. С облегчением ощутила, как легко стало доставать книгу с верхней полки стеллажа и поливать цветок, стоящий на шкафу.
Главной трудностью было теперь не забыться, не воспарить в присутствии мужа или других каких-нибудь людей. Один раз чуть не погорела: сидя в кресле с томиком стихов, так зачиталась, так преисполнилась того самого чувства возвышающей, окрыляющей легкости, что, оторвав глаза от страницы, обнаружила себя висящей над креслом уже, наверное, в полуметре. Осторожно вернула себя назад, вниз, не спуская глаз с Константина Палыча. Он, на счастье, кажется, как раз задремал под монотонную телевизионную бубнежку.
Летала Людмила Михайловна и во сне. Но не так буднично, как днем, не так приземленно, а высоко. Чаще всего виделось ей, что она гуляет по Воробьевым горам, подходит к балюстраде, где стоят люди, любуются видом на город. А она отталкивалась от земли, взмывала вверх и парила, раскинув руки, описывала круги над Москвой: все шире и все дальше. Узнавала сверху знакомые улицы, проспекты, здания, площади, неслась над лентой реки, ощущая свежие влажные порывы ветра.
Иногда в первые дни еще укоряла себя. То ей чудилась какая-то безответственность в этих полетах, какая-то легкомысленность, то становилось неудобно перед мужем, от которого за всю долгую совместную жизнь по большому счету никогда ничего не скрывала. Но потом Людмила Михайловна убедила себя, что летает она безопасно: над полом невысоко, да и недалеко. А у Константина Палыча все-таки давление и сердце, так что его беспокоить совершенно не следует.
Да и когда разговоры разговаривать? Новый год на носу! Дочка приедет с мужем, соседка придет. А это ведь все хлопоты. Квартиру убрать, купить продукты, подарки всем приготовить, елку нарядить, на стол накрыть. Не до разговоров. Вот потом, может быть, когда схлынут праздничные дни и все снова войдет в привычную колею, вот тогда и поговорит, пообещала себе Людмила Михайловна.
За день до праздника уже начала готовить угощение. Константин Палыч как раз из магазина вернулся.
– Костя, а свекла где? – спросила Людмила Михайловна, разбирая сумки.
– Завтра куплю, – отмахнулся он, тяжело опускаясь на стул.
– Какое завтра? Мне сегодня она нужна! Она же так долго варится! – засуетилась Людмила Михайловна. – Мы что же, по-твоему, без селедки под шубой будем за новогодним столом?
Константин Палыч только закряхтел, завздыхал недовольно.
– Ладно уж, сиди, – она даже махнула на него рукой, – сама слетаю быстренько.
И осеклась, испугалась того, что сказала. Но Константин Палыч только кивнул устало:
– Ну слетай, слетай.
Она и полетела. Ноги в сапоги, шапку нахлобучила, руки в рукава сунула – что там, до ближайшего магазина добежать. Отогнала Боньку от дверей и по лестнице, со своего третьего этажа, действительно не сошла, а слетела, мягко проскользила над ступеньками, плавно огибая перила на поворотах, напевая под нос что-то стремительное и даже бравурное. Дверь распахнула и нос к носу столкнулась с соседкой. С той самой, что должна завтра в гости прийти. Да не важно, с какой. Главное, что столкнулась, вися в воздухе. Несуразно, невозможно, наплевав на все законы гравитации. В ту же секунду все осознала, спохватилась, сдернула себя вниз, к земле. А там как раз порожек металлический, скользкий. Одна нога подвернулась, стрельнула острой болью вверх, к колену, да так, что в глазах заплясали огоньки.
– Ой! – вскрикнула Людмила Михайловна. Другая нога поехала по плиткам пола, так что она только руками взмахнула и начала падать. Хорошо, соседка подхватила.
– Что же это ты, Люсенька! – запричитала она. – Я аж испугалась, как вылетела на меня. Смотрю, а это ты. Держу, держу, поднимайся.
Опираясь на соседкино плечо, ощущая весь свой настоящий вес, Людмила Михайловна попыталась подняться и встать прямо. Но одна нога снова отозвалась резкой болью. Только бы не перелом.
Кое-как допрыгала, доковыляла с соседкиной помощью до квартиры. А там уже и Константин Палыч помог. Довели вдвоем до кресла, усадили, раздели. Сапог с пострадавшей ноги насилу стянули: лодыжка уже распухла.
– «Скорую», «скорую» вызывай, Константин Палыч! – повторяла без конца соседка, словно заговаривая чужую боль.
И завертелось. Сначала врач приезжал. Не перелом, слава богу, только растяжение. Но на ногу-то все равно не опереться. А как же теперь готовить, как же праздник? Это ведь завтра уже, и гости будут. Как же теперь с ними? Соседка дважды еще приходила, узнать, как да что. Дочка звонила, говорили долго, она утешала, обещала, что завтра с мужем пораньше приедут и сами все приготовят к столу.
Часа через три только, наверное, все улеглось: отзвенел телефон, отхлопали двери, откатили немного суетливые переживания. Константин Палыч опустился со вздохом на кресло, щелкнул телевизионным пультом, Бонька запрыгнул на диван, обнюхал перебинтованную ногу, сочувственно улегся рядом.
– Вот и слетала в магазин, – в который уже раз сокрушенно покачала головой Людмила Михайловна.
– А нечего потому что в таком возрасте летать, – проворчал, не отрывая глаз от экрана, Константин Палыч. – Я как заметил, сразу тебе сказать хотел. Да толку-то. Ты всегда такая была: что вобьешь себе в голову, так уж все.
– Ты о чем это? – испуганно затаив дыхание, уточнила Людмила Михайловна.
– О чем? Да про полеты эти твои, – уже немного раздражаясь, заговорил муж. – Ты что же думала, я не замечаю? Все-таки в одной квартире живем. Только отвернусь, глядь – а она опять полетела. Низенько так, по-над полом. И думает, я не вижу. Думает, совсем ослеп к старости.
– Костя… – пролепетала Людмила Михайловна. – Да как же ты…
– А что я? – Теперь он развернулся к ней и заговорил с обидой: – Что я? Я – старый пень, корни пустил в это кресло. А ты у нас – возвышенная натура, окрыленная. Как выходной или просто после работы – так театры, концерты, книжки со стихами, пластинки. И все витала где-то. А что я? Мне нравилось. Не то что у других: пеленки, покупки, дача, огород. Я не говорю ничего, ты мне такой как раз и нравилась. Но сейчас-то, Люся! В семьдесят-то лет. Нам уже с тобой пора, как говорится, к земле привыкать, а ты тут и вовсе воспарила. Да не как-то там, а прямо вот по-настоящему. Когда ты с Бонькой гуляешь, я в окно смотрю – как ты там на пустырьке нашем ходишь: шаг сделаешь, оттолкнешься и летишь. А Бонька вокруг скачет. А я стою, смотрю и думаю: как же так-то? А как же мне теперь быть?
– Костя, – нашла наконец какие-то слова Людмила Михайловна, – Костя, ты прости меня, что я тебе не говорила. Ну как бы я сказала? Ведь это же что-то совершенно – согласись! – ну просто совершенно невозможное!
– Возможное-невозможное, – проворчал он, – но сказать-то могла. Столько лет вместе прожили. Смотрю – летает. И не говорит ни слова. А мне-то как теперь быть?
– Ну, Костя… – снова сказала Людмила Михайловна, но он только отвернулся, брови сдвинул сердито и уставился на экран телевизора, как будто там было что-то важнее, как будто бы там ему доверяли любые тайны.
Людмила Михайловна не знала, что сказать. Хотелось подняться с дивана, подойти к мужу, обнять, попросить еще раз прощения за то, что утаила, не поделилась с ним таким чудесным и небывалым. Лучше даже просто глазами прощения попросить, без лишних слов. Она откинула одеяло, спустила ноги на пол, попыталась подняться. Нога отозвалась сердитой болью. Тогда Людмила Михайловна выдохнула и на волне светлого какого-то и теплого чувства вспорхнула с дивана и подлетела к мужу. Обняла его сзади за плечи:
– Ну, Костя…
– Эх, Люся, – вздохнул он, и она услышала по его голосу, что уже прощена, и что теперь она не одна со своим странным непрошеным даром, и теперь можно будет говорить об этом и перестать жить с вечной оглядкой.
– Дочке-то скажем?

Сергей Кубрин
Начальник
Полковнику Молянову С. А.
Полицейская собака Ла-пуля снова родила щенят: дворовых и беспородных, самых обычных, с прямым черным окрасом и блеклым цветом глаз. Таких – пруд пруди в каждом подвале, в каждой подворотне, у каждого мусорного бака, на любой контрольной точке или зоне обхода дежурного патруля. Не знающие людской заботы, скулящие и звенящие, исход судьбы которых невелик: найти хозяйские руки или прыгнуть в тревожный вещмешок, оказавшись где-нибудь за городом.
Может, потому весь личный состав с самого дня рождения стал бороться за право выбора – мне вот этого, а мне вон того. Смотри, какая морда, добавляя понятное: «Мужи-иик». Щенки рано отстали от матери, носились по дворовой территории отдела, цеплялись за штанины пепеэсников. Те, уставшие после ночного дежурства, сперва шугали назойливых щенят, но, одумавшись, скоро брали на руки молодое собачье пополнение.
Честно говоря, сами щенки больше всего любили этих сержантиков, носящих почетную должность сотрудников патрульно-постовой службы. Переулки и городские тупики, улицы и закоулки, важное прописное условие: охраняй правопорядок, следи за пропускным режимом.
Щенки несли дежурство у въездных ворот. И если появлялся на той стороне жизни случайный прохожий или бдительный гражданин, давились ребяческим рыком, исполняя отеческий долг.
– Отставить, – давал команду пепеэсник, – ваши документы, пожалуйста.
И, выстроившись в ряд, опустив на потертый асфальт завитки дымчатых хвостов, провожали взглядом, как по команде «смирно», заявителей и потерпевших, жуликов и бандитов, патрульные «бобики», служебные ГНР-ки.
Оставалось лишь крикнуть что-то вроде «вольно», и щенята обязательно бы понеслись туда-сюда, рассредоточились по периметру, но отчего-то стеснялись они своих врожденных полицейских способностей, скрывали понимание уставного режима и дисциплинарной важности.
Сама Ла-пуля пряталась в будке и лишь изредка выходила, радуясь первым отголоскам предстоящей весны, блаженно похрипывая, когда кто-то теребил ее потрепанное старое пузо.
Начальник отдела, старый полковник, почти уже отучил мать-героиню подавать голос. Если та бежала к нему, заметив еще у самого входа статную офицерскую фигуру, и готова была уже разразиться лаем от радости встречи с хозяином, полковник поднимал ладонь, пронося ее с силой по воздуху, намекая как бы: станешь гавкать – прилетит и тебе.
Собака послушно утихала и только путалась под ногами, не давая сделать ни шагу.
Ла-пуле, само собой, хотелось налаяться от души, захлебнувшись собственной звериной силой, нарычать на непослушных щенят, заскулить от ночной апрельской тоски или вовсе проводить гавканьем местного жульбана. В общем-то долгое время она так и жила, если бы в одно обыкновенное утро в отдел полиции не обратилась женщина с определенно необыкновенным заявлением.
«Прошу привлечь, – писала она аккуратным, но ершистым от негодования почерком, – к уголовной ответственности собаку, проживающую на территории отдела полиции, поскольку та издает лай в ночное время суток, тем самым мешает осуществлению сна и, соответственно, нарушает право человека на отдых».
Дамочка, скорее всего, обладала некоторой юридической грамотностью и повышенным уровнем правосознания, воспринятого из массовых телепередач в духе «Часа суда», поскольку на возражение дежурного, что подобное заявление принимать не станет, пригрозила пальцем и пообещала – немедленно – идти в прокуратуру.
– Ну вы поймите, – настаивал дежурный, – ну как же мы привлечем к ответственности собаку?
– А вы спите по ночам? – кричала женщина. – А я вот не сплю! Убирайте эту сучку куда хотите! Так больше невозможно!
Скорее всего, и дежурный, и сотрудники, проходившие мимо, но вынужденные остановиться ради очередного нашествия жертвы весеннего помутнения, подумали: сучка здесь одна, и, так уж вышло, на данный момент это не всеми любимая Ла-пуля.
– Я вам говорю, женщина-аа, – с какой-то неестественной мольбой, что ли, выдавил дежурный.
– Я вам не женщина! – не унималась заявительница. – Женщина у вас дома, и то не факт, – усмехнулась она, оглянувшись в надежде найти представителей жалобщиков, способных разделить ее тонкое чувство юмора. Но никого из гражданских не было рядом, кроме дохлого старичка, верно ожидавшего очереди и не способного, казалось, ни смеяться, ни плакать, ни – тем более – уподобиться язвительному трепу. – Так вот, я для вас – гражданка в первую очередь. А следовательно, имею право! Понимаете, – ударила она кулаком о часть примыкающего к защитному стеклу выступа, – я имею полное пра…
– Гражданка! – возникший откуда-то встречный голос, словно резкий морской ветер, сбил ее поставленную галерную речь, и гражданка с товарным запасом прав и свобод примкнула к берегу взаимного понимания. – Гражданка, что у вас стряслось? Ну, что же вы так переживаете?
Должно быть, женщина (а как ни крути, она все-таки была самой обычной женщиной), пусть на самое незначительное, но всеми заметное время, утихла, уставившись на полковника. Убедившись, что тот – действительно полковник, оценив треугольник внушительных звезд на погонах, ответила, на удивление спокойно (а ведь умеет) и даже не с требованием, а просьбой:
– Вы же начальник, правильно? Товарищ начальник, помогите мне.
Полковник кивнул дежурному, тот нажал кнопку на пульте, открылся пропускной турникет, и женщина-гражданка полноправно внесла свою невозможную проблему внутрь нашего – лучшего за отчетный период – отдела города. И уже через некоторое время, проводив взглядом дежурного, достойно державшего оборону, одарив старую, но надежную деревянную лестницу уверенным стуком набоек, вошла в кабинет начальника, и тот, молча закрыв дверь, указал ей на стул.
Будь он не начальником, точнее, если бы не эта женщина, наш полковник обязательно сказал бы что-то вроде: «Место!», а раз уж речь зашла о собаке, подобная смысловая точка пришлась до предела кстати.
Но полковник избегал остроумных диалогов и центровых ударов, когда лично общался с заявителями, тем более, с известной всем категорией незаслуженно обиженных, лишенных естественных и неотчуждаемых (согласно основному закону) прав, – потому что клялся «свято исполнять и строго соблюдать», положив ладонь пусть не на Конституцию, но, наверное, к сердцу или куда там прикладывают свободную руку во время церемониальных назначений на должности руководящего состава.
– Я вас слушаю, – сказал полковник и сделал вид, что действительно слушает, несмотря на то, что тут же достал нескончаемую кипу бумаг, забродил по строчкам, замахал пастой, оставляя подпись под резолюцией. Он кивал, когда гражданка изливала тревожную суть и проблемное содержание жалобы, оттого дамочка с большей уверенностью, что «имеет право», продолжала окрашивать самыми бестактными оттенками бедную Ла-пулю.
Начальник, не поднимая глаз и не расставаясь с тяжестью протокольных листов, позволял себе ответные реплики в форме «Вот так, да» или «Какой ужас», придавая обиженному монологу кажущийся контактный фон. Но на самом деле сам полковник скорее всего не понимал, общается ли он прямо сейчас с заявительницей или – заочно – с исполнителем прилетевших на его стол документов.
– Ну как же так! – выдал во весь широкий трубный голос полковник, швырнув ручку до самого победного края громадного стола, и женщина примолкла. Она уставилась в лицо полковника, привыкшее за годы службы скрывать любое проявление эмоций, но в душу начальника, конечно, заглянуть не смогла, потому не разглядела ни грохочущих ненавистных гейзеров, ни падающих водопадов, бьющихся о камни крепнущего недовольства и злости.
Это была вынужденная злость, поскольку сам полковник в мирной внеслужебной жизни отличался нетипичной добротой и развитым чувством уважения, что, в общем-то, не имеет, как говорится, отношения к делу. Тем более, не было до этого дела и самой гражданке. Она лишь закивала судорожно своим острым подбородком, предчувствуя, как прямо сейчас – взбудораженный от случившейся нелепости – начальник разрешит ситуацию: возьмет служебное оружие, снарядит магазин восемью патронами и выпустит их все в виновника суматохи.
Ведь этот случай, думала женщина, точно особенный. Потому она ждала и ждала, что же скажет начальник, как прореагирует на невозможную беду, и долго ли еще будет слышен этот беспокойный лай полицейской собаки. В конце-то концов.
Наконец полковник заметил присутствие дамочки, и теперь брошенные им «как же так» и «какой ужас» нашли, к счастью, своего адресата.
– Вот-вот, – защебетала женщина.
– Вот-вот, – повторил зачем-то полковник.
– И вы представляете, я сплю, а вообще я очень крепко сплю. Но этот вот лай, вы понимаете? Вы должны принять меры, уважаемый товарищ начальник милиции.
– Полиции, – поправил начальник.
– Полиции, – исправилась дама, усмехнувшись, – милиция-полиция, какая разница, черт вас разберет.
Полковник насторожился, а дамочка осеклась.
– …То есть я имела в виду, что… Ну, вы понимаете, да? Начальник кивнул и все окончательно понял.
В этом «все», должно быть, находилось куда больше, чем собачье гавканье, и отсутствие сна, и даже нарушение пришитого к проблеме права на отдых. По крайней мере, полковник в очередной раз подумал о том самом неуважении граждан к органам правопорядка, о котором повсюду говорят, и, скорее всего, зря говорят, но разве кому объяснишь и захочет ли кто понимать.
Он подумал и про мнимую вежливость этих же граждан, встретившихся с бедой, и даже вспомнил отчего-то свою молодость и вечно серый асфальтированный плац курсантского училища, и таким же серым представилась вся его прошедшая жизнь, точнее, результат этой жизни – как ни крути, далеко не серой по сути.
Ему вдруг показалось, что, наверное, в этом людском недоверии и отсутствии должного уважения и есть смысл, и оттого стало легче. Ну, то есть какой смысл: ты работаешь и, скорее всего, работаешь хорошо, потому что в районе стало тише и вообще раскрываемость заметно возросла, и, может, потому не доверяют, что вера вообще понятие невозможное. А поверят, лишь когда исчезнет предполагаемый объект доверия, но в таком случае наступят полный хаос и бесправие, и тогда все поймут и оценят, и все в этом роде.
Полковник всегда размышлял так неспешно и так непонятно. Он вообще не любил говорить просто и бесцельно, предпочитая долгие, зачастую ведущие в тупик мыслительные процессы.
Не родился бы он сотрудником (а ими, настоящими, все-таки рождаются) и не стал бы начальником, а был бы кем-нибудь схожим с городским пижоном или на худой конец сотрудником кафедры тепловой обработки материалов, первый встречный – ему подобный – обязательно сказал бы с невнятным, но искренним акцентом:
«a person of great intelligence». Да что уж, сам полковник считал себя таким: умным, незаурядным и конечно же интеллигентным.
Только ради соответствия истинным качествам и моральным принципам полковник не стал убеждать заявительницу, что с подобными проблемами в полицию лучше не обращаться. Жаловаться на лай можно кому угодно: собачьему или людскому богу, председателю животного кооператива во главе с царем зверей, бабушкам-старушкам, восседающим на скамейках возле подъездов, в конце концов, активным блогерам, руководителям групп социальных сетей, журналистам, но только не полиции.
Начальник бы при этом с удовольствием раскрыл дамочке книгу учета сообщений о происшествиях (сокращенно КУСП), сводку за истекшие сутки, и, кто знает, может, дамочка бы поняла, что есть вещи посерьезнее собак, а происшествия – страшнее, чем природное гавканье. Но служебную тайну никто не отменял, как и обязанность регистрировать любое поступившее обращение.
Именно поэтому начальник сказал женщине:
– Не переживайте. Мы что-нибудь придумаем. Мы обязательно разберемся.
Дамочка уже уходила, но, только переступив порог, появилась снова и зачем-то добавила:
– Постарайтесь не медлить, а то…
Она не закончила, и оставалось только предполагать, что же скрывается в многозначительном «а то…», но, скорее всего, полковник понял – в противном случае, женщина отправится выше, закидает жалобами приемные генералов, прокурорские канцелярии, кабинеты общественных объединений и правозащитных организаций.
Сначала кому-то звонил и даже что-то докладывал, после на доклад приходили к нему, и начальник спрашивал по всей строгости закона. Удавалось ему сквозь громкий стальной голос не терять самообладания. Даже в моменты почти очевидного срыва держался нерушимо туго, ровно крепил спину и едва заметно тянул подбородок.
Но когда кабинет опустел, когда полковник понял, что есть время до вечерней планерки и, скорее всего, в ближайший час его никто не потревожит, он буквально рухнул в рабочее кресло и выдохнул протяжное «уу-ууу-х».
Что-то нужно было решать с этим заявлением, и, конечно, полковник понимал: единственный выход – как можно быстрее избавиться от Ла-пули. Но, представив, как дает команду тыловику, как ту помещают в багажник и увозят куда-то за город или в другой район хотя бы – куда угодно, лишь бы не слышал никто ее волнительный лай, – стало ему настолько нехорошо, что пришлось даже открыть окно, иначе крепнущая духота поборола бы его.
Двор жил. Урчал мотор дежурной «газели», что-то невнятное пытались донести полупьяные административно-задержанные, протрезвевшие уже и получившие право минутного перекура. Кто-то из сотрудников неприлично громко смеялся, но полковник был не из тех, кто противился смеху в рабочее время, полагая, что смех если и не продлевает жизнь, то точно придает ей смысл.
Сам он тоже любил пошутить, но понимал, что служба – не шутка, и если уж судьба предоставила ему когда-то такое право, значит, нужно идти серьезно и уверенно, почти как строевым шагом по бесконечно долгому плацу. Он часто думал, что служба выбрала его, а не он службу, потому относился к ней, как к священному долгу, установленному не законом, а почти божественной волей.
Но сейчас он мог выбирать, точнее, обязан был сделать выбор: интересы граждан или бедная собака, к которой давно привязался и, может, полюбил. Что-то подсказывало ему, наверное, совесть уговаривала: оставь Ла-пулю, пусть живет, но свежий офицерский разум убеждал: действуй иначе, не нужны тебе проблемы.
Пыхнул с улицы ветерок, разбавленный прежними людскими возгласами. И тут полковник понял вдруг, что собака отчего-то не лает. Он подумал даже, что наверняка гражданка уже порешила судьбу бедной Ла-пули, что, скорее всего, кружит собачонка свои последние минуты и скулит, как может, но где-то не здесь, а там, куда не доберется ни одна офицерская звезда.
Начальник ринулся было во двор, оставив кабинет и ровный, нарастающий, как градус переживания, тон служебного телефона, но услышал все-таки знакомый (и подумал, родной) собачий лай.
– Все хорошо, все хорошо, – говорил неслышно, и, загляни кто-нибудь из подчиненных, решили бы: плох наш полковник, говорит сам с собой.
Но никто к нему не заглянул.
Планерка шла относительно спокойно, точнее, непривычно выдержанно: то ли ругать было некого, поскольку поставленные задачи, как ни крути, выполнялись, то ли полковнику не хотелось сегодня разводить трепещущий прорывной огонь. Поочередно заслушивал каждого из руководителей, кивая и соглашаясь, и, наверное, каждый из присутствующих сам не верил до конца, что сегодня удастся закончить рабочий день вовремя и, если уж совсем повезет, без намека на нервный срыв.
Он почти не смотрел на восседающих за длинным столом офицеров. Уставившись в утреннее заявление, растерянно катал из стороны в сторону ребристый корпус сточенного наглухо карандаша и сам, казалось, почти не слышал сути вечерних рапортов.
Ему бы взять и передать материал начальнику участковых. Будьте добры, разберитесь, проведите проверку. Но понятное дело – отпусти ситуацию, бросят и собаку на произвол непростой животной судьбы.
Зачем-то спросил про Ла-пулю, озвучив проблему и, может, перебив куда более важный доклад о профилактике правонарушений. На заметное тяжелое мгновение повисла неживая тишина. Каждый из них, заслуженных офицеров, отличников боевой и служебной подготовки, знал, как бороться с преступностью, как держать в кулаке районный произвол или доказать вину самого верченого жулика, но никто не видел решения проблемы, лишенной намека на истинный криминал.
Развели руками, потупили взгляды. Собака. Гражданка. А где преступление?
И, чтобы развеять возникшую смуту, полковник вернулся в боевой ритм, перевернув листы собачьего материала на свежую, не тронутую людским бездушием сторону. Все успокоились, потому что вечерняя планерка заиграла привычным аккордом, мелодией прежних идей и предложений, планом совместных следственных действий и оперативных мероприятий.
Когда все разошлись, когда отдел выпустил на волю сотрудников, засидевшихся до густых апрельских сумерек, и только начальник остался со своими планами и прогнозами, засверкала вечерняя зарница, ударила свиристель стрекочущих сверчков, зашумела стена несерьезного свежего ливня, пахнуло пряной мятой и сочной травой, и захотелось по-настоящему жить.
Он вышел наконец во двор – впервые за день, убедившись, что дежурная группа умчалась на очередное происшествие и никто не сможет его увидеть, пошел в сторону курилки, где за стальной оградой разместили недавно настоящую конуру. Но дойти не успел, как выбежала несчастная Ла-пуля и, от радости ли, то ли в знак оправдания своего преступного поведения, заскулила так высоко, что звуковая волна поднялась до первых проступающих звезд, повиснув натянутой струнной тетивой, слившись в одно с нескончаемой силой эха.
Полковник замахал, вроде, что же ты делаешь, замолчи, ну разве ты не понимаешь. Но собака не понимала, конечно, и продолжала изливаться прочным губящим лаем. Ожил квадратик окна в соседней многоэтажке, и начальник определил, что проснулась заявительница, что прямо сейчас она высунется наружу, не побоявшись предельной высоты, и увидит его – растерянного, и собаку тоже увидит – еще живую, по-прежнему смелую на заявленный утром проступок.
Он даже встал за многолетний ствол дерева, спрятавшись будто, но Ла-пуля маякнула хвостом, поднятым от счастья встречи с главным хозяином, и в общем-то без толку было скрываться. В какой-то миг решил начальник, что не станет больше теряться, а завтра же позвонит беспокойной женщине и объяснит, что помимо собачьего лая есть иные шумовые раздражители: проезжая часть, например, граничащая с домом, вечно бодрые прохожие, канализационный гул, в конце концов.
Ла-пуля поднялась на задние лапы и едва охватила начальника, высунув тяжелый мясистый язык. «Молодец, молодец», – повторял тот, и собака старалась изо всех сил доказать, что действительно молодец, полагая, будто любовь и преданность – единственное, что требуется в ее дворовой жизни.
Скажи ей прямо тогда – не нужно скулить по ночам, что в срочном и обязательном порядке необходимо прекратить бесстыдные гавканья, может, и поняла бы, и прекратила, и не пришлось бы идти на крайние меры.
Но при всей невозможной любви к дворняге, тощей и косой, с торчащими в разные стороны огромными ушами, не верил начальник в силу слова, точнее, не мог подумать, что Ла-пуля поняла бы его просьбу.
Он похлопал ее по загривку, кивнул на прощание и пошел прочь, стараясь не оборачиваться, так, будто видел псину в последний раз, словно бросал ее на произвол беспощадной уличной судьбы, и потому шел так быстро, что встречный ветер вдруг поменял направление и буквально втолкнул его обратно в здание.
Уходя домой, как всегда, зашел в дежурную часть, чтобы расписаться в журнале, дать ночные указания, проверить расстановку и выдать понятное: «Если что, на телефоне». Не поднимая глаз, уткнувшись куда-то в окантовку старого дощатого пола, он добавил:
– От нашей собаки нужно избавиться. До утра.
Дежурный равнодушно кивнул, понимая, что спорить бесполезно, да, в общем-то, не собирался тот вступать на защиту Ла-пули, выдав односложное: «Есть. Принял».
До прочного гула крепнул уверенный дождь. Громыхало и тряслось. Мятой фольгой сверкало небо, и казалось полковнику, что вслед за грозовым криком, надрываясь, скулит собака.
Он долго не спал, ворочаясь и сжимаясь, прячась в одеяле, путаясь в простыни. Завывала улица прощальной собачьей бесилой.
Потом все-таки заснул и пролежал, не двигаясь, до злого будильника. Ему снились армейские казармы с расставленными в ряд шконками. Синева изношенных покрывал растекалась по койкам. Черные полоски у основания таращились сквозь ночь. Потянул рывком, и вот она, долгожданная белизна простыни. И, словно прыгнув со второго духанского яруса по команде «подъем», проснулся, вступив в новый служебный день.
Он всегда рано вставал – раньше, чем нужно, по крайней мере, можно было позволить и неспешный подъем, и вполне вальяжную прогулку по району до отдела. Но каждый раз полковник мчался на службу, представляя, что без него налаженный механизм обязательно даст сбой, рухнув незаслуженно в пропасть матушки-земли.
Сегодня же, несмотря на привычное утро, плелся он нехотя, почти считая шаги, контролируя дыхание. Раз и два, раз-два. То и дело озирался по сторонам, заглядывал в подворотни, бросал взгляд на мусорные контейнеры, пытаясь среди беспризорных дворняг разглядеть обиженную Ла-пулю.
Но Ла-пули нигде не было. Тогда полковник решил, что собака, скорее всего, теперь никогда не выйдет к нему, заприметив даже из какой-нибудь дали, и все будет правильно.
Уже на крыльце отдела услышал он угрюмый лай, но обернуться не успел, определил, что Ла-пуля скулит иначе, а когда обернулся все-таки – убедился: и впрямь промчалась чужая, и захотелось унестись куда-то прочь вместе с этой свободной псиной.
Потом стало заметно тише. А когда зашел в отдел, тяга суеты победила, и поверилось в неизменность всего былого.
Она кричала так, как никогда бы не смог ни полковник, ни генерал, ни любой представитель начальствующего состава. Она грозила уничтожить всех и каждого, добраться до самых высоких звезд и победить. Она сама скулила, как эта Ла-пуля, с которой пришлось расстаться, а следовало бы любым способом проститься с ней – активной гражданкой, не знающей границ и правил мирного сосуществования.


